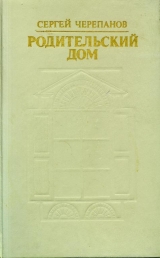
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц)
2
В ночь на 4 августа 1928 года над селом Малый Брод пронеслась гроза. А днем, когда сильно парило, сосед секретаря сельской партийной ячейки Павла Гурлева маломощный середняк Никифор Шишкин начал дележ с женой. Прожил мужик женатым почти двадцать лет, никогда со своей Степанидой не ссорился, жил примерно и вдруг, на удивление селу, подал на развод. Районный судья Кривоногов разбирался с ними долго, советовал помириться, но, обиженная поведением мужа, Степанида не стала его прощать. Обвинял ее Никифор в измене. Даже поколотил немного. Кто-то солгал, будто в те ночи, когда муж оставался ночевать в поле, пускала Степанида к себе молодого любовника. Кто же этот любовник, Никифор доискаться не мог, а вдобавок подтрунил над ним Согрин: дескать, от слабого мужа любая баба станет поглядывать на сторону. На суде Гурлев выступал и тоже пытался помирить соседей. «Кому ты веришь-то? – спрашивал он Никифора. – Чуждому нам человеку! Ведь если добраться до сути, то никто иной, а только сам же Согрин плюнул вам в души». Между тем против Согрина никаких доказательств ни у кого не нашлось. Мужики и бабы, сидевшие в зале клуба, где судился Никифор, между собой пошушукались, а никто голоса не подал. Многие из них ходили к Согрину на поклон: были у него маслобойня, молотилка, и нередко давал он взаймы деньги на определенный срок.
Детей у Шишкиных не было, и по приговору суда при расторжении брака полагалось поделить все имущество пополам. Но тут опять как-то вмешался Согрин, подстрекнул Степаниду не уступать мужу ничего, а коль сказано делить поровну, то, значит, так и делить: все движимое и недвижимое. Никифор тоже взъярился, и началось невиданное в селе сокрушение обжитого, годами выстраданного, политого тяжким потом хозяйства. Как на представление, сбежались к двору Шишкиных мужики, бабы, парни, девки, а парнишки облепили плетни и заборы, улюлюкали, визжали, так занятна казалась им разыгравшаяся в семье драма. Никифор распилил пополам телегу, разрубил на две половинки хомут и всю конскую сбрую, кур и гусей разогнал на два табунка, а Степанида вытаскивала из избы во двор одежду и обувь, бросала на чурбак и рубила пополам мужнины брюки, исподнее белье, рубахи, свои юбки и сарафаны. Публика ахала при каждом взмахе топора, а стоявший тут же в толпе Согрин, пряча усмешку, поддакивал:
– Вот это полное равноправие!
Не осталось бы у Шишкиных ни кола, ни двора, если бы не успели к этому времени вернуться из поездки в Калмацкое Павел Иванович Гурлев и председатель сельсовета Федот Бабкин.
Резко осадил коня Гурлев у двора Шишкиных, зычно заорал на Никифора, уже начавшего ломать крышу избы.
– Сто-ой, зараза в бок твоей матери!
Это было самое страшное ругательство, которое применял он, и Никифор оторопело опустил лом.
– Слазь оттуда, дурная башка! – приказал более спокойный Федот. – Довольно самоуправничать! Почему не позвали судисполнителя? Вот я вас за такой дележ, тебя и Степаниду, закрою на пару деньков в каталажку, там скорее охолонете!
– Ты мне не указывай, – огрызнулся Никифор. – Я наживал, и никто не волен запретить!
Между тем лом бросил, стал слезать по лестнице вниз.
А Согрин отступил от ворот двора, замешался в толпе зевак и ускользнул бы, да Степанида вдруг истово заголосила, сорвала с головы платок, кинулась лицом в кучу тряпья.
– Позор-то какой, господи!
Ее тяжкое горе заставило мужиков встать стенкой, перегородить отступление Согрину, чтобы он встретился лицом к лицу с Гурлевым.
Приземист и коренаст, тяжел на руку был Согрин, а Гурлев на голову выше, широк в кости, с чуть покатыми плечами. Доведись бы схватиться им, столкнуться грудь в грудь, так и земля зашаталась бы. Но еще не доспел тот день.
– Не тебя ли проклинает Степанида, Согрин? – спросил Гурлев, багровея. – Зачем ты здесь? Чего тут потерял? Чужую беду, как из колодца водичку, черпаешь?
– Шел мимо, остановился, – мирно ответил тот, кинув опасливо взгляд на лицо Гурлева. – Зря ко мне не вяжись, Павел Иваныч.
К вечеру, когда Шишкины помирились, дневная испарина уступила резкой прохладе, потянувшей из-за озера, со стороны гор. Большое вечернее солнце закатилось за черную тучу, без зари, будто провалилось в омут и сразу погасло.
Туча широко расползлась по небу, а вскоре разразилась над Малым Бродом большой грозой. Не выдержав напора тугого ветра, сломалась и, выворотив корни, грохнулась на гряды вековая осина в огороде Прокопия Согрина. С избы Михайлы Суркова срезало крышу, кинув ее на поляну перед двором. Повыбивало окна в домах, где хозяева не догадались закрыть ставни. В гумнах разметало стога старой соломы. А вода вешним половодьем пенилась и бурлила по канавам и овражкам.
После грозы остался над селом сумеречный туман, морошливый, тоскливый, как остывший пар в промозглом предбаннике.
Изба Павла Гурлева, крытая дерном, промокла насквозь. По беленому потолку растекались большие талые разводья, частые капли шлепались на пол, на столешницу, на скамейку у стен. Половики, недавно сотканные Ульяной и впервые настланные ради прошедшего накануне ильина дня, от обильной влаги утратили нарядный вид. Из-за них и принялась Ульяна реветь, затем припомнила мужу, что крыша давно не перекрыта свежим дерном, на чердаке куры поразгребали насыпь, и, наконец, опять растревожила свою давнюю боль.
– Не зря же люди-то бают про таких, как ты: чужую беду к сердцу приму, а свою погожу! – гневно выговорила она Гурлеву. – Тебе чужие дороже, чем свой двор и хозяйство!
– Для меня чужих нет никого, окромя кулаков, – стараясь не растравлять жену, сказал он. – Давай-ко, не начинай навивать!
– Правду слышать не хочешь?
– Твоя правда несправедливая! Не попрекай меня тем, к чему моя душа не лежит.
– Так зачем живешь со мной? Спать да жрать! А больше тебя ничто не касается! Это я, дура, сама виновата: навязала на себя такое горе-несчастье! Молодость загубила! Думала ведь, ты хороший хозяин, стану за тобой как за крепкой стеной, а теперь вот колочуся одна, гну горб, вылезти из нужды не могу. Кто же ты мне: муж или постоялец?
Сознание, что муж – не муж, а приживальщик какой-то, было для нее самым горьким. Гурлев уже много раз пытался убедить ее, что она неправа, жить надо совсем не так, как жили, сами для себя, а просторнее и шире, просветлять ум, очищать душу, то есть чисто и честно жить для великого добра в мире.
Ульяна всегда сопровождала ответы ссорой, ни сердцем, ни умом не воспринимая ни одной его мысли и ничего не желая из того, к чему он сам так страстно стремился.
– Глухая ты баба, Уля! Черствая. Хоть самую малость подумала бы о моей главной линии жизни: я всем богатства хочу, всем удовольствия! А ты куда меня гнешь? Чем ругать-то, пошла бы со мной вместе…
– Для чего? Подолом пыль за тобой подметать!
Короткий мир между ними снова нарушился. Ульяна не скоро приходила в себя. Каждый раз успокаивалась она лишь в одиночестве. И сам Гурлев находил утешение только порознь с ней. На людях.
Он обул сапоги, кинул на плечи старый пиджак и вышел со двора.
Сумерки сгущались. Черная заволока сыпалась с ненастного неба. Тускнели, расплываясь во мраке, очертания колодезных журавлей, изб и надворных построек.
Свернув в переулок, где грязи и воды было меньше, Гурлев вдруг отшатнулся и зажмурился от ослепительной вспышки. То шаровая молния, вынырнувшая из тучи, ударила в купол церкви и там взорвалась, разодрав кровельное железо. Купол сразу же охватило пламенем. Огненные языки, обвиваясь вокруг креста, озарили округу багровым светом.
– Еще этакого чуда нам не хватало! – обозлился Гурлев. – На подмогу кулачеству и боженька лезет..
3
В ту же ночь, за болотами и буграми выгона, в ближнем лесу Межевой дубравы, завыла волчица. Днем, до грозы, она отлучалась из логова, а Барышев обнаружил его и уничтожил волчат. Волчица нашла следы. Они привели ее сначала к полевой избушке, потом к стогу сена, укрывшись в котором, Барышев пережидал ливень и сумерки. Отсюда она уже не выпускала его из виду и тоже долго стояла в кустарнике, слушая тревожный шум в селе, смотрела издали на пылающую колокольню и страдала от жажды мести.
Не с добром возвращался в свое село Павел Барышев. Сторонился больших дорог, избегал людей. Оборванный, голодный, измученный дальним путем, в целости и сохранности донес он сюда только ненависть.
Стоя у плетня выгона, за которым окутанные мглой лежали гумны, огороды и дворы сельчан, он еще размышлял: нужно ли пробираться дальше? Не переждать ли, пока село совсем успокоится? Уж каким отчаянным и рисковым он был, а все же страшился.
Внезапный вой волчицы и ее горящие зелеными огоньками глаза заставили его перемахнуть через плетень и забыть осторожность.
Не переставая, бежал он, пока миновал пустыри и переулки, все время чувствуя за собой зверя. Дальше у него сил не хватило. Перемогая приступ кашля, спрятался в чью-то баню, захлопнул за собой дверь и упал на полок.
Под утро во дворах начался петушиный переклик. Из бани Барышев вышел на берег озера и отсюда, с задворок Первой улицы, стал искать двор Прокопия Согрина, единственного хозяина в Малом Броде, который мог его приютить. Жизнь за прошедшие годы не стояла на месте. Кто-то перестроил свои конюшни, у кого-то повырастали в огородах березы и тополя. Поколебавшись, Барышев выбрал двор под железной крышей, широкий, просторный, и, таясь, пробрался к задним воротам. Тут еще раз осмотрелся. Больше его ничто не встревожило, хотя показалось странным, что в загоне для скота было пусто. Только одна корова лежала под навесом, пережевывая жвачку. Но на это он внимания не обратил и, приоткрыв ворота, проскользнул к завозне, затем к дверям кладовой, оттуда к крыльцу. А здесь вдруг замер на месте: на крыльце сидел какой-то старик…
То деду Савелу Половнину не спалось, не лежалось после пожара. Он хотел честно и справедливо решить свои взаимоотношения с господом богом, не сумевшим оберечь и защитить церковь. Множество сомнений бродило в голове деда, когда перед ним нежданно-негаданно встала фигура обтрепанного, обросшего бородой незнакомого мужика.
– Кто ты таков? – приподымаясь, спросил дед Савел. – Зачем явился?
– Не боись, старик! – в растерянности пробормотал Барышев.
– Не здешний вроде… Личность твоя незнакомая.
– Прохожий я, – сообразил Барышев. – Издалека иду. Попроситься ночевать не успел, ненастье в лесу застало. А проголодался шибко. Вот и надумал…
– У меня поживиться нечем!
– Может, закурить найдется?
Савел откинул полу шубенки, которой укрывался от сырости, и сунул руку в карман штанов. Барышев быстро наклонился, схватил погодившийся у крыльца кирпич.
– Да ты не стой, – сказал дед и указал на ступеньку. – Садись. Покуда покуришь, про жизню свою расскажи. А на дальнейшую путь я калачик хлеба тебе найду.
Барышев шагнул к крыльцу, левой рукой принял протянутый ему кисет с табаком, а правой со всего размаху ударил старика по голове.
Удар пришелся в лоб над бровью. Половнин охнул, но неожиданно быстро схватил Барышева за глотку и повалился на него всем своим могучим телом.
– А-а, варнак!..
Падая, Барышев ударился затылком о каменную плиту. Прямо перед его глазами навесилось большое, носатое лицо Савела, а огромные пальцы все туже и туже зажимали горло.
– Пусти… за ради Христа… придушишь ведь, – прохрипел Барышев.
Половнин ослабил руки, но подняться ему не позволил:
– Ах, бродяга! Лежи смирно, не то вдарю! Зашибу в один дых! Да повернись со спины, ляжь брюхом вниз, пока поганые твои руки кушаком свяжу. В сельсовет отведу, там повинишься, коли не хотел добром уходить…
Прижимая его коленями, дед начал снимать с пояса тканый кушак, но та черная судьба, которую уже не раз клял и чертыхал Барышев, сделала ему большую уступку.
В загоне замычала корова. Затем взревела. Послышался волчий рык. Половнин кинулся выручать свою единственную кормилицу…
Барышев больше не таился, убегая из злосчастного двора. Тут, на Первой улице, он узнал, наконец, просторный дом Согрина и, прильнув к окну горницы, постучал в стекло пальцем.
Прокопий Екимович встретил его неприветливо и сразу увел в маслобойню, подальше от домочадцев.
– Ай, ай! – проговорил он, вздувая лампу. – Не ко времени тебя принесло, Павел Афанасьич! Ночь сегодня тревожная выдалась. Церква горела. И на себя ты по обличью стал не похож. Кабы не узнал я твой голос, так и не впустил бы к себе. Был молодой, бравый. И куда все с тебя подевалось?
Измазанный грязью, мокрый, с вытянувшимся и заостренным носом, со скулами, обтянутыми морщинистой кожей, с лихорадочным блеском глаз, глубоко запавших, этот гость вызывал отвращение у сытого, обиходливого Согрина.
– Ты сначала пожрать дай, – устало попросил Барышев. – И спрячь меня понадежнее. Шумок небольшой получился. В темноте заплутался я…
– То исть, как заплутался?
– В чужой двор забрел.
Согрин обругал гостя дураком и растяпой.
– Ничему, видно, не научила тебя бродячая жизнь, Павел Афанасьич! Половнина в молодости оглоблями не могли захлестать, и сейчас сила у него свыше лошадиной. Так куда ж ты на него с кирпичом-то?
– Побоялся: если узнал он меня, то выдаст!
– Вряд ли узнал, – обдумав, решил Согрин. – Ничего от тебя не осталось от прежнего! С того света пришелец…
– Насмехаешься, что ли, Прокопий Екимыч? – злобно спросил Барышев.
– Так, баю шутя. Худо, наверно, жилось?
– Не с чего было хорошо жить. Дай же пожрать!
Согрин сходил в чулан и принес крынку молока, калач, чашку сметаны, потом кинул ношенную батраком одежду.
– Значит, поднял ты шумок, Павел Афанасьич, и оставаться тебе здесь нельзя. Давай, поешь, попей, переоденься в сухое и отправляйся с богом…
– Куда?
– Схоронись покуда. Только не в Малом Броде. Половнин, конечно, поутру побежит в сельсовет заявлять на тебя. Искать станут. Ты не иголка, в сено не спрячешь. Какая-нибудь собака нанюхает, донесет, и всему делу конец.
– Хоть бы сутки передохнуть!
– Нельзя. Часу нельзя. Эвон уж вторые петухи пропели, скоро утро настанет.
– Гонишь?
– Нет. Хочу поступить разумно.
Добыв из кожаного бумажника сто рублей, Согрин предупредил:
– Это на первую пору. Недели две-три проживешь. Поправишься. Ступай пока в город. Там народу много, скорей затеряешься. А мне потом письмецо пришли по прежнему адресу, в Калмацкое, к Зинаиде. И не смей своевольничать.
Барышеву такой тон не понравился:
– Вдруг ослушаюсь? Здесь останусь?
– Тогда пеняй на себя…
– Сничтожишь?
– Немедля! Ради твоей личности делом не попущусь! Не становись мне, Павел Афанасьич, поперек путя! У меня руки далеко достают…
Барышев согнулся, как отчаявшаяся собака, взятая на железную цепь.
– Только за этим ты звал меня?
– Это я лишь напомнил. Не забывай, кто ты есть! У тебя выбору нету: если не станешь служить мне, то примешь жестокий конец! Либо я порешу, либо советская власть тебя расстреляет. А умирать-то охота ли?
– Подыхать никому не охота, Прокопий Екимыч, – сказал Барышев. – И все же не за тем я согласился вернуться. Горит душа!
– Пусть горит, но дотла не сгорает, – не меняя хозяйского тона, предупредил Согрин. – Тем будет слаще любое дело, кое тебе поручу.
– А много ли вас?
– С кем будет нужно, тебя сведу. Ведь не на всякого, хотя бы на свата и на родного брата, можно с уверенностью положиться. Чуть пришпорит их – продадут! За-ради собственной шкуры.
– А я-то полагал: вас здесь сила! – разочарованно выдохнул Барышев.
– Большой силы уже нигде не набрать, время сработало супротив нас. Не к чему ублажать себя сказками. В кустанайских степях наши пытались подняться. И чего же добились? Ровно, как муха быка укусила. Нет, Павел Афанасьич, теперь надо входить в настоящее рассуждение и сознавать, на что ты возможен.
– Мелочи предлагаешь, Прокопий Екимыч?
– Это уж как сказать!
– И, значит, велишь уйти?
– Уйди! Скоро хлеба поспеют, начнется жатва. Тогда позову. Но еще раз надпоминаю: не своевольничай!
– Ладно уж! – вяло отозвался Барышев. – Не сумлевайся. Только про бабу-то мою расскажи. Из твоего письма я мало что понял. Как она тут?
– Ничего твоей бабе не сделалось, – сказал Согрин. – Любовничает с другим мужиком…
Барышев рванул ворот рубахи.
– Убью!
– Спробуй посмей! – стукнул кулаком Согрин. – Твоя баба гроша не стоит перед тем, какие ущемления и порухи доставляют партейцы! Вот ты попросту бандит…
Барышев при этом слове вздрогнул, скрипнул зубами, и Согрин более мягко добавил:
– Бандит в том смысле, куда привела тебя дорога с Колчаком. И не бывать тебе сейчас в миру, отрезал ты в него для себя все путя. Но что же теряешь ты? Самого себя, да бабу и немудрящее хозяйство. А у нашего сословия из-под ног выбивают все основание, на чем мы держались. Спокон века жили тут наши деды и прадеды, имели власть и доходы, а теперич стали мы как болячки на теле. Но поправить положение нельзя. Я читаю газеты, слежу, о чем они пишут, и выходит так: наступает нашему сословию полный конец! Так что же, принять его безропотно или же по мере возможности отквитаться?
Согрин на минуту замолк, осмотрел Барышева, угрюмо ковырявшего вилкой столешницу, и обдумал, не говорит ли ему лишнего.
– Одичал ты, Павел Афанасьич, по тайге-то шатаясь!
– Прогадал я, должно быть! – Барышев передернул плечами и бросил вилку. – Зазря вышел оттуда. Кабы знатье, что на мелочи хочешь разменивать…
– Не торопись! – перебил Согрин. – Ну остался бы и, как гнилой обабок, загнулся там на корню. А то, что жизнь твоя ничуть не удалася и стал ты бродягой (за это слово прости, иначе назвать невозможно), что нету у тебя родного угла, ни хозяйства, что с бабой на твоей же перине спит твой враг, неужели все это можешь простить?
Пробудил зверя в Барышеве: у того от бешенства зажглись зрачки во впадинах под бровями.
– Или трусом стал? – еще подхлестнул Согрин. – Если боязно, ступай обратно, я не задерживаю. А мы справимся без тебя!
– Ты дело говори, – потребовал Барышев.
– Хорошо, поясню, как могу. Значит, пушек у нас нету, войска тоже не наберем, зато есть наша сила в хлебе. Он, хлеб-то, всему голова. Не пожравши, человек отощает, а тощий – плохой работник. Вот и выходит, каждый пуд зерна, который я не дам нынешней власти, сгною в земле, не то сожгу, – это мой выстрел в самое живое место. Нынешним летом партейцы проводили летние заготовки. По крохам хлеб собирали: с кого двадцать фунтов, с кого пуд. Ночь-ноченски торчали в Совете. И нас там держали почти безвыходно. Приперла, стало быть, советскую власть нужда. Коли так, нужду эту надо, как прореху, дальше рвать.
Он снова помолчал, обдумывая и решая, не наговорить бы лишнего.
– О том, что ты одичал в тайге, Павел Афанасьич, я сказал не с желанием оскорбить тебя, а надобно усвоить дальнейшую линию. Отошло ведь времячко, когда саблями махали. Станешь себя наяву выказывать – в одночасье пропадешь! А какой с того толк, самому-то в петлю лезть? Не хочешь смириться, идти власти на поклон, становиться к стенке или в тюрьме глохнуть – действуй скрытно! Я так полагаю: нас в государстве тысячи, и если каждый не даст власти хотя бы один пуд зерна, и то наберутся тысячи пудов, а если сумеет кого-то ввести в сумление, опять же тысячи супротивников зашатаются. Столб, врытый в землю, червь точит помалу. И в темноте. Ясно?
– Да уж куда яснее, – согласился Барышев.
– Потому я советую: не кидайся на стенку – лоб расшибешь! А с бабой своей еще успеешь расправиться!
Через час, пока не рассеялся мрак, Согрин вывез Барышева в Межевую дубраву и верстах в шести от села высадил с телеги.
Перекинув котомку с припасом через плечо, тот углубился сразу в бездорожье, в березовые леса, напрямик к городу.
Согрин огорченно покачал головой. Как такому довериться? Барышев действительно выглядел натуральным бродягой, до крайности опустившимся, и не внушал никаких надежд.
Но ничего лучшего не было.
– Вот так-то, Гурлев! – вполголоса молвил он, поворачивая подводу обратно в село. – Через Барышева с тобой рассчитаемся…
4
В те же августовские дни, перед жатвой, Федор Чекан собрался на постоянную работу в деревню. В путевке, которую он получил в окружном комитете партии, было указано: «Направляется в распоряжение Калмацкого райкома для использования на культурно-просветительном фронте». Накануне отъезда Федор попрощался с Лидой Васильевой. Любовь у них была недавняя, еще не окрепшая, не проверенная временем, но ему казалось, что кроме Лиды он никогда и никого не полюбит, что она единственная, с которой может соединить свою жизнь. Лида тоже говорила, будто он для нее очень дорог, а поехать вместе с ним отказалась.
– Зачем? Я горожанка. Деревня меня ничем не прельщает. И у тебя в жизни не это самое главное. Ты вскоре можешь стать машинистом, потом выдвинуться на какую-нибудь руководящую должность…
– А если не на руководящую? – усмехнулся Федор.
– Не навечно же останешься на паровозе, – пожала плечиками Лида. – Всякий мужчина прежде всего должен подумать о своей семье, как ее обеспечить…
– Подумать я могу и в деревне.
– Ты что же, требуешь от меня жертвы? – расстроенно спросила Лида. – Сегодня собрался в село, завтра тебя пошлют куда-нибудь на Северный полюс, к белым медведям, и я обязана буду за тобой всюду ездить…
Она была единственной дочерью главного кондуктора Захара Власовича, человека, уважаемого на производстве, но слабого в семье, где все существовало «только для Лидочки».
– Ты будешь работать, – не очень уверенно попытался убедить ее Федор.
– Я! Работать!.. Так зачем мне муж?
И Федор сказал:
– Ну, что же, моя белокурая, синеглазая. Покуда прощай! Не знаю, можно ли измерить, что в жизни важнее: любовь или долг? Для меня важно то и другое! И ты на досуге реши: или на весь наш век вместе или врозь навсегда!
До села Калмацкого ему удалось доехать на попутной подводе.
День клонился к вечеру. Солнце уже стояло низко над домами, поливая окна желтоватым меркнущим светом. Райком партии находился в центре села, на берегу прорезавшей площадь тихой, под тополями, речки. Дом бывший купеческий, с резными карнизами и с магазином на первом этаже, с парадным крыльцом, откуда на второй этаж вела крутая лестница. Прочитав вывеску, Федор поднялся наверх и сразу же из коридора увидел кабинет секретаря райкома Антропова. Дверь была раскрыта настежь, а сам Антропов сидел за столом, склонив над бумагами массивную золотисто-рыжую голову. Поставив сундучок у входа, Федор причесал взмокшие под кепкой волосы, поправил на себе гимнастерку и постучал об косяк согнутым пальцем.
– Входи, я один тут, – чуть зевнув и прикрывая рот ладонью, сказал Антропов. – Из города, что ли, прибыл?
– По путевке, – подтвердил Чекан. – В ваше распоряжение…
– Ну, садись, – кивнул Антропов на стул у стола. – Будь, как дома!
«Экий здоровущий, – с удовольствием отметил Федор. – И все лицо и руки в веснушках. Из деревенских мужиков, наверно». Простая ситцевая рубаха на груди Антропова была расстегнута, рукава по локоть засучены, а во взгляде больших серых глаз под широкими и тоже очень рыжими бровями наряду с любопытством сквозило что-то спокойное, умиротворенное окружающей тишиной. «Наверняка, местный человек, – уже увереннее подумал Федор. – Найдем ли общий язык?» Но Антропов уже успел по-своему оценить приезжего. Внешний вид Чекана ему понравился. Не слабак. Не баловень. Плечист и на ногах стоит крепко. Одет по-современному, в комсомольскую форму «юнгштурм»: защитная гимнастерка с открытым воротом, под ней белая рубашка, подпоясан широким ремнем, а на ногах брюки «галифе» и гетры с ботинками. И лицо у парня открытое, чисто побритое, без тени смущения. «Значит, бывалый парень, – решил про себя Антропов. – Приживется!» Только недоверчиво взглянул на зачесанные к затылку густые русые волосы Чекана и, приметив светлые, с ореховым оттенком глаза, недовольно подумал: «Не стал бы тут ловеласничать! К таким девки льнут!» Поэтому чуть построже спросил:
– В комсомоле давно?
– Да, и вместе с тем уже пятый год в партии.
– Ладно! – смягчился Антропов. – С образованием как?
– Средняя школа. Курсы помощников машинистов. Вечерняя совпартшкола. Ну, и самообразование. Хочу, если время и обстоятельства позволят, поступить в институт.
– В какой?
– В железнодорожный или в строительный.
– Почему так неопределенно? – уже совсем добро и мягко спросил Антропов. – На одной ладони сразу два арбуза не удержишь.
– То и другое нравится, – откровенно сказал Чекан.
Заметив на поясе у него кожаную кобуру с револьвером, Антропов неодобрительно прищурился:
– А пушку-то с себя сними, положи подальше, чтобы люди не видели. Время, конечно, сейчас суровое, нет-нет да и постреливает кулачье в деревнях в наш партактив, и потому без оружия для самообороны обойтись нельзя, но лучше держать его в кармане. Наше главное оружие – это слово, убеждение.
Чекан тотчас же снял кобуру с ремня.
– Теперь расскажи биографию, – предложил Антропов. – Окружком первого попавшегося к нам не послал бы, человек ты, видать, проверенный, однако и мне знать нужно.
Чекан улыбнулся.
– Биография у меня короткая и еще вся впереди.
– Уж что есть, то давай!
– Мне двадцать пять лет…
– Женат? – перебил Антропов.
– Еще не успел. Дед был кузнецом и отец кузнец. Меня тоже готовили в кузнецы. С шестнадцати лет я работал на заводе вместе с отцом, подручным. Но в двадцатом году послали с рабочим продотрядом на заготовки хлеба в деревнях, а когда через полгода вернулся, то в кузницу не пошел, поступил на работу в паровозное депо, был сначала учеником, потом стал кочегарить на паровозе, учился и последние два года ездил помощником машиниста.
– Начало хорошее, – одобрил Антропов. – И для деревни, значит, не новичок. Небось, когда продразверстку проводили, и в перестрелках приходилось участвовать?
– Всякое бывало. Двух моих товарищей бандиты убили, а меня миновало…
– Ну, а кроме кузнечного и паровозного дела, еще чем владеешь? На досуге чем можешь заняться?
– Умею играть на гармошке. Дробить «чечетку». Стихи умею читать. Участвовал в драмкружке.
– Пригодится, – довольно кивнул Антропов. – Все пригодится. А мне вот пришлось тут заново со многими делами знакомиться. Я ведь тоже с производства, с нязепетровского завода. И тоже кузнец. Уже третий год здесь. Понимаю теперь, как надо и в какие сроки пахать и сеять, когда сено косить, когда урожай убирать. А главная трудность все же не в этом, самое главное – постичь психологию, характер деревенского человека, уметь убеждать людей, распознавать, кто наш друг, кто недруг. И тебе овладения этой наукой не миновать.
– Понимаю, – согласился Чекан, – не в гости приехал.
– Именно, не в гости, – подчеркнул Антропов. – Обстановка сейчас в деревне сложная. Я бы даже сказал, сложнее, чем в начале двадцатых годов. Кулак тогда еще на что-то надеялся. А теперь подступило другое время, и кулачество знает об этом из газет, из решений нашей партии. Начинается решительный переход от политики ограничения и вытеснения кулачества к политике его полной ликвидации как класса. Поэтому классовая борьба обострилась. Мы повсеместно встречаем не только саботаж при заготовках хлеба, но участились пожары, нападения на партийный и советский актив. Враги действуют скрытно, тонко, темными ночами пользуются винтовочными обрезами и огнем, поймать их трудно. Кроме того, стараясь мстить нам, они нагоняют на деревенское население страх. А ведь страх, при той темноте и невежестве, еще здесь существующим, – большая сила. Все это ты учитывай…
– Так куда же вы направите меня? – спросил Чекан, заметив, что Антропов слишком уж обстоятельно объясняет ему обстановку. – На советскую или на партийную работу?
– Прислал тебя окружком на культурный фронт, значит, поедешь в село Малый Брод заведовать клубом и читальней. Избачом будешь называться. Зарплата всего тридцать рублей в месяц, а обязанностей не счесть. На месте увидишь, освоишься, разберешься. Однако придется тебе быть избачом не простым, такого мы и здесь нашли бы, а ты от рабочего класса избач, и работу станем требовать соответственную. Не возражаешь?
– Я приехал работать, – ответил Чекан.
Они пробыли в райкоме почти до сумерек, а к ночи на райисполкомовской паре коней выехали из Калмацкого по дороге на Малый Брод. Антропов спешил по каким-то своим надобностям в окраинные деревни района, и ему пришлось сделать крюк, чтобы доставить Чекана до места.








