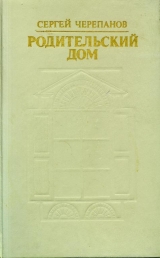
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 31 страниц)
– И все-таки это одна жизнь, – сказал Володька.
– У тебя пока что одна, а у меня пятая, – возразил Павел Иванович. – Не могу я их совместить, как ступеньки на лестнице. В каждой я что-то новое приобретал и в каждой терял. Когда был тут секретарем партячейки, потерял Кузьму Саверьяныча и свою первую жену Ульяну, но зато навек подружился с Федором Тимофеичем, с Дарьей и еще со множеством людей, в которых нуждался и которые нуждались во мне. В сознании тоже поднялся. Мне прежде казалось: дескать, любое дело, что поручает партия, можно напором и силой взять, а понадобилось приложиться к каждому человеку душой. Во время войны погибли наши первые партийцы – братья Томины, Белов и Бабкин, да не один десяток первых колхозников, а зато подросли их сыновья и дочери, о которых мне пришлось позаботиться. Не стану себя обелять, будто никогда жестокостью не страдал. Всякое бывало, особенно на первых порах. Но взять ее на свою совесть никак не могу. Никем не считано, сколько в боях моей рукой белоказаков порублено. С кулачеством дружбы не вел. Лодырей заставлял работать. А во время войны посмотрю иной раз, как женщина на корове пашню пашет – уж та и другая от голода и усталости почти что с ног валятся, и в душе у меня слезы, отчаяние, но кричу, ругаюсь, требую. Ведь если не требовать, то пропадем совсем. Необходимость заставляла проявлять ту жестокость, и мне за нее не стыдно. А вы по отношению к Зинке показали жестокость бессмысленную, вроде поиздевались над девкой…
– Пропадет она, – повторил Митька.
– Если пропадет, то не от растраты в магазине, а от того, что влюбилась, да взаимности не имеет, – засмеялся Павел Иванович.
Вскоре парни получили аттестаты зрелости, а до призыва в армию не захотели учиться дальше. Того и другого во время уборочной поставил Павел Иванович в помощники к комбайнерам; Зинка из упрямства или со стыда оставила магазин, один месяц побыла в доярках на молочной ферме, еще месяц в пекарне, но не нашла себя, не привилась и уехала в город. Было в ней что-то, чем она и отвращала Женьку Сорокина. Тот после армии в колхоз не вернулся, остался на сверхсрочной службе, зато Митька снова встал за штурвал комбайна, будто никогда себе иного дела не мыслил. С Володькой оказалось сложнее: этот целое лето колебался между профессиями сельского механизатора и строителя. Советовал ему Павел Иванович поступать в институт, не отставай-де от сыновей Федора Тимофеевича, однако не стал настаивать – по математике и русскому языку у Володьки были большие пробелы. Выбрал сын все-таки стройку. Тут в известной мере повлиял на него Чекан. Ездил Володька в город и остался у него ночевать. Вечером за ужином произошел разговор, как всегда случается между молодежью и видавшими виды: один спрашивает, сыплет вопрос за вопросом, а другой отвечает. Поинтересовался Володька: что могло заставить Федора Тимофеевича стать строителем?
– По рассказам моего отца, – добавил он, – вы в молодости были помощником машиниста паровоза. Что же изменилось у вас? Поступать на строительный было легче или же разонравился транспорт?
– Ни то ни другое, – охотно объяснил Федор Тимофеевич. – Я и сейчас еще люблю ковать, слесарить, заниматься машинами. Но тогда перед нами стояла проблема: где ты нужнее? Вот моя Агафья Васильевна вышла из батрачек. И деревня для нее все еще роднее, чем город. А кончила она рабфак, затем медицинский институт исключительно ради того, чтобы помогать людям в их страданиях и болезнях. У нее мать скончалась совсем еще молодой, тяжко мучилась, отца тоже болезни унесли. Так разве она могла не сочувствовать больным людям? Я тоже насмотрелся нужды, разрухи в городе и в деревне. Да и время такое подошло: много старого ломали, много нового строили. Архитектура все время стремится в будущее. Как ее за это не полюбить?
В тот же год Володька подал заявление в строительный техникум, кончил его, для практики поработал год на крупной промышленной стройке, а затем вернулся домой. Вовсе и не уговаривал его Павел Иванович, не доказывал: дескать, мы с матерью старимся, без тебя обойтись не сумеем, да и девчонки его покуда не привлекали, но загорелся парень желанием построить Малый Брод заново, чтобы старики доживали свой век в чистых, со всеми удобствами квартирах, молодежь не убегала бы отсюда куда-то на сторону, а наоборот, приезжала бы и поселялась здесь. Белый город – мечта самого Павла Ивановича. Но того же хотели и другие колхозники; у всех это была незаживающая болячка, что нет в селе постоянного кино, нет просторного места, где бы в свободную пору можно было повеселиться, а детишки не сидели бы у матерей на руках и не ютились в бывшем доме Прокопия Согрина, но воспитывались бы в настоящих яслях и садике. Теперь колхоз мог себе позволить многое. Каждый год от полеводства, животноводства и даже от ягодного сада оставалась большая прибыль. Кроме того, банк давал долгосрочную ссуду, а на покупку новых средств производства уже не требовалось больших затрат: тракторов, комбайнов, автомашин, механизации на молочно-товарной ферме вполне хватало. Да и генеральный план застройки Малого Брода был уже готов в черновых набросках; по уговору с Павлом Ивановичем его делал Чекан. Старая дружба с Федором Тимофеевичем держалась крепко, и Павла Ивановича радовало, что Володька относится к Чекану с доверием, с увлечением обсуждал с ним, как распланировать улицы, площади, какой вид должны иметь жилые и служебные здания. От себя Павел Иванович поставил только одно условие: сначала построить детский садик и ясли, потом водонапорную башню с артезианской скважиной, чтобы перестать возить в автоцистернах питьевую воду из Чайного озерка, а затем Дом культуры. Так и утвердили этот порядок на заседании правления, на общем собрании колхозников и во всех инстанциях сверху. Володьку назначили прорабом. Весной начали стройку. И Павел Иванович даже предположить не мог те неприятности, которые его подстерегали, затем совершенно неожиданно свалились на плечи. Иного, более равнодушного и слабого, они не взволновали бы, тот подчинился бы и перенес их, а Павел Иванович принял очень близко к сердцу и не мог не принять, так как положение оказалось трудное.
Началось с того, что не сложились у Гурлева добрые отношения с новым начальником районного сельхозуправления. До блеска ухоженной внешностью и холодным, высокомерным тоном при разговорах напоминал он Павлу Ивановичу бывшего заведующего райземотделом Мотовилова. Только тот разъезжал по селам и деревням на паре гнедых коней, а этот на легковой машине. Появится в колхозе на пару часов, толком на хозяйство не взглянет, никого до конца не дослушает. И все-то ему не нравится, все не так, как бы он видеть хотел. Плохо и очень плохо – иной оценки ни разу не сделал. И говорит медленно, раздельно, вежливо, как кнутом по лицу похлестывает. Между тем указания, которые он давал на ходу, не отличались ни знанием дела, ни глубиной понятий. Шелуха без зернышка. Слов много, а кинь их на решето и просей – ничего не останется. Бессменный член правления Михайло Сурков, услышав необыкновенную фамилию нового начальника – Зубарь, поздоровавшись с ним и не получив ответа, горестно качнул головой: «Не повезло нам, кажись! Не вышло бы худа, Павел Иваныч! Уж ты, коли что, крепись, не показывай характера!» Агроном Гаврил Иванович Добрынин навел справки в Калмацком и посмеялся: «Этот начальник больше года на одном кресле нигде не сидит. Фигура скользящая, без корешков. Надо полагать, райком его долго терпеть не станет!» Но именно потому, что не мог Павел Иванович отделить Зубаря от некогда жившего Мотовилова, с первой же встречи не мог ему подчиниться.
Еще летом, узнав, что Гурлев начал строить на полях крытые тока, Зубарь запретил:
– Это безобразие, Гурлев! Ни к чему! Уж не собираешься ли ты держать намолоченное зерно до зимы, не вывозить его сразу на элеватор в город? Кто тебе разрешил?
– Кто же, кроме колхозников? – постарался мирно объяснить Павел Иванович. – Они хозяева. А гноить свежее зерно под открытым небом нам не хочется. Ведь хорошую погоду на осень заказать невозможно…
– Чепуха!
Между тем не далее как в прошлом году сотни тонн вывезенного из-под комбайнов зерна и временно ссыпанного в поле на открытом току в бурты почти две недели мокли под осенним дождем. Пока их вывезли и сдали на элеватор, муки-то мученской сколько пришлось испытать: несколько раз перелопачивали эти горы зерна, чтобы оно не прело и не горело, да сушили, чтобы довести до кондиции. Много зерна втоптали в землю. Еще больше непригодного к сдаче перевели на корм для скота. Сплошные убытки! А этого не случилось бы на крытом току. Вот потому и не послушался Павел Иванович, отставил запрет Зубаря, а договорился в райкоме и этим летом устроил первый крытый ток за озером, как раз на том лугу, где Зубарь велел перепахать землю и засеять ее многолетней травой для культурного пастбища. Не во зло сделал, а так было выгоднее и удобнее. Место это в центре хлебных полей, земля же под лугом бросовая – орешник да глина, плодородный слой над ними как пленка, дикая трава растет еле-еле. Тот же разумный старик, Михайло Сурков, возражал Зубарю: «Нельзя там земельку-то трогать. Она, поди-ко, уже не одну сотню лет так лежит. Не кормилица. Попробуй вспаши ее, наруши черный покров, останется голой». Гаврил Добрынин, агроном очень толковый и удачливый, показывал даже результаты лабораторных анализов: «Не будут здесь расти многолетние травы!» Однако Зубарь своего указания не отменил, а когда узнал о построенном крытом токе, даже в лице изменился:
– Смотрю я на тебя, Гурлев, и думаю: пора тебе с коня слезать! Возраст уже пенсионный. На отдых надо!
Если бы сказано это было один на один, Павел Иванович сумел бы с ним объясниться, но тот воспользовался заседанием правления колхоза, где решался вопрос о кормах для скота. Никто из правленцев Зубаря не поддержал, зато сам Павел Иванович почувствовал вдруг себя состарившимся, изработанным и, может быть, уже неспособным заглядывать далеко вперед.
– Если бы хоть образование имел ты, Гурлев! – добавил Зубарь. – А без диплома руководить таким хозяйством уже нельзя. Так что давай-ка готовь заявление. Проводим с почетом!
Промолчал тогда Павел Иванович. Не хватило бы у него выдержки, поссорился бы. А что толку в пустой-то ссоре? Пришлось бы еще и в райком ехать, там разбираться. И не доказал бы ведь никому: возраст действительно такой, что пора «с коня слезать»; образование только от самой жизни полученное, в трудностях и невзгодах. Зато Володька вступился и довольно резко сказал Зубарю:
– Это еще пока неизвестно, кто первый из вас двоих с коня слезет.
Порадовал отца. После таких слов младшего Гурлева, казалось бы, опять все встало на свои прежние места, и не стоило обращать внимание на вежливые, но колкие намеки Зубаря, а все-таки горький, как полынь, осадок на душе остался. Да и сын, как прояснилось чуть позже, выступал только в защиту достоинства Гурлевых. Сам же показал по отношению к родителям черствость и неуступчивость, чего Павел Иванович от него не мог ожидать.
На этой неделе начался с ним явный разлад. Сидели на веранде вдвоем, мирно обедали. И день-то был ясный, без ветра, напоенный запахами отходящего лета. Из окна видно, как под угором плещется озеро. Вдали у кромки камышей, на тихой воде, бездымным огнем полыхает солнечный свет. В улице, неподалеку от дома Гурлевых, Ефим Шунайлов гоняет бульдозер по тракту, выравнивая полотно к началу уборочной. Из кузницы ремонтного цеха доносится стук молотков. А от старого клуба, с крыши, куда подвешен репродуктор, льется тихая музыка. И обед, поданный на стол Володькой, был недурен: зеленый борщ, жаркое с картошкой. Мать уехала в гости к замужней дочери в город, велела питаться в колхозной чайной, но сын сам взялся готовить обеды, и пока что выбрасывать их не пришлось. Вот этак все располагало к хорошему настроению, к сознанию не зря прожитой жизни. А подумал о ней Павел Иванович, когда взглянул на себя в зеркало на простенке веранды. Прежде брился и одевался перед ним по привычке – были бы аккуратно надеты рубашка и пиджак, да не порезать бы щеки, в этот же раз словно впервые себя увидел много лет спустя. Да, жизнь все же прожита! Чубатая голова уже вся побурела, на лбу морщины, а брови, прежде ровные, загнутые серпом, выцвели, стали короче, и концы у них, как ни приглаживай, загибаются кверху. Глаза тоже не прежние: помнится, серые были, по вечерам темные, а сейчас один цвет – белесый; значит, глаза седеют, как волосы. Время свое берет. Вот и тополь, что стоит тут в оградке возле крылечка, тоже когда-то был стройный, гибкий, кору имел яркую и пахучую, но с годами поднялся к небу, пораскинул крону вширь, над всем домом распялил множество лап, от корня отростки пустил, зато кора на нем стала темная, бугристая, в наростах и трещинах, будто его как веревку закручивали. Да и листья смолоду вырастали в ладонь шириной или с чайное блюдце, сейчас же до вершины мелкие и рано желтеют. «Неужели и у человека его мысли и желания мельчают, как листья у тополя? – с сожалением подумал Павел Иванович. – Или же, наоборот, это лишь сейчас приходит полная зрелость?»
Володька, очевидно, заметил, куда направлен взгляд отца.
– Тополь-то, батя, пора срубить на дрова!
– Чем он тебе помешал? – спросил Павел Иванович. – Мы ведь с ним почти что ровесники. Сажал его здесь учитель Кирьян Савватеич, а я памятью о нем дорожу.
– Все старое хорошо, пока оно себя не изжило, – сказал Володька. – Вот и церковь ломать не велишь!
– Да она еще сто лет простоит, не шелохнется. Здание не виновато в том, что служило религии. С тем же успехом оно может послужить и нам. Эвон в нем какие просторные залы. Чего хочешь можно устроить: музей, музыкальную школу для ребят, место молодежи для спорта. Чем заново траншеи копать и стены строить, так не выгоднее ли снять с церкви купола, крышу поправить.
– И все равно это старье, – упрямо ответил Володька. – Даже Федор Тимофеевич говорит, что здание церкви никак не вписывается в генеральный план застройки села.
– Впишет, если захочет, – не менее упрямо сказал Павел Иванович. – Мы с ним тоже стариться начали, так, выходит, и нас на слом? Такое может желать Зубарь, он босиком по земле-то, наверно, не хаживал, но не ты, младший Гурлев.
– Почему же не я? – усмехнулся Володька. – Отставить старое – еще не значит его унизить. Зубарь унизил бы тебя с удовольствием, ты с ним характером не сойдешься, так не надо этого допускать.
– Советуешь писать заявление и добровольно «слезать с коня»? – встревожился Павел Иванович. – Начальнику управления я не в масть, но тебя не пойму.
– Чего проще! – опять усмехнулся Володька. – Не дожидайся, когда начнут подталкивать в спину.
– Разве кто-то назначал срок, до каких пор мне можно работать?
– Само время потребует. Ты свое выполнил…
– Нужду пережил, людей, как умел, поднял, а дальше вроде бы меня уже ничего не касается. Дескать, живите, как хотите, а я на лежанку пошел, бока себе протирать. Нет, не вправе я так поступать ни перед людьми, ни перед самим собой. Дошагал до нынешней жизни, так дайте же мне и порадоваться на нее, досыта пожить в ней и сполна отслужить должность человека. Иначе куда же силу девать?
Наклонившись, Павел Иванович взял валявшийся на полу железный пруток, скрутил его и завязал узлом.
– Вот еще сколько силы в руках, а в душе и того больше.
– Попросись заведовать молочной фермой, – посоветовал Володька. – Добрынин поведет дело не хуже тебя.
– Дед Иван Добрынин всегда хвалился: «У моего Гаврилки рука шибко фартовая». И верно, получился из Гаврила Иваныча знающий агроном, – согласился Гурлев. – Но пусть еще подождет. Я не стулом дорожу, не званием председателя, а хочу желание свое довести до конца. Построй поскорее Белый Городок на месте Малого Брода, вот тогда и «с коня слезу».
– А может, не белый? – шутливо спросил Володька. – Может, из красного кирпича и цветных панелей? И не городок вовсе, а как в стихе: «Мы, рать солнценосцев, на пупе земном воздвигнем стобашенный пламенный дом!»
– Во, как раз этого я и хочу, – одобрил Павел Иванович. – Не ручаюсь, стоит ли наш Малый Брод на самом пупе земли, но без хлеба ни сталь не сваришь, никакой машины не выпустишь. Стало быть, хлеборобу чести положено не меньше, чем металлургу.
– У тебя честь никто не отнимет, если ты ее сам не нарушишь, – вернулся к прежнему разговору Володька. – Поневоле-то, батя, уходить будет совестно!
– Жестокие ты слова говоришь, сын! – мрачнея, ответил Павел Иванович. – Не этому я тебя обучал!
– Как же не этому! А кто нам за Зинку Юдину выговаривал? Не твое ли это понятие: есть жестокость вынужденная! Теперь мы ее имеем как неоспоримый факт. Быть тебе дальше у руководства или не быть – это не Зубарь решит, но подтолкнуть он к этому может. Надарят подарков, в речах отметят заслуги, поднесут красивые адреса, а ведь все равно станешь ты себя чувствовать отстраненным от дел. Разумнее, по-моему, вовремя уйти самому. Найдешь чем заняться. Например, чем плохо – внуков воспитывать…
– Женись сначала, – серьезно сказал Павел Иванович. – Хватит холостяком по ночам шататься.
– Я это быстренько проверну, – весело ответил Володька.
Он встал из-за стола убрать и вымыть грязную посуду, затем на ходу, посвистывая и играя тарелками, будто ушат холодной воды опрокинул на Павла Ивановича:
– Ты не станешь возражать, батя, если я отсюда, с веранды, обеденный стол уберу на кухню, а поставлю тут свою кровать и до холодов поселюсь с женой?
– Не понимаю! – озадаченно посмотрел на него Гурлев. – Я думал, ты насчет внуков-то шутишь…
– Женюсь, батя! Женюсь! – подчеркнуто весело присвистнул Володька. – Нагулялся. Берусь за ум!
– Уж не на Татьяне ли Согриной? – неожиданно упавшим голосом спросил Павел Иванович. – Всегда возле нее увиваешься! Девка она не бросовая, даже вполне толковая, но ни тебе, ни Митьке не пара! – сурово и почти категорически добавил он. – Нельзя вам на ней жениться…
– Дед Прокопий Согрин встал на пути?
– Именно!
– А мы его возьмем под ручки и с пути уберем! Что у вас с ним было в прошлом, сами разберитесь, без нас! – И решительно, по-гурлевски, отрубил: – Я люблю Татьяну, она меня тоже любит. Значит, вопрос исчерпан!
– Далеко не исчерпан, – сдерживаясь от раздражения, возразил Павел Иванович. – Для нас с матерью Татьяна будет чужая. А если мы ее не станем любить, как родную дочь, то и она нам ответит тем же. Представь-ка себя на моем месте. Задача ведь не в том, что Согрин наш бывший классовый враг. Теперь это все в прошлом. Но мы, как люди, с ним не сходились и не сойдемся. Разные у нас цели для жизни. Да ведь и памятью Кузьмы Саверьяныча я не могу попуститься. За прошедшие годы уж сто раз, наверно, обдумывал, как и в чью западню он попал, и всегда на Согрина падает подозрение. Когда его выслали из Малого Брода, сразу же тише и спокойнее стало. Случались, конечно, особенно при начале коллективизации, всякие формы вредительства, но хлеба на полях уже не горели, обозы с зерном никто не трогал и от пули из обреза никто не погиб. Значит, не чист был Согрин, только улик не оставил. А теперь вдруг преподносишь ты мне этакую новость: породнись с ним! У меня даже язык не повернется сказать ему: «Милости просим, садись, сват, с нами за стол отведать нашего хлеба-соли!»
– Не зови!
– Ты о Татьяне тоже подумай. Ей-то легко ли придется! Девка ни в чем не виноватая, сбоку припёка к деду, но заметит нашу к ней отчужденность, и вместо счастья-то слезы получатся.
– Неужели, батя, ты злопамятный и неспособен прощать? – как-то очень не по-сыновьи спросил Володька. – Вот это уж действительно жестоко…
– Только к Согрину, – поправил Гурлев.
– И к Татьяне, и к ее матери Ксении, да наконец и ко мне. Вынудишь меня из дому уйти!
Три дня подряд, встретившись после работы, возвращались к устройству этого семейного дела, а договориться никак не могли: Павел Иванович не находил возможности откинуть прошлое; Володька не хотел приносить свои чувства в жертву очень далеким от него интересам. Оба пытались обратиться к разуму, но и тот выхода не подсказывал: по существу-то и отец и сын были правы! Темной тенью ложилось прошлое на молодую зелень. Память о прошлом и неданный еще ответ старой могиле Кузьмы Холякова на сельском кладбище не совмещались в сознании и в сердце Гурлева с любовью сына. Между тем тот уже определенно клонился к мысли оставить родителей. И чем дальше, тем туже завязывался узел разлада.
Не зная, как быть, Павел Иванович позвонил Чекану в город и попросил дружеской помощи. Не для того, чтобы вдвоем насесть на Володьку и отговорить его, но прежде всего для самого себя…








