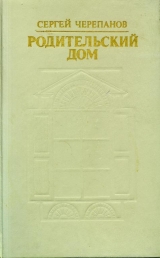
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц)
13
Он всегда неохотно возвращался в свой двор. С Первой улицы, где ни в одном доме в такую позднюю пору не светились огни, свернул на церковную площадь, прошел ее наискосок, и прежде чем миновать жилье Егора Горбунова, переложил наган из брюк в карман полушубка. Тут, на Середней улице, было что-то уж очень глухо.
К его двору наметало за зиму высокие сугробы. За ними изба выглядела совсем одиноко. Гурлев сторожко отворил воротца, во дворе внимательно оглядел зауглы, затем зашел в пригон, где беспокоился мерин, единственная утеха и радость хозяина. Мерин был в годах, но Гурлев его не продавал и не отдавал в обмен, хотя Ульяна постоянно настаивала и даже приводила охотников. С этим конем у него связана лучшая пора жизни, и было бы бесчестно сгонять его со двора.
У ворот пригона, вздыхая, лежала корова, а мерин жался боком к стене избы и тревожно всхрапывал. Гурлев погладил его по гриве, хотел успокоить и вдруг услышал, как за плетнем, со стороны переулка, хрупнул снег. Кто-то чужой стоял там, и конь чуял.
Гурлев щелкнул курком нагана:
– Эй, кто там за пригоном! Отзовись!
Никто не отозвался, зато хрупание снега стало отчетливее, кто-то выбирался от плетня на дорогу и поспешно уходил дальше. Гурлев не испугался, – такого с ним не было, – у него только вспотел лоб, когда он подумал, что, вероятно, случайно избежал встречи с пулей. «Значит, еще не судьба! – мелькнуло в мысли. – Или к сроку смерть опоздала!» Давно, не первый год жил он с опаской и носил наган всегда при себе.
Не снимая пальца с курка, осмотрел в ограде навесы и обошел двор вокруг. Сугроб за пригоном оказался простроченным следами от дороги до плетня и обратно, а в затененном месте, под скатом крыши, осталась на снегу вмятина; очевидно, тот, кто приходил сюда, вынужден был сидеть и ждать.
В избе, разуваясь у порога, спросил у жены поужинать. Она, не вздувая света, сунула на стол половинку калача и крынку с молоком, а пока он ел, залезла на печь и стала ругаться:
– Ты не мужик, а шатун. Я бьюсь одна, не с кем слова молвить, не от кого ласку принять…
Ее ругани, жалобам, причитаниям не бывало конца. А возражать или пытаться ее унять, когда она уже раскрутилась, он давно не решался. Всю теплоту, нежность, дружеское участие в ее трудах и заботах, что сберегал он прежде, Ульяна раз за разом вытравила из него, и теперь только терпение оставалось в нем, но и оно иссякало.
– На тебя, беспутного, молодость загубила, – продолжала Ульяна. – Думала, на мое добро ты добром же отплатишь.
– Не попрекай, Уля, – мирно попросил Гурлев. – Не по своей воле остался я в Малом Броде, не ты, так нашлись бы и другие добрые люди.
Отчуждение, которое пролегло между ними, уже нельзя было одолеть никакими жалостливыми словами. Ульяна всегда находила себя правой, а мужа виноватым, свои слова и переживания искренними, зато уверенья и объяснения мужа называла ложью. Переубедить ее не было сил.
Калач оказался черствым, от него припахивало тараканами, и Гурлев не стал его есть, а выпив молоко, улегся спать на полатях. Сама Ульяна не звала его на постель. Все чаще и чаще спали они порознь.
После упреков и ругани, разъяренная молчанием мужа, она еще долго причитала о пропащей судьбе. Гурлев, лежа на спине, незрячими глазами смотрел в немыслимо черный потолок, в бездну, где затерялся ответ на его вопрос: как поступить, как жить дальше в этой избе, не изменяя ни совести, ни партийному званию?
Наконец стал брезжить рассвет. Не подымая головы с постели, Гурлев схватился за грудь. Это ударила туда острая боль, словно ножом отрезали живой кусок тела. Боль наплывала толчками, от плеча до плеча, под рубцами колотых ран. Раны давно зажили, а боль от них где-то как враг таилась, выжидая удобного случая. Против нее не подымешь наган, и она не скроется в загумны до поры до времени. Но Гурлев не стал звать жену на помощь. Такие приступы случались и прежде, надо было перетерпеть и успокоиться. Перемогаясь, он слез на пол, жадно напился из рожка чугунного рукомойника холодной воды и босой вышел в сенцы.
– Паша! Пашенька! – громко заголосила Ульяна, выбегая за ним следом. – Прости меня, окаянную! Побей! Хоть разочек побей за всю нашу жизню вместе, чтобы знала я тебя, свово мужа!
Она приволокла из избы тулуп, укутала и угрела, как в первый год их супружества. Вот за ту, прежнюю ласку, он и не мог расплатиться. Не сварливая баба, не злая ведьма снова хлопотала возле него, а хорошая, участливая и милосердная женщина, которой можно было довериться. Но надолго ли? Конечно, он запомнит и этот момент ее просветления, порыв ее доброты, хотя расплачиваться ему совершенно нечем. Ульяна не примет от него никаких обязательств, ей нужен только он, ее муж и хозяин двора, чтобы она не жила как бросовая.
Ульяна перевела его обратно в избу, взбила перину на кровати, напоила каким-то горьковатым настоем трав и припала к его ногам.
– Эх, дура ты, дура! – сказал ей ласково Гурлев, когда боль заглохла. – Уж нам ли аркаться, как кошке с собакой?
– Сама знаю, что дура! – виновато и покорно подтвердила та. – Никто я перед тобой. Ты ученый, а я и в школе-то не бывала.
– Я не о грамоте баю! А потому ты дура, что дальше свово двора смотреть не желаешь.
– Кабы не любила тебя, отпустила бы насовсем…
– Да к чему любовь-то! Что она может значить? Мы уж из того возраста вышли. Наигрались, поди-ко, вдоволь. Меня Егорка Горбунов вечор упрекнул за бездетность. А то ли я виноват? Нарожала бы ты! Вот сила твоя и не пропадала бы даром. Я покуда жив, тебя не оставлю. Свела нас судьба, связала накрепко. Куда же уходить мне? Ведь совесть замучает. И как мне партия скажет? Небось, по голове не погладит. Я перед партией хочу иметь совесть чистую.
– И я не виновата, что никак не зачну, – горько вздохнула Ульяна. – Уж сколь баушек лечить меня пробовали…
– Может, мне и жить-то осталось всего ничего, – задумчиво произнес Гурлев. – Первый раз подфартило в девятнадцатом году, подобрала ты тогда меня. Во второй раз – этой ночью, уж каким случаем, не знаю.
– Ты о чем это баяшь? – испугалась Ульяна. – Чего было ночью-то?
– Сам не знаю, а смерть приходила…
Ульяна еще крепче обняла его ноги и заплакала тихими слезами. Гурлев отвернулся лицом к стене, закрыл глаза. Такие слезы пуще всего достигали его сердца. И бередили память.
Не по большаку, что вихляет между березовых колков, просторных полей и деревень, а по военной дороге напрямик, в грохоте пушек прибыл рядовой боец Павел Гурлев в село Малый Брод. Был конец лета того славного девятнадцатого года, доспевали на мужицких полях хлеба, последние зарницы играли по ночам. И не знал боец, что тут, в Малом Броде, кончатся его военные подвиги, проведет он свой последний отчаянный бой, а потом вся его жизнь круто изменится и потечет совсем не так, как бы ему хотелось.
Оправившись после тяжелого ранения, лихой конник обабился; не любя, но по совести стал мужем молоденькой одинокой солдатки, начал править хозяйством в чужом дворе и коня боевого запряг в телегу. Жить с Ульяной не составляло труда. Мужицкую работу она сама умела ворочать, как надо. По воскресным дням, нарядная и отмытая, поражала она живостью глаз, величавым движением плеч и уверенной поступью. Но год за годом все это понемногу утратилось.
Гурлев ничего не добавлял ей в хозяйство. Он поправил плетни на ограде, свежей соломой перекрыл пригон и сарай, а о новом доме под железной крышей, как хотелось Ульяне, даже не слушал. Все чаще начал он отлучаться со двора, пропадал по суткам в сельском Совете: то землю делил, то заготавливал хлеб, то говорил мужикам какие-то речи, смысл которых Ульяна не понимала.
Сначала сносила она обиду молча, надеялась обратить Гурлева в свою веру, чтобы занялся он домашностью, не разорял, а прибавлял хозяйство, но однажды ударила ей в мысли жестокая ревность, и с тех пор выплакала из глаз живость и ясность.
Гурлев поворочался на постели, высвободился из рук жены и продолжительно, с хрустом зевнул. После приступа боли начало клонить в сон, а за окном уже развиднелось, голубой и розовый свет пронизал насквозь тонкую наледь на стеклах. Ульяна опять хотела припасть, но Гурлев не дозволил и ладонью утер ей слезы.
– Рано меня оплакиваешь! Я еще поживу.
– Совсем перестал ты меня за жену считать, Паша, – снова виновато и покорно сказала Ульяна. – И отбился от дома напрочь. Обидно ведь мне, сам подумай!
– А ты больше реви! Реви и ругайся, тогда остатние крохи во мне сничтожишь. Почему нельзя жить мирно, доверительно и спокойно? Разве это порядок – беспрестанно сидеть возле твоей юбки и дальше двора не ходить! Как ты это понимаешь такую жизнь? Ведь баял я тебе не раз – не двор мне твой опостылел и не ты сама, но кровь, пролитая мной здесь, призывает не проводить время даром, без пользы для родной моей партии. Теперь выходит: хоть и без вострой шашки и без красных моих шаровар, а в обыкновенной мужицкой одеже, но все равно я есть солдат, призванный на мирный фронт.
– Без толку эта твоя служба, Паша!
– Да как же без толку? Вот вечор поясняли мы с Федором мужикам, с чего человек начался, как он с первобытности вышел и как ему надо себя поставить при теперешнем положении. Мужику сознавать это шибко нужно!
– Ты бы лучше решил, Паша, как с мерином-то обойтись, – становясь опять суровой, сказала Ульяна.
– Чего?
– Вечор башкирин заезжал ко мне, смотрел мерина, на мясо хочет взять, хорошие деньги дает. Зазря же мы кормим мерина!
– Ты снова на свою сторону гнешь! – непреклонно ответил Гурлев. – Ну, гляди, Ульяна! Конь этот со мной не раз в атаку ходил, и ежели ты его сбагришь на мясо, часу с тобой не останусь!
В нем закипел гнев, в эту минуту он мог бы и ударить жену и не стал бы впоследствии каяться, но она успела отойти к припечку, рванула на себе кофту и затеяла новый скандал, проклиная тот день, когда давала зарок перед богом.
14
А в это утро, еще спозаранок, Согрин стал собираться в Калмацкое. Он сам осмотрел у кошевы оглобли, ременную сбрую с медными насечками, в меру напоил Воронка и спрятал под сидение мешок с «дарами». В мешке лежали два поросенка-ососка, забитые и опаленные специально для подношения.
Он уже сел в кошеву и взял вожжи, когда в малые ворота вошел Егор Горбунов. Кадыкастая, обросшая жидкой щетиной голая шея Егора вытянулась и чуть скосилась при виде Согрина, сердито сверкнувшего на него взглядом.
– Кажись, не ко времени, хозяин?
– А ты завсегда не ко времени!
Спустив одну ногу из кошевы и подтянув вожжи, не давая Воронку тронуться с места, Согрин напомнил Егору: тот плохо исполняет его поручения, почти задарма пользуется постоянной подмогой.
– Кабы я с тебя много спрашивал! Вот уж, поди-ко, велика была трудность сразу после собрания зайти ко мне.
– Разошлись вечор шибко поздно, – начал оправдываться Егор. – У тебя в дому уж и свет не горел.
Согрин нетерпеливо мотнул головой.
– Ладно. Не тяни. Что Гурлев мужикам баял?
– Разве все-то запомнишь!
– Мне и не надо, чтобы слово в слово.
– Да про жисть, как она у нас выходит шибко худая, и чтобы мы, беднота, то исть, взошли в полную сознательность и зачали новую жизню как есть понимать. Так весь вечер толклись. Всяк по-своему говорил.
– К чему же больше клонились-то?
– А ко всему. Мужику чего ни дай, все ему надо. Вот, дескать, ближние земли, кои за выгоном, полагается заново перемерить, наделить ими маломощных хозяев, а богатых отодвинуть на дальние. У них-де, у богатых-то, при их тягле, силов хватит в экую даль ездить и тамошние пашни подымать. Зато маломощным надо давать снисхождение. Это Гурлев придумал, ну, а мужики зараз в один голос его поддержали. Так что твое поле у Чайного озерка отберут, наверно, Прокопий Екимыч!
– Ты, Егорка, наперед не загадывай! Может, районная власть отменит…
Согрин недовольно скривил рот, затем презрительно оглядел убогую фигуру Егора.
– Избач, небось, тоже призывал к сознанию?
– Пуще Гурлева. По науке доказывал. А как – передать не могу.
– Про колхозы поминали?
– Про колхозы избач баял так, будто они не сегодня-завтра и у нас объявятся. В других-то местностях уже есть, робют люди сообща. И насчет заводов поминал тоже. Заграницу перегонять будем.
Согрин обдумал сказанное и не нашел ничего, особо заслуживающего внимания.
– Давняя песня. В каждой газете только о том и пишут.
Горбунов догадался, что придется возвращаться домой ни с чем.
– Мучки бы мне, Прокопий Екимыч. Пуд-два. Вот уж масленая неделя скоро. Блинцов поисть тоже охота.
– Опоздал, Егорка! – как бы с сожалением ответил Согрин. – Ничем уже не могу поспособствовать. Весь хлебушко в казну сдал. Да ведь и давать-то тебе без пользы, не в коня овес травить. – И крикнул на Воронка; – Н-но! Ишь застоялся!
За гумнами, вблизи рощи вековых берез, кошеву Согрина нагнал Евтей Окунев. В легкой повозке на широких полозьях Евтей погонял кнутом маломерную, но ходкую кобылу. На развилке дороги, в пологом овражке, Согрин придержал Воронка.
– В далек ли путь собрался, Евтей Лукич?
Спросил для порядка, хотя уже догадался, куда тот спешит. С развилки одна дорога вела в Калмацкое, вторая на мельницу, к реке Тече, к Чернову Петру Евдокеичу. И одет был Окунев налегке, без тулупа.
– Сам же ты, Прокопий Екимыч, велел одно дельце спроворить, – сказал Окунев.
– У тебя отчего-то и других дел появилося много, – суровее произнес Согрин. – Ночами не спишь. Нынче под утро пешим пришел…
– Есть надобность…
– Уж понятно не попусту. Полюбовницу, поди-ко, завел? А свидеться с ней негде, так на задворках хоронишься?
Евтей приподнял бровь, подозрительно покосился.
– Следишь за мной?
– Не слежу, но мимо не пропускаю. Не сторожкий ты, Евтей Лукич! Рисковый. Иной бы улками-закоулками на карачках прополз до своего двора, но не посередке улицы. А ночью-то вдруг случилось бы происшествие. И потянули бы тебя, молодца, к ответу!
– Потому и не сторожился, что ничего не случилось, – признался Окунев. – Не попал зверь на мушку. Я его с одной стороны поджидал, а он явился с другой, миновал засаду…
– Ты этого зверя, Евтей Лукич, не тронь, – повелительно приказал Согрин. – Он мой! Окромя себя никому не позволю с него шкуру снять.
– Я бы, может, и не решился, да Пашка Барышев шибко просил. Не кончишь, говорит, супротивника, так сам до него доберусь и пулей прошью!
– У Пашки, конечно, законных прав на Гурлева больше, но своевольничать ни ему, ни тебе не разрешу. Уметь надо терпеть и время знать! Покуда достаточно, что обоз разгромлен. Вся милиция на ноги поднята. Могут Барышева в Калмацком накрыть. И поэтому поторопись с Петром Евдокеичем другое место ему подыскать.
Перекинувшись еще необходимыми для дела словами, они поехали каждый в свою сторону. Неяркое зимнее солнце лениво подымалось над березами, путаясь в опушенных куржаком ветвях. Игольчатые огни полыхали по заснеженным полям, и как дым расползалась в глубь молчаливых колков синеватая мгла.
В Калмацком сразу же посчастливилось – заврайземотделом Платон Мотовилов был еще дома. Это избавляло от надобности идти в учреждение, дожидаться в коридоре приема, обнаруживать себя перед служащими. Да и Мотовилов предпочитал встречаться наедине. А квартировал он на левом берегу реки Течи, пересекающей село Калмацкое, в укромной улочке, обсаженной тополями, неподалеку от околицы, как раз на пути.
Согрин, остановив Воронка у тесовых ворот, кинул на него попону, достал из кошевы мешок с поросятами. Такие ососки, зажаренные целиком да начиненные всякой всячиной, были у Мотовилова любимым блюдом. Отрицал он только гусей.
Дар приняла его жена, женщина с неподвижными испуганными глазами. Тут порядок сохранялся незыблемо: сам Платон Архипович к дарам руки не прикладывал, делал вид, будто это его не касалось, всем-де, без спроса, заправляет жена, а просьбы и ходатайства исполняет он по долгу службы, в пределах закона. Между тем по той мере обходительности и внимания, что выказывал Мотовилов к просителю, всегда можно было судить, то ли он доволен, то ли неудовлетворен. Согрин частыми наездами не досаждал, поросят, слава богу, хватало и, в конце концов, его отношения с Платоном Архиповичем стали вполне доверительными.
– Ну, с чем пожаловал опять, Прокопий Екимыч? – бодро спросил тот, но в горницу не пригласил. – Притесняет Гурлев-то? А?
– Да уж притесняет, – подтвердил Согрин. – Различиев не признает. А мы ведь все разные, Платон Архипыч! Из богатых мужиков Малого Брода, может, двое-трое найдутся таких, коим Советская власть не всласть, ну и озоруют против нее, на наше сословие наводят презрение, хотя любой из нас предпочел бы жить тихо и мирно.
– Отлично понимаю тебя, Прокопий Екимыч! Но поправить ничего невозможно. Во-первых, установка свыше. Во-вторых, ситуация не в вашу пользу. Плохая ситуация у вас в селе. Кому это вздумалось пустить молву, страхом людей взбудоражить?
– Да кто их знает! Один сболтнул, другой подхватил.
– Нехорошо!
– Темные люди-то! Гурлев вечор хотел в клубе диспут устроить, пояснить насчет бога и антихриста, но отец Николай не пришел. А мужики собрались. И меня интерес туда же толкнул. Ну, допоздна заседали, про сознательность разговоры вели.
Мотовилов осклабился, погладил ладонью бритую щеку.
– Представляю, какую ахинею мололи!
– А бог с ними! – напряженно вздохнул Согрин. – Лишь бы не пакостили. Так нет же! Баяли про совесть, про сознательность, а кончили тем, что пашни надо заново перемерять. Ближние черноземы – бедноте, а нам, хозяевам, выделить дальние массивы. И теперич выходит: вот я должон буду с наступлением вёшны обсевать дальнюю пашню, а какой-то там Иван Добрынин выползет на мои черные пары у Чайного озерка.
– Мало ли чего выдумают, перемер земель мы не разрешим, – весьма решительно обнадежил Мотовилов. – Только за этим тебя пригнало сюда?
– Нет, это так, между прочим, – тоном несколько приниженным сказал Согрин. – Хочу тебе, Платон Архипыч, поклониться!
– За чем же?
– Прошенье бы сочинить…
– Куда прошение, о чем?
– Как тебе известно, из-за состояния моего нахожусь я в числе лишенцев. Не беда была бы, коли меня на собрания граждан с трудом допускали, никаких прав голоса не давали. Не так уж шибко охота мне за кого-то голос отдавать или быть избранным в сельский Совет. Прожил бы и без этакой чести! Но ведь не тебе пояснять, Платон Архипыч, на лишенца все шишки валятся. И вот мне обидно. Я, ежели по правде-то разобраться, тоже за революцию пострадавший.
– Это каким же манером?
– Мой сынок за нее жизнь отдал. Семен-то! Да я тебе сказывал про него. Был он у меня разъединственная кровинушка, вся надежда под старость, и сгинул. Видишь ли, Платон Архипыч, случай-то какой тогда превзошел: стрелковый полк, где Семен службу нес, возмутился против царя и генералов, качнулся к революции, а силов-то устоять не хватило. Разоружили их, поставили в строй и каждого десятого под расстрел. Семен-то десятым оказался…
– Мог и не оказаться! – понимающе качнул подбородком Мотовилов. – Судьба ведь дура!
– Разумеется.
– А есть у тебя доказательства, какую роль играл твой Семен в восстании полка? Был ли он революционно настроен, имел ли принадлежность к большевикам или что-нибудь вроде того?
– Не могу знать, Платон Архипыч! Вот лишь письмецо прислал тогда его дружок по службе: сообщаю-де, по просьбе Семена, выпала на его долю казнь! Так и храню это письмецо, а иных документов нету.
Мотовилов прочитал измятое, потертое от времени солдатское письмо, похмыкал.
– Не очень веско! Впрочем, попробуем! Прошение от тебя, Прокопий Екимыч, я заготовлю, сверюсь с законами, поищу верный ход. Этак через несколько дней ты ко мне еще побывай. Только уж переписать тебе самому придется, с моим почерком отправлять нельзя.
– Ты черновик дай, а уж перепишу я сам.
– И в округ надо бы тебе самому же с прошением съездить. Там поискать нужного человека, лично вручить, расположить к себе…
– Чего лучше! – довольно произнес Согрин. – Без малой шестеренки никакая большая шестерня не провернется. Так я у малых шестеренок и пообиваю пороги.
Мотовилов скрылся в горнице, заспешил на службу, а Согрин вежливо пожелал хозяйке здоровья и вернулся к подводе. Воронок у ворот нетерпеливо фыркал, стучал копытами.
«Слава богу, начало положено! – удовлетворенно подумал Согрин, подбирая вожжи. – Хорошо бы все-таки добиться удачи и выбраться из лишенцев. Но мой Семка дурак был. Своих товарищей предал, да сам же и сгинул».
Хранилось еще одно письмо, где второй друг Семена, сослуживец по роте, описал все подробно, называя унтер-офицера Семена Прокопьевича верным слугой веры, царя и отечества. Далеко и надежно припрятал это свидетельство Согрин и читать его за все годы никому не давал.
Миновав мост через реку, перекрестился слегка на купол собора, расположенного на площади, и направил Воронка к «куме». Называл он эту бабу, Зинаиду Герасимовну, своей кумой для отвода глаз. Вернее бы называть полюбовницей. Уже десятка два лет служила она исправно, безропотно, как дворовая собака. Хоть узлом завяжи – слова не вымолвит. Даже замуж не вышла, так и осталась навек одна.
Ее домик стоял у окраины, почти вплотную к березовому колку, за которым дальше начинались поля. Уже хирели дворовые постройки, кособочились, подгнивая. Согрин подумал мельком: надо бы помочь бабе, кое-чего подладить, поправить. Да ведь ни к чему! Получше, покрепче хозяйства рушатся.
Каким-то особым нюхом, что ли, узнавала Зинаида Герасимовна о его приезде и всегда выходила встречать у ворот.
– Поставь пока Воронка во дворе, под навесом, да кинь на него попону, – распорядился он по-хозяйски. – Ночевать не останусь!
– Хоть чаю попей, – смиренно попросила Зинаида Герасимовна. – А у меня и водка припасена.
– Чаю, пожалуй, попью. Гость-то дома?
– На полатях спит. Спровадил бы ты его, Прокопий Екимыч! Неспокойно мне. Боюся! Как бы суседи не донесли. Я уж никого стороннего в дом-то к себе не пускаю, а ведь доглядят. Кашляет он шибко…
– Помалкивай. Осталось недолго ждать…
Барышев сразу слез на пол, когда Согрин вошел в дверь и позвал его. Башка нечесаная. Вид зачумленный, как с перепоя. Заспался там, на полатях, разомлел в духоте.
– Ну, снова здорово, Павел Афанасьич! – присаживаясь на скамью, не очень любезно произнес Согрин. – Скучаешь? Дел-то не ахти как много. Обленишься этак!
– А ты иного времени не мог выбрать для меня, – сердито сказал Барышев. – Стужа. Пурга. Добрый хозяин собаку на двор в такую погоду не выгонит.
– Так то собаку! И дела у нее собачьи.
– Мне зиму надо бы в тепле перебыть. Поблудил я по сибирской тайге, сколь раз был насквозь проморожен, а теперь вот она и дает себя знать.
– Что ж, так за все годы надежный документ себе выправить не мог?
– Пробовал, да удачи не поимел. Один уголовник предлагал сделать, но крупно заломил цену. У меня таких денег сроду в руках не бывало. Может быть, ты поможешь, Прокопий Екимыч? Деньги, конечно, большие. На крайний случай, в сельсовете бланков достань, а уж по бланку сами напишем: так, мол, и так, служил гражданин Барышев все прошлые годы в батраках и отпущен-де из села в город, на отхожие промыслы. Я бы в Среднюю Азию куда-нибудь поглубже забился. При моем здоровье в тайгу возвращаться нельзя.
– Отработать надо сначала, Павел Афанасьич!
– Дождуся весны, отработаю сполна!
– А где ты ее станешь ждать?
– Зинаида потерпит, наверно!
– Нельзя тебе, Павел Афанасьич, оставаться у нее. Милиция отсюдова слишком близко. С одной стороны, это хорошо: завсегда ищут, где подале, а не там, где поближе. Зато с другой стороны плохо: суседи могут на подозрение взять! Был бы у тебя документ надежный, так живи тут, мало ли родственников у кого проживает! Приехал-де погостить да захворал и вот-де задержался. Проверяйте, мол, милости просим! А тебя как проверят, так и загребут. Тем боле после того, как ты обоз разгромил, милиция вся на ноги поднята. Кстати скажу: неразумный ты, Павел Афанасьич!
– В чем?
– Коней зря побил! Люди остались живы-здоровы, напугались только твоей стрельбы, а коней нету. Или ты сам мужиком не бывал, чтобы коней не жалеть? При чем же скотина, если беды наши идут от людей?
– Боюсь я теперича убивать, – понурился Барышев. – В руках твердость теряю.
– А у Колчака не боялся, – напомнил Согрин.
– Кто знает?
– Про то в газетке было прописано…
– Там у меня такая служба была.
– И теперь служба, – положив сжатый кулак на стол, резко произнес Согрин. – Не свою волю сполняешь!
– Заарканил ты меня намертво, Прокопий Екимыч! – безнадежно сказал Барышев. – Не кончится это добром. Кабы знал, как ты станешь мной помыкать, не отозвался бы тебе, а явился бы сюда один, тайно, с бабой бы своей рассчитался…
– Как же рассчитался бы, коли убивать забоялся?
– Баба – не человек!
– А полюбовника ее, значит, чужими руками хотел прикончить?
Согрин погрозил пальцем, надвинулся на Барышева:
– Не блажи, Павел Афанасьевич! Не старайся обвести меня! На себя-то ты супротив Ульянина полюбовника не понадеялся, не с твоим здоровьем в засадах сидеть, так подослал Евтея Лукича. Допустим, пристрелил бы Евтей Гурлева, а ты по готовой дорожке-то спалил бы свой бывший дом вместе с Ульяной и тогда дал бы деру отсюда… И остался бы я в дурачках. Тратился на тебя, оберегал, надеялся, а взамен получил бы кукиш. Не-ет, нет, Павел Афанасьич! Ты сначала мою волю исполни, потом уж я тебя и до Гурлева допущу. А еще на что-нибудь своевольно пустишься – на дне озера рыбок покормишь!
– Дьявол ты, Прокопий Екимыч, – вздрогнул Барышев.
– Больше разговору на этот счет у меня с тобой, Павел Афанасьич, не будет! И не вздумай в милицию с повинной отправиться. Никто тебе снисхождения не сделает. А меня в свои дела не запутаешь! Ни свидетелей у тебя супротив меня нету, ни бумажек, ни других доказательств. Я за собой следы не оставляю. Мне надобно долго жить, и нету смысла где-то по пустякам завалиться! Тебе же, Павел Афанасьич, есть резон меня слушать. Уже многое я доверил тебе. Исполнишь мою волю, тогда ступай на все четыре стороны, я и денег дам на поддержку.
– Ну, приказывай! – смирился Барышев. – Опять жечь? Или убивать?
– Еще успею, скажу, что придется делать. Имей терпение. И не сумлевайся! Я не допущу, чтобы ты попался. Обрез-то, который тебе Евтей Лукич дал, цел ли?
– Патронов осталось мало.
– Получишь! Не сегодня, так завтра надо тебе из Калмацкого уходить. Поближе к Малому Броду. Милиция-то по всем селам шарит. Могут здесь на тебя натакаться. Ну, и вообще быть в Калмацком уже несподручно: чуть чего понадобится тебе передать, это всякий раз гнать приходится нарочито. Далеконько все ж! Да и тебе пешочком-то по сугробам двадцать верст, да ночью не ахти как ловко мотаться. Отсюда ты доберешься до мельницы, к Петру Евдокеичу, а тот вместе с Евтеем Лукичом подыщет надежное место. Только обо мне Чернову-то ни слова не сказывай.
– С мельницы тоже не ближний путь, – сказал Барышев.
– Тебя там не оставят. А свое-то поле у Чайного озерка помнишь?
– Наверно, с завязанными глазами найду.
– Это тебе про запас. Чуть неудача, ступай туда. В твоей загородке Гурлев избушку построил, сам-то зимой в ней не бывает. И никто из посторонних туда не полезет, на зиму глядя. Ни одной живой душе в ум не падет, что Гурлев кого-то скрывает у себя. Я завтра же завезу туда, в избушку, весь необходимый припас.
Зинаида Герасимовна внесла из сенцев вскипевший самовар, накрыла стол. Барышев к еде не притронулся. Перемогая отвращение к его пропотевшей одежде и чахоточному покашливанию, Согрин, выпив чаю без удовольствия, вылез из-за стола и начал собираться снова в дорогу.
– Как полагаешь, Павел Афанасьич, если я тебя еще с одним человеком сведу?
– Надежный?
– До конца не проверен. Но нам нужный. Партеец.
– Как его фамилия?
– Впрочем, обождем пока! – решил Согрин. – Торопиться некуда. Надо еще подумать…
От Калмацкого до Малого Брода время прошло совсем незаметно. Доволен остался Согрин, удалась поездка, все задуманное теперь настроено и налажено. Остается лишь выждать до срока. Но вдруг захотелось еще и потешиться, заставить Гурлева перед гибелью пострадать, испытать перед народом позор. С этой целью прямо с пути заехал к Егору Горбунову, постучал кнутовищем в окошко, велел выйти на улицу.
– Слышь, Егор! Бают, Павел Барышев домой возвернулся. Не встречал ты его?
– Осподи прости! – всполошился Егор. – Это как же выходит: у бабы два мужика!
– Так видел ты его или нет?
– Вроде бы не видел, Прокопий Екимыч!
– Может, зря слух! Ты сделай милость, Ульяну все же спроси. Найди заделье! Так, мол, и так, кто-то, мол, встречал Барышева в городе, он домой посулился. Пусть заране Гурлева предупредит. Уходить ведь придется ему из чужого двора. Да меня не впутывай… Свалишь слух на меня, больше в мой двор не кажись!
– Слушаюсь, Прокопий Екимыч!
– То-то же! Я ведь худа никому не желаю…








