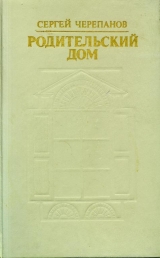
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 31 страниц)
Это оказалась унылая и тоскливая мысль, туманное подозрение, не больше! Гурлев попытался его отогнать и взбодриться: дескать, не надо лишнего нагромождать, все прояснится, решится по справедливости и отступит. Однако подозрение в причастности Авдеина к чему-то постороннему и чуждому партии не давало уснуть.
Под утро, когда навалилась дремота, разбудил стук в дверь. В избу вошли два милиционера, предъявили ордер на арест и велели собраться.
Старуха Лукерья перепугалась, запричитала.
Гурлев взял про запас белье, две новые рубахи, попросил у Лукерьи хлеба и сухарей, а на прощание ободрил ее:
– Скоро вернусь. Не горюй!
В улице даже собаки не лаяли. Глухая тишина. Погруженные в темноту слепые дома. Если бы не бренчала по дороге телега, не фыркала в упряжи лошадь да не сидели бы рядом конвойные – омут!
За околицей Малого Брода придорожный лес не шумел, в безветрии не качались вершины, из глубины не проглядывали кустарники. Черная трава у обочин. Мрачные версты легли впереди. Может, это последние версты. «Последние, последние, последние» – слышалось в цокоте конских копыт.
Всю дорогу Гурлев молчал. Он согласился бы ехать вот так хоть неделю, месяц, год, лишь бы не закрылось небо железной решеткой.
В подвальной камере районной милиции светилась керосиновая лампа, в углу параша, с нар свешивались голые ноги спящих подследственных.
Гурлев оперся плечом о каменный выступ стены и так простоял до рассвета. Теперь – точка! Подвел Авдеин черту!
После утренней побудки, когда невольные постояльцы слезли с нар, лицом к лицу встретился мельник Чернов. Все еще не осужденный, он прижился тут, опустил лохматую бороду.
Чернов опустился на колени против зарешеченного окна, долго молился во спасение души и только потом, заметив Гурлева, просиял:
– Милости просим к нам за канпанью, Павел Иваныч! И тебя гнев божий коснулся!
– Вас проведать решил, – уклонился Гурлев.
– Сюда дверь открыта, отсюда закрыта. С нами придется пожить, испытать, сколь тут сладко. Да обожди еще, клопы накусают, брюхо кипятком прополощешь – линять начнешь! Ничего в мире даром-то не дается. Согрешил или удовольствие поимел – за все бог спросит, а с тебя, Павел Иваныч, полагается взыскать вдвойне. Великое ущемление людей проповедуешь, наводишь смущение.
– И здесь ты не поумнел, Чернов, – заметил Гурлев. – У тебя – свое, у меня – свое, не станем счеты сводить.
– Это черти вас, распутников, породили.
– Так ты, Петро Евдокеич, от меня подальше держись, – усмехнулся Гурлев.
Волосатый цыган-конокрад посмотрел на них и сказал:
– Эй! Черта худом не поминай! Он веселый и вольный.
– Тьфу, ты! – матюкнулся Чернов. – Басурман некрещеный!
Цыган драл зубами жареного гуся и чавкал. Белобрысый парень лет двадцати хрумкал свежие огурцы с холодной бараниной. Старец с жидкой бородкой, похожий на странника, аккуратно, не торопясь, хлебал деревянной ложкой сметану.
Все они, очевидно, уже переругались с Черновым. Прежде грузный, самодержавный, он теперь отощал и усох. Чужое обжорство вызывало у него явную зависть и гнев.
Гурлев отломил половину домашнего калача и подал ему на добавку к казенной каше.
– На, ешь и не мучайся! Нагишом плясать не заставлю.
Его самого на еду не манило. Прислушивался к шагам в коридоре, с минуты на минуту ждал: вот откроется дверь, выведут из камеры, скажут: «Ступай в райком, на бюро».
А время тянулось медленно, нехотя, за один час можно поседеть и состариться.
Цыган успел покончить с гусем, облизав пальцы, рыгнул и начал приплясывать. Белобрысый парень разговорился со старцем. Чернов разминался: три шага вперед, три назад.
После полудня из-за окна донесло Дарьин голос:
– Эй, милок! Тут, что ли, ваша КПЗ?
– Тут! – подтвердил наружный охранник. – Отступи, не лезь!
– Мне Гурлева надо, Павла Иваныча, из Малого Брода.
– Не лезь, говорю! Ступай к дежурному, проси разрешение.
– А ты отодвинься! Дай через окно потолкую.
– Не положено.
– Ты мне законы не выставляй! Пусти, не то двину – картуз потеряешь!
Все-таки она пробилась к окну и громко позвала:
– Павел Иваныч! Ты тут, али нету?
– Здесь, – отозвался Гурлев. – Перестань шуметь, сама под арест попадешь. Зачем примчалась?
– Затем и примчалась, что испугалася. Да и Федот послал. Велено передать…
К охраннику подоспели помощники, силком оттащили Дарью, но Гурлев понял: партийцы его постараются вызволить.
– Ты, небось, ее в полюбовницы взял, ишь, сколь заботливая, – насмешливо произнес Чернов. – Свою-то бабу куда подевал?
– У тебя не спросил, – резко ответил Гурлев. – Сиди уж… помалкивай!
– Дарья вся на мой вкус. Зря я в голодный год над ней надсмеялся. Погодилась бы. Не любил я свою-то. Да и бедность тогда презирал. Теперь вот дошло до ума: нажитое богатство – это вода в пруду. Покуда створы закрыты – жернова на мельнице крутятся, а прорвется запруда, вода утечет и останется одно запустение. Вот сын меня ограбил. Сам нахожусь как в пустыне…
– Следствию признался или все еще отрицаешь? – спросил Гурлев.
– Про Евтея и Барышева дал показания, – поник Чернов. – На чем стоять, к чему воду мутить, коль все потеряно, мечтать не о чем.
Его смирению не верилось. Побитая собака тоже уши и хвост поджимает, а зазевайся – укусит!
Только на третий день Гурлева вызвали и привели к прокурору. Прежний прокурор Василий Васильевич, старый партиец, перевелся в другой район, а новый, по фамилии Перескоков, человек средних лет, показался усталым и нервным.
Гурлев приготовился говорить и отвечать коротко, в спор не вступать, если начнется нажим, но Перескоков почти безразлично уведомил:
– Вы, гражданин, обвиняетесь в покушении на жизнь секретаря райкома Авдеина и в гибели вашего коммуниста Холякова.
Перескоков ткнул пальцем в лист бумаги и подвинул его к краю стола.
– Ничего не стану подписывать! – уперся Гурлев. – Сначала докажите!
– Это вам придется доказывать. У нас заявление Авдеина и соответствующее письмо насчет Холякова. Вы угрожали Авдеину револьвером?
– Верно, наган вынимал, только не супроть него.
– Зачем же?
– Вы не поверите. И чего напугался Авдеин – не знаю! Мы с ним впервые увиделись. Коснись вас, вы бы тоже не отдали свой партбилет и возмутились наскоком. Этак любой может накричать, нашуметь, ногами натопать, а потом все на тебя свалить. Не честно! Не по правилам партии. Я такого обращения не заслужил. Мой отец, большевик, казнен белоказаками. Мне партбилет тоже не без крови достался…
Гурлев сдернул гимнастерку и нательную рубаху, обнажил грудь: от левого плеча чуть не до пояса багровел рубец сабельной раны.
– Оденьтесь, – отвел глаза Перескоков. – Это не доказательство.
– Так и у Авдеина доказательств нету. Были-то один на один. А что касается поклепа, который мне Авдеин с бумажки вычитывал, так могу поручиться: кулак настрочил! Месть за хлеб! Месть за землю! За всю Советскую власть – месть! Неужели это никому не понятно?
– Будем расследовать. Партбилет все же отдайте в райком. На бюро вас вчера исключили из партии.
– Не отдам, хоть зарежьте!
В камере, куда его снова закрыли, Гурлев прилег на нары. Голова ломилась, так ошарашило обвинение.
И все же оставалась надежда: пройдет неделя, от силы две, и вся эта позорная история кончится.
Но день за днем миновал, как затяжное ненастье, уныло и мрачно, а ничего не менялось. Гурлев дал себе зарок: не стучать в дверь, не требовать следователя, хотя понимал, что может себе навредить. Наверняка ведь не лежит его дело в шкафу. Зато только время и только терпение укрепляли надежду.
Чтобы не мучить себя унылыми мыслями, Гурлев постоянно обращался к прожитым годам, как бы заново проверял себя, и к делам, которые продолжали его волновать. Подступала пора убирать с полей урожай, начинать осенние заготовки, вдовам и сиротам надо бы запасти к зиме дрова, взять на учет неграмотных, определить их в школу ликбеза… Старался представить – хорошо ли справляются без него члены партийной ячейки с этакой уймой обязанностей и неотложных забот.
Дарья два раза в неделю приезжала из Малого Брода, привозила передачи, а свидеться с ней, поговорить, узнать хотя бы, кто на должности его заменил, Чекан или Томин Парфен, охрана не допускала.
Постояльцы в камере часто менялись. Чернова вызвали, и он уже не вернулся. Цыгана и белобрысого парня отправили в исправдом, старца выпустили на волю, а вместо них насажали растратчиков, дебоширов, воров. Приходилось слушать их поганые разговоры, спать бок о бок.
Потом засентябрило, похолодало, начал сыпаться мелкий занудливый дождь.
В один из таких дней, наконец-то, снова вызвали на допрос, но привели не к Перескокову, а к его заместителю Бабину. Тот был местный, Гурлев его давно знал и поэтому переступил порог в кабинет с полным доверием.
– Ну, не соскучился еще, Павел Иваныч? – попросту спросил Бабин.
Начало понравилось Гурлеву.
– А ты, Григорий Сазонтыч, сам испробуй, узнаешь.
– Да, затянулось расследование, – согласился тот. – Много неясности. Я уже три десятка свидетелей допросил…
– И что же?
– Теперь хочу послушать тебя, – соблюдая правила, уклонился Бабин. – Надеюсь на откровенность.
– Я никогда не увиливал и хитрить не умею. Насчет Кузьмы Холякова вся правда изложена в его письме избачу.
– Читал. Оно у меня.
– Так же и в протоколах ячейки.
– Тоже читал.
– От себя могу лишь добавить: надо было самому лично того бандита накрыть! И не знаю, как Холяков, не поставив меня в известность, пошел с ним ночью на встречу. С кем? Кто его на след Барышева навел? Так вот, не тот ли человек, через которого Холяков погибель принял, и на меня состряпал клевету? Сведите меня с ним на очную ставку.
– Письмо не подписано.
– Тогда и говорить о нем дальше не стану.
– Но заявление Авдеина не отрицаешь?
– Тоже навет! С испугу он, что ли? Или по злобе на меня, что спину перед ним не согнул. Как это я посмел?
– Ты что же, в самом деле наганом размахивал?
– С наганом – это моя оплошка! Повинюсь тебе, Григорий Сазонтыч, от чистого сердца, только в протокол не пиши, совестно! Да и писать-то впустую, никто не поверит. Достал я из кармана наган, подал Авдеину: «На, застрели меня, коли я чуждый партии и по всем видам подлец! Расписку дам, дескать, сам напросился!»
– Действительно, не похоже на правду, – засомневался Бабин.
– Пошатнулся я в тот момент. Не ко времени явился к нам Авдеин, взялся с меня шкуру драть. Накануне Антон Белов в пьяном виде вдову Кузьмы изобидел, днем мы решали, кого в домину Согрина поселить, куда его имущество подевать, а ночью Горбунов попался на краже и в петлю залез. Устал я, напереживался, но мог бы сдержаться против барских замашек Авдеина, если бы он не потребовал от меня партбилет…
– Однако придется это показание вставить в протокол, – начал записывать Бабин. – Дальше не мне решать.
– Вставляй, так и быть! И нельзя ли поторопиться? Изведусь я под стражей. Причаливай к берегу. Мне еще предстоит до окружкома или до обкома добраться, буду там правду искать.
– Есть одно обстоятельство, – начал было, но тотчас оборвал себя Бабин. – Из-за него задержка…
– Не можешь сказать?
– Не могу!
– Еще будешь вызывать?
– Если понадобится.
– Ладно! – согласился Гурлев. – Три месяца отбарабанил за решеткой и еще подожду, только сделай милость, не сочти за излишнее любопытство: кто теперь в Малом Броде вместо меня? Томин или Чекан?
– Чекан уволился и уехал. Когда тебя на бюро исключали из партии, он обвинил Авдеина в левацком загибе. Тот и дал ему «зеленую» улицу. Братья Томины в сельсовет не показываются. Зато Белову оказано райкомом большое доверие. Он теперь во главе. Впрочем, я тебе ничего не рассказывал, – понизил голос Бабин, опасливо поглядев на входную дверь. – Сиди и жди!
– Дозволь в окружком написать.
– Покуда нельзя. Подследственному не дано право.
Многое недосказал Бабин, но Гурлев вышел от него с чувством облегчения и окрепшей надежды.
В ноябре после большой пурги разыгралась метель-высвистуха. Дарья привезла шубу, шапку и валенки. На коротких прогулках во дворе разрешалось брать лопаты и подгребать снег, это после сидения взаперти тоже взбадривало, хотя тоска по воле, по работе продолжала щемить.
Немного развеял ее Петро Кудеяр. Когда его втолкнули в камеру, Гурлев даже отступил в изумлении, зато Кудеяр обрадованно протянул ему руку:
– Здорово живешь, Павел Иваныч? Ну, как оно, житьишко, здесь?
– Оглядись, сам увидишь, – высвобождая ему место на нарах, доброжелательно сказал Гурлев. – За что попал?
– За овечку!
– На чужую позарился?
– Вся наша существования на земле, Павел Иваныч, это бег с кочки на кочку. Вышла у меня оказия. Антоха Белов теперя в Малом Броде бог, царь и земский начальник. Командует в потребиловке и в партейной ячейке. Пришел ко мне, тулуп принес: «Сшей, Петро, боркован!» А я смотрю: согринский тулуп, я сам его шил в прошлом году. «Откудова же, – спрашиваю, – у тебя этот тулуп, ежели он в продаже не числился? Выходит, ты его слямзил, когда имущество Согрина переписывали?» Так прямо и врезал. Мне с ним, с Беловым-то, детей не крестить. Покуда он был не на высокой должности, в нем худого не замечалось, а как всплыл на поверхность, внизу совесть забыл и кто же он есть. Не поглянулось ему, заорал на меня: «Не суй рыло, не то обожгешься!» Показал я ему на порог. Катись, мол, без боркована – не затеряешься. Мне с тобой ни есть, ни пить, ни квас варить. Да и завсегда у нас с ним любовь такая: один раз друг на дружку посмотрим – неделю есть неохота! Вскоре после того начали богатых мужиков раскулачивать…
– Всех или только заядлых?
– А ты не слыхал, что ли?
– Сюда газет не дают и агитаторов не посылают.
– Подряд Первую улицу вычистили. Никого не осталось. Согрину посчастливило: выселили, разорили, зато на Север не угодил. Теперь ихи дворы заселил беднеющий люд. Мог бы и я двор Саломатова взять, а опять же, как и к Согрину, не пожелал, покуда, окроме меня, эвон сколько нуждающихся. После выселки кулаков пошла команда объединяться. Приехал твой-то супротивник Авдеин, собрал сход, стал призывать писаться в коммуну. Весь-де район, сколь есть деревень и сел, – под одно гребло! Мы ему про колхоз, а он одно свое – коммуна! Ладно: приехал-уехал, колокольцы прозвенели и смолкли, зато Белов будто до одури самогонки напился и начал выслуживаться. Разом приходит ко мне и от порога громким голосом: «Пошто в коммуну не пишешься? Али особого приглашения ждешь, али супроть Советской власти намерения имеешь?» Обозлил меня. Ну, я по-нехорошему и выразился. Думал, утрется и отстанет, а он к случаю подгадал. У Мирона Пестеря овечка потерялась. Туды-сюды: не нашли! Белов и показал на меня: вроде ко мне в печку заглядывал.
– Про коммуну расскажи поподробнее, – настоятельно попросил Гурлев. – Все ли мужики записались? Кто председатель?
– Слово в слово правда: весь район хотят в одну коммуну согнать. Но, видать, дело туго идет. Многое непривычно и непонятно. Кому-то в масть, другим – шуба не по плечу. Надел мужик новую рубаху, чистые шаровары и справные сапоги, а старье жалко выбрасывать. Парфена Томина выбрали председателем. У себя дома он мужик дельный, а в правлении, надо быть, растерялся, не может управиться. Тут дыра, там дыра. Меж собой люди не могут ужиться, соображаловка у нас покуда тугая. Поясни, Павел Иваныч: завсегда вы, партейцы, баяли про колхоз, а вдруг коммуна?
– Я сам теряюсь в догадках, – признался Гурлев. – Какие-то перемены в политике, что ли? Сижу здесь, как ломоть отрезанный… А сам-то, Петро, чем занят?
– Волосы не чешутся, иголка не шьет. Нахожусь почти в полном безделье. Вот один мастеровой вроде меня наломается, бывало, спина болит, руки-ноги отваливаются. Все мечтал на том свете отдохнуть. А сам с того света уж через неделю стал проситься обратно: «Робить хочу! Без дела – это не отдых, не радость!» Так и у меня. Овечек-то всех согнали в один табун, овчин не стало. Из чего шить тулупы и шубы? Здесь еще, поди, хуже?
– Сам же сложил поговорку: «То не мужик, если бабу не бивал, то не конь, если в упряжи не бывал!» – мягко сказал Гурлев. – Значит, терпи! Я вот тоже пропадаю без дела.
На следующей неделе Кудеяра освободили: овечка Мирона Пестеря, оказалось, в колодец упала.
Как нацарапанная на закопченной стене надпись, осталась после Кудеяра добрая память.
Начался тридцатый год – новая ступенька вверх, после крутого, но уже пережитого перелома в жизни страны.
Длинные темные ночи, зыбкая тишина, мучительная бессонница – казались порой нескончаемыми. Керосиновая лампа с коротким фитилем мизюкала круглые сутки. Изредка в заиндевелом окне появлялся просвет, низкое зимнее солнышко не могло заглянуть сюда и хоть чуточку скрасить унылую, осточертелую обстановку.
В конце января нежданно-негаданно отправили Гурлева из Калмацкой милиции в город.
Провожал подводу Бабин, в напутствие не промолвил ни слова, зато, почти крадучись, пожал Гурлеву руку. И спросить его тоже не удалось: будет суд или продолжится следствие?
Подвода круто подалась со двора, кучер подстегнул лошадь: предстоял путь не ближний!
За околицей начались празднично украшенные куржаком березовые леса. Розовые снега на необъятных просторах. В полнеба красное зарево. Чуть погодя всплыло морозное солнце, давно невиданное, по бокам огневые столбы. Гурлев снял шапку, вроде утереть лоб и брови, но лишь бы втайне ему поклониться.
Рядом в розвальнях сидел конвоир. Гурлев спросил у него:
– Куда это меня?
– Не могу знать, – безразлично ответил тот. – Велено препроводить в исправдом, а бумаги в окружную прокуратуру. Наверно, по твоей уголовной статье так нужно.
Так или не так, а дело сдвинулось с места. В городе на ход следствия Авдеин уже не мог повлиять. И неспроста, вероятно, Бабин выказал дружбу.
И опять впереди по дороге лежали версты и версты, зато не тягостные, без напряженных раздумий: они вели к жизни!
Через три дня он вышел на волю.
Повсюду ослепительно блистал снег. За воротами исправдома, уже на улице, внезапно глаза заслезились. Лицо оставалось спокойным, будто ничего не случилось и нет никакого волнения, а слезы текли по щекам крупные, соленые и горячие. Гурлев смахнул их ладонью, когда увидел Чекана. Тот приехал на извозчике и зябко топтался возле кошовки.
Позднее он еще больше порадовал Гурлева. Районный прокурор Перескоков, опасаясь Авдеина, прекратить уголовное дело против Гурлева не насмелился, но намеренно затянул следствие, пропустил все законные сроки и передал его по инстанции выше. Стало понятным и то «особое обстоятельство», о котором намекал Бабин: честные люди притупили у Авдеина коготки. Чекан так и сказал: коготки! Очень уж хотелось Авдеину утвердить себя недоступным и беспощадным.
– Я беседовал кое с кем в окружкоме, – дальше сказал Чекан. – Кто Авдеин? Откуда? Прислан он из Свердловска. По образованию – историк, лекции где-то читал, потом скатился в оппозицию, левак, для исправления послан на низовую работу.
– А его намерение в одну коммуну объединить весь район? – спросил Гурлев. – Что об этом говорят в окружкоме?
– Не знаю, не знаю! – отрешился Чекан. – Идея какая-то вздутая, вот-вот лопнет, а ничего я пока толком не выяснил.
Извозчик лошадку не торопил, она бежала легкой рысцой. Кошеву потряхивало на изъезженной мостовой. Прямая городская улица, обставленная справа и слева деревянными домами и домишками, тополями во дворах, из низины протянулась по каменистому взгорью до станционного поселка. Там, вблизи вокзала, рабочее семейство Чеканов имело свой дом давней постройки.
Родители Федора и его молодка Аганя, все такая же милая и красивая, встретили Гурлева, словно дорогого гостя. После холодных казенных стен и гнетущего озноба на душе их теплота, чистота жилья и радушие глубоко растрогали. Его тут ждали: об освобождении Федор узнал еще накануне. На столе в большом блюде лежал свежий рыбный пирог, выставлена бутылка с красным вином.
Сразу у порога отец Федора Тимофей Гаврилович поднес Гурлеву полную рюмку.
– С избавлением, Павел Иваныч! Давай чокнемся по обычаю и будем знакомы. Говорят, человек за свою жизнь семь раз умирает и семь раз оживает, но с каждым разом умнеет и крепнет. Вот и считай: если снова вернулся к жизни, то и на твою долю еще немало радости выпадет.
– Батя у меня философ, – засмеялся Федор. – Все движется и все изменяется, и в этом мире все к лучшему.
– Тоскливо жить, когда дни и годы как медные пятаки наштампованы, – отшутился старик.
Мать Федора – старушка, похожая на одуванчик, с пушистыми светлыми волосами и ясноглазая, поставила на стол самовар и велела Агане переодеть Гурлева в чистое. Взятое из сундука белье, рубаха, брюки, еще не ношенные, оказались тесноваты, но пришлось хозяевам уступить: грязное белье и одежду вынесли во двор.
Никто не спрашивал: как, мол, за решеткой-то, небось, нагляделся-навиделся, и трудно пришлось. Зато много говорили в обед за столом и после обеда о семейных делах, дружно и весело строили планы на будущее. Аганю уже определили в вечернюю школу. Федор готовился поступать в институт. Тимофей Гаврилович собирался осваивать новый кузнечный молот и советовал Гурлеву не возвращаться в деревню, обосноваться на производстве…
Как иссохшая грязь отпадает от чистой поверхности, точно так же в этой семье отпадали от Гурлева горечи пережитого. К концу дня он непринужденно, с улыбкой сказал:
– Однако на воле жить отменно приятно.








