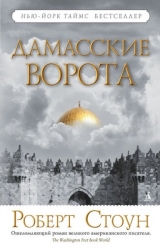
Текст книги "Дамасские ворота"
Автор книги: Роберт Стоун
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 37 страниц)
9
Чтобы как-то провести остаток дня, Лукас решил последовать примеру солдат. В центре были души, бассейн с морской водой и старый драндулет, отвозящий купальщиков на берег. Его удивило количество надписей на немецком – на некоторых дверях и рядах шкафчиков присутствовал только этот язык. Неужели тут бывает так много немецких туристов, подумал он, и неужели администрация так заботится об их удобстве? Было как-то не по себе видеть эти таблички на раздевалках, купальнях и душевых.
На берегу Лукас намазался отвратительно пахнущей грязью, тщательно втер ее в лысину. Затем осторожно соскользнул по илистой кромке в маслянистую воду и некоторое время барахтался в ней. Купание в прохладной вязкой воде Мертвого моря напоминало умеренно неприятные ощущения от других экзотических приключений, испытанных в жизни.
Ополоснувшись под душем и вытираясь на ходу, он направился в уютный кафетерий со стеклянными стенами, сквозь которые был прекрасный обзор во все стороны. Солнце уже зашло за гору на востоке, и на блекнущей синей воде протянулась длинная тень от нее. Он взял два пива из холодильника и сел за столик с видом на Мертвое море.
Кафетерий постепенно заполнялся посетителями. Выпив половину первой бутылки, Лукас сообразил, что люди за ближайшими столиками говорят по-немецки. Но сразу понял, что это не немцы – во всяком случае, не вполне. То были пожилые немецкоговорящие израильтяне, текке,приехавшие на воды полечиться. Они чинно сидели за кофе с пирожными, с холодной, снисходительной улыбкой поглядывая на других посетителей, разговаривали, перебивая друг друга и самоуверенно не понижая голоса, на языке, на котором в этой стране обычно говорят полушепотом. Почти всем на вид было за семьдесят, но все бодры, энергичны, жилисты. Мужчины, видать, питали пристрастие к белым рубашкам с коротким рукавом, женщины – к богемным ажурным шалям, накинутым на плечи. Многие внимательно поглядывали на него, пытаясь, как догадывался Лукас, понять, кто он по происхождению. В Израиле, обратил внимание Лукас, если люди затруднялись с ходу определить, кто ты такой, они просто подходили и спрашивали об этом прямо. Сегодня с таким вопросом к нему никто не приставал.
Слушая их голоса, он вспомнил, как мальчишкой ходил в Нью-Йорке от Верхнего Вест-Сайда до Клойстерс. В парке форта Трайон был ларек, в котором продавались хот-доги с горячей горчицей. Он всегда считал, что там были лучшие хот-доги в Нью-Йорке, и постоянными посетителями этого места в любую погоду были евреи-беженцы из Германии, обитавшие в районе Вашингтон-Хайте на севере Манхэттена. Они запомнились ему зимой, когда сидели снаружи, лицом к бледному солнцу над Палисейдс в Нью-Джерси, – мужчины в мягких шляпах с лихо заломленными полями и в пальто с меховым воротником, женщины в твидовых и в квадратных фетровых шляпках. И хотя они, может, не щеголяли в пенсне, Лукасу они помнились именно такими.
Около шести часов он взял третью бутылку и переместился в другой конец зала за столик с видом на восток и начинающие темнеть скалы. Тут располагались иностранцы, не евреи, и Лукасу казалось, что даже с закрытыми глазами, даже не слыша, какой язык превалировал в их разговоре, он бы это понял. По тому простодушному и беспечному смеху, по веселью без примеси иронии.
Примерно тогда, когда он узнал о существовании такой вещи, как евреи и неевреи, – факт, который открыла ему мать с крайней неохотой, ибо это был повод для лишнего беспокойства за него, – вопрос о том, кто он, встал для Лукаса очень остро. Какое-то время в детстве – после болезненного опыта в католической школе, в которую он ходил, – это превратилось в подлинное наваждение. Конечно, в конце концов он с этим справился.
Тот случай в школе был по-своему ужасен. Однажды, когда он учился в четвертом классе, они играли в ступбол [110]110
Уличная игра, напоминающая бейсбол.
[Закрыть]во дворе школы в Йорквилле и заговорили о том, кто где живет. Там, где Лукас учился в младших классах, районы делились по католическим приходам. Когда кончили играть, с Лукасом, который в тот день сделал три хоумрана, заговорил капитан проигравшей команды – мальчишка по имени Кевин Инглиш. Инглиш пользовался дурной славой, и к тому же Лукас как-то передразнил его австралийский выговор.
– Ты где живешь? – спросил его Инглиш. – В каком приходе?
– Святого Иосифа. В Морнингсайд-Хайтс.
– Это Гарлем, – сказал Инглиш.
– И никакой не Гарлем. Это возле Колумбийского университета.
– Тогда это все поганые евреи.
– Мой папа еврей, – сказал на это маленький Лукас.
Реакция Инглиша поразила его.
– Еврей? Поганый еврей?
Лукас никогда не соглашался с теорией Фрейда о вытеснении в подсознание. Ему казалось, хорошо это или плохо, что он помнил все. Тем не менее, похоже, он не мог вспомнить, что тогда толкнуло его на такой ответ – юмор, дух противоречия, доверчивость? Помнил только, что, сказав, сразу понял: отныне он живет в новой, холодной стране сердца, из которой нет возврата.
На следующей неделе они играли в ступбол, и у Лукаса получился точный удар, по косой дуге, не только высокой, но и широкой, – за пределы парка, если бы там был парк. Но там были только импровизированные базы – острые прутья ограды, которые они называли «копьями», люк в качестве второй и двери лифта – третьей. В результате команда Лукаса победила. Когда они традиционно после игры пожимали друг другу руку, подлетел разъяренный Инглиш и набросился на радостно-возбужденного Лукаса:
– Проклятый еврей! Жид паршивый, ублюдок!
Он знал, ждал этого всю неделю, что последует продолжение первого столкновения. Только один из английских подхалимов присоединился к Инглишу. Но их нападение было таким яростным, полно такой злобной радости, что Лукас запомнил его навсегда. Затем была его драка с Инглишем, и он, Лукас, потерпел жестокое поражение. Такого он не ожидал, потому что правда была на его стороне.
Драку остановил брат Николас, староста школы, строгий франкоканадец, который, увидев их, выбежал на улицу. Разобравшись, что ссора произошла из-за ступбола, брат Николас постановил, что спор будет разрешен в конце недели на «смокере». Это был мальчишник, где дозволялось курить и где устраивали боксерский поединок, в котором ученики недельной школы-интерната разрешали свои острые разногласия.
Весь день перед боем у него было дурное предчувствие. Что-то умерло в нем, а взамен появилось что-то неведомое.
Бой устроили в углу гимнастического зала, выделив лентой четырехугольную площадку. Противников раздели до пояса, надели им на руки боксерские перчатки. Для поднятия духа Лукас призвал на помощь все свое воображение, вспоминая спортивные схватки и кинофильмы, рыцарские турниры, дуэли на шпагах и пистолетах. Но он был один, без друзей. Никто из них не жил при школе, все уходили после уроков домой, а интернатских – друзей Инглиша, из неблагополучных семей, – была толпа. Лукас оказался среди них, потому что в тот сезон у матери были сплошные гастроли. Он чувствовал, что бой закончится для него плачевно, так оно и вышло. Он усвоил несколько новых оскорбительных выражений, и это было полезно. Знать, что прав ты, а не противник, было сомнительным преимуществом. Но в итоге трепка, которую задал ему Инглиш, то и дело попадавший ему по уху, отчего он потом неделю не слышал, привела его в чувство, внушив стыд за заслуженное поражение.
Вечером в школьном лазарете брат Николас, обрабатывая меркурохромом его раны и прикладывая лед к распухшему лицу, сказал ему несколько добрых слов. Он же положил конец выкрикам из толпы насчет еврея и ублюдка, раздав несколько подзатыльников.
– Так что, – спросил брат Николас с галльской деликатностью, – есть в вашей семье евреи?
– Папа, – ответил Лукас. – Только он не то чтобы в семье.
Брат Николас задумался.
– Все мы, – наконец заявил он, прижимая ватный тампон к брови Лукаса, – должны приносить молитву в уничижении. – Брат Николас верил в молитву в наших уничижениях Духу Святому, которому они, видимо, несли радость или умиротворение.
До конца следующей недели Лукас оставался один, пока мать не вернулась с гастролей, измученная, с перетруженным горлом, с мигренью. Несколько дней он крепился и молчал. Но между ними были доверительные и дружеские отношения, и, схожие темпераментом, они любили пообщаться, поболтать. Так что он не выдержал.
– И зачем только я сказала? – спросила она саму себя. – Зачем нужно было говорить об этом, когда ты еще так мал?
Рассказала она ему об этом, впав в философическое настроение за третьим стаканом виски с содовой во время одного из их посещений бара «Кинг-Коул» в отеле «Сент-Риджис», в тот раз – чтобы побаловать его на прощанье.
Затем мать расплакалась и так горько, так отчаянно стискивала его в объятиях, что он взбунтовался и из озорства выдал новое непристойное словечко, которое запомнил на том поединке:
– Да этот Инглиш, он просто педик, мам.
Та была настолько шокирована, что прекратила стенать и причитать. В какой-то степени бывшая на положении содержанки, мать Лукаса оставалась женщиной весьма строгих правил.
Чуть позже она принялась разъяснять, что антисемиты – люди крайне ограниченные.
– Я имею в виду, – сказала она, – что те, кто испытывает неприязнь к евреям, – «неприязнь» было наиболее сильное из выражений, какие ей позволяло употреблять ее воспитание, – это самые глупые, необразованные, лишенные художественного вкуса люди. Любому приличному, воспитанному и, уж конечно, культурному человеку чуждо подобное чувство. Оно свойственно только всяким ничтожествам, плебеям, пошлякам, грубым хулиганам.
«А с кем же, по-твоему, мама, – тут же подумал Лукас, – приходится мне торчать в том интернате?» Самое находчивое его замечание осталось невысказанным. Однако та же мысль пришла в голову и ей.
– Надо забрать тебя из этой ужасной школы, – сказала она.
Хотя она и была снобкой, но в душе оставалась верующей ирландской девушкой и не могла даже помыслить о школе вне пресвятой матери-Церкви, когда заходил вопрос об образовании для сына. Отец убедил ее перевести Лукаса в иезуитскую школу, где учителя все были астрономы, поэты и ветераны бельгийского Сопротивления, а ученики – разных национальностей, сдержанные и, случалось, даже с примесью еврейской крови.
Но в последующие несколько лет, по мере того как ширились его исходные ориентиры и усиливалось восприятие родственных натур, он в определенных публичных местах – темных кинозалах Верхнего Вест-Сайда, например, – сидел, внимая невидимой публике и пытаясь по тончайшим признакам: реакции на хронику, на новозаветные эпосы, по тем элементам, которые сам едва понимал, – определить, есть ли среди окружающих евреи.
Порой он поворачивался к матери и в мерцающей темноте наблюдал за ней и ее откликом на происходившее на экране. Ее поведение, чувство юмора, словарь жестов и мимики – как он понимал это, разумеется, сейчас, по прошествии лет, – были, бесспорно, нееврейскими. И все это лишь совпадало с его христианской страстностью, вовсю распустившейся со вступлением во взрослую жизнь. С отцом Лукас в кино никогда не ходил.
Подняв глаза от пива, он увидел статного молодого мужчину, направлявшегося к нему. Человек явно был американец, прекрасно одет – в костюм для сафари роскошных песочных тонов. Высок, с безукоризненной атлетичной фигурой и бронзовой кожей, слегка красноватой от солнца. Круглые, в тонкой оправе темные очки подчеркивали изящество скул. Немецкие евреи следили за его приближением с мрачной настороженностью. Лишь в самый последний момент Лукас сообразил, что это, должно быть, преподобный Эриксен.
В нескольких шагах позади Эриксена шел его спутник. У этого, хотя тоже молодого, была лисья, нездорово-розовая физиономия, будто он не только обгорел на солнце, но еще и страдал псориазом. Он был в грязной белой панаме, зеленых наглазниках и шортах цвета хаки, черных, до лодыжек носках и пыльных черных туфлях. Выглядел он настолько же непрезентабельно, насколько Эриксен – модно и элегантно. Лукас встал:
– Мистер Эриксен?
Эриксен пожал ему руку, мягко, как водилось у современных много путешествующих американцев, в отличие от костоломной хватки Честного Эйба [111]111
Прозвище Авраама Линкольна.
[Закрыть]в былые времена. Сел напротив Лукаса. Второй был доктор Гордон Лестрейд. Англичанин Лестрейд протянул руку с таким видом, словно обычай обмениваться рукопожатием был безнадежным курьезом. Лукас объяснил, с какой целью искал с ним встречи: он пишет статью об иерусалимском синдроме. Эриксен задумчиво и серьезно посмотрел на него. Доктор Лестрейд глупо ухмыльнулся.
– Ежегодно сотни тысяч христиан едут отовсюду в землю Израильскую, мистер Лукас, – сказал Эриксен. – Они приезжают, а потом испытывают душевный подъем всю оставшуюся жизнь. Лишь на небольшой горсточке это сказывается не вполне благоприятно.
Впечатление было такое, что он слушает заготовленный ответ. Лукас решил парировать его такой же заготовкой:
– Но религиозная одержимость – интересное явление. Она кое-что говорит о природе веры.
– Средства массовой информации делают из верующих маргиналов, – заявил Эриксен. – Посмотрите, что показывают по телевизору, в кинотеатрах, – верующий всегда отрицательный герой. Иногда просто ханжа, но обычно преступник – сумасшедший и убийца.
– Очевидное меня не занимает, – сказал Лукас.
Он не стал добавлять, что имеет диплом религиоведа. Это только возмутит их.
– Хорошо, – сказал Эриксен. – Чем я могу вам помочь?
– Я полагал, что мы могли бы начать с Галилейского Дома. Как вы там оказались. Каково его назначение.
– Изначально он предназначался как странноприимный дом для прихожан евангельских церквей, – ответил Эриксен. – Некогда здесь к ним относились как к чужакам.
– А сейчас?
– Сейчас мы продолжаем принимать отдельных паломников. Но больше занимаемся исследованиями в области библейской археологии. Это сфера доктора Лестрейда.
– Вы работаете здесь? – спросил Лукас Лестрейда.
Лестрейд повернулся к Эриксену за ответом. На его лице по-прежнему стыла странная неприятная улыбка, – возможно, уж было подумал Лукас, следствие непроизвольного сокращения мышц или еще какой патологии.
– Теперь не очень много, – сказал Эриксен. – Сюда, в Масаду, в Кумран и к горе Искушения [112]112
Гора, где дьявол искушал Христа.
[Закрыть], мы возим паломников.
– Я решил, что у вас особый интерес к ессеям?
– В настоящее время мы работаем в Иерусалиме, – ответил Эриксен. – На раскопках у Храмовой горы. Приходите посмотреть наше новое место работы. Это в районе Новый Катамон.
– А, да, – сказал Лукас. – Знаю.
– Если желаете, – предложил Эриксен, – можете поехать с нами завтра. Мы везем нашу группу на Джебель-Каранталь.
Лукас недоуменно посмотрел на него.
Странный доктор Лестрейд пришел ему на помощь.
– На гору Искушения, – пояснил он. – Видно, не знаете истории, связанной с этим местом.
– Вообще-то, знаю.
Он было собрался отказаться от предложения, но одумался. Показалось заманчивым провести ночь в пустыне, и стало любопытно, зачем Эриксен возит паломников на гору Искушения.
– Мы отправляемся утром, в половине шестого, – сказал Эриксен. – Вас это устроит? Места в автобусе предостаточно.
– Буду готов к этому времени, – сказал он. – Я на машине.
Ночь тянулась медленно. Кафетерий закрылся в семь, автобусы уехали в город, и в центре оставались лишь несколько заночевавших гостей, кроме группы Эриксена. Одно крыло гостиницы было зарезервировано для нее, и до бродившего по саду Лукаса доносилась их оживленная болтовня. Но после девяти тишина и темнота опустились на пустыню и сама жизнь словно прекратилась.
Спускаясь к невидимой сернокислой воде, Лукас неожиданно услышал вибрирующий звук и увидел скользящий свет патрульного вертолета, выхвативший холмистую местность где-то в миле от него. Затем вертолет развернулся и улетел и сторону мыса Костиган; вновь наступила тьма. Лукас зашагал обратно к гостинице. Возле одной из пластиковых колонн перед рядом дверей он наткнулся на доктора Лестрейда, буквально с головы до ног закутанного в полотенца.
– Едете с нами, Лукас?
Весь запеленутый, с загадочной улыбкой на лице, Лестрейд походил на статую ханаанского божества, и очки в черной оправе таинственным образом усиливали сходство.
– Полагаю, что да.
– Вы действительно знаете, чем была гора Искушения?
– Разумеется, – ответил Лукас. – Я посещаю музеи искусств.
– Вы американский еврей, не так ли?
– Верно.
– И чувствуете особую тягу к этой земле? Чувствуете, что вернулись домой?
– Доктор Лестрейд, – спросил Лукас, – вы дурите мне голову?
– Нет, – ответил Лестрейд. – Я всегда интересуюсь. Покойной ночи.
И он исчез, словно призрак, которого напоминал.
10
Когда Лукас поднялся рано утром, паломники из Галилейского Дома уже толклись возле автобуса. Большинство одето чересчур по-американски: сплошные белые мокасины, лаймово-желтые слаксы и клетчатые шорты-бермуды. Набожные иностранцы в Израиле вечно выглядели до нелепости старомодно в стремлении следовать своим национальным стереотипам. Бродя среди них и на ходу завтракая перезрелыми фруктами, которые купил накануне, Лукас слышал также канадскую, австралийскую речь, речь со всех концов земли, где давал представления цирк Галилейского Дома.
Подошел доктор Лестрейд:
– Послушайте, можно я поеду с вами?
Лукас не возражал, предположив, что доктор жаждет пропустить глоточек в долгом пути.
Следом за автобусом они выехали с гостиничной стоянки и свернули на дорогу в Иерусалим и Иерихон.
– Похоже, ваши паломники не скучают, – сказал Лукас.
– О да. Типичный народ.
Конечно, подумал Лукас, такие они и есть, хотя его чувство патриотизма было уязвлено.
– Что, они все такие?
– Для меня они все одинаковы, – сказал Лестрейд. – Для вас, возможно, и нет.
– Говорят, типы существуют только в искусстве, доктор. Но не в жизни.
– Гм, а если б мы могли заглянуть друг другу в душу?
Эти слова заставили Лукаса замолчать на несколько миль. В конце концов он поинтересовался:
– Вы лицо духовное, доктор?
– Избави боже! Я археолог.
– Специализируетесь на библейских местах?
– С недавних пор.
– А с Галилейским Домом что вас связывает?
– Я у них научный консультант.
– Даете советы, где искать Ноев ковчег? Такого рода? – рискнул пошутить Лукас.
– Ноев ковчег, – повторил Лестрейд. – Это хорошо. Нет, на самом деле я не сотрудник Дома. Я настоящий археолог, на свой скромный лад. Веду полевые исследования. Иногда рассказываю о Кумране и ессеях.
Прежде чем Лукас успел извиниться, Лестрейд продолжил.
– Это, как ее называют, Святая земля, – произнес он тоном насмешливо-возвышенным. – Здесь есть действительно библейские места. То есть где что-топроисходило, да? Что-то, о чем мы до сих пор узнаём.
– Какие-нибудь новые находки?
– О, вы будете поражены. На кого, говорите, вы работаете?
– Был пишущим редактором «Харперc мэгэзин». Сейчас работаю над книгой.
– Надо же! – воскликнул Лестрейд. – Я тоже.
– Но моя о религиозных сектах. Не об археологии. И бывает, пишу статьи на разные темы.
– Ну, работая на Дом, поневоле становишься узким специалистом. Мы работали на Масличной горе и в кумранских пещерах. И разумеется, на Храмовой горе.
– Я думал, раскопки там запрещены.
– Не совсем. И не для нас.
– Что нового узнали о горе?
– Дом очень интересуется Вторым храмом и святая святых. Размеры и так далее. Все это кое-где описано.
– Вы имеете в виду Талмуд?
– Не только в Талмуде.
– Где еще?
– Простите, – сказал доктор Лестрейд. – Это все, что я могу сказать. У Дома есть сотрудник по связям с общественностью. Лучше будет обратиться к нему.
По дороге в Иерихон Лестрейд пустился в воспоминания о забавных случаях из его общения с типичными паломниками.
– Вот пример. Да, мы тогда осматривали византийскую церковь близ Бодрума в Турции. Там на стене сохранилась огромная мозаика: Христос Пантократор, И. X., Царь Царей. Пронзительные глаза, воздетая рука, пришедший в величии своем судить живых и мертвых. Иисус Христос Всемогущий, да? И одна женщина спрашивает: «Доктор, – и Лестрейд продолжил плоским, невыразительным голосом в манере янки, – а эта церковь очень древняя?» – «О да, очень, – отвечаю, – седьмого века». – «Неужели? – говорит она. – От или до Рождества Христова?» – И он загоготал.
– Ну, может, Христос у нее в сердце, – предположил Лукас.
– С таким же успехом она могла бы быть чертовой буддисткой, – возразил Лестрейд, – для нее все едино.
Оказалось, что доктор Лестрейд много лет учился, готовясь стать бенедиктинским монахом. Окончив Кембридж, он в последний момент отказался от этой затеи.
– На самом деле это не для меня, – объяснил он.
Следуя за автобусом, в котором сидели преподобный Эриксен и типы, они проехали несколько километров по шоссе на Иерусалим, а затем свернули на боковую дорогу к Джебель-Каранталь. На перекрестке стояло полуразвалившееся здание, в котором когда-то было кафе. В разоренном саду возле него, среди разросшегося алоэ, упавших виноградных плетей и мусора, сидели два малыша. Когда Лукас притормозил перед поворотом на Джебель-Каранталь, один из крохотных сорванцов поднял с земли черепок и швырнул в сторону машины.
На какое-то время они потеряли из виду туристский автобус, но после нескольких неверных поворотов Лукас заметил его на стоянке перед монастырем, на полпути к вершине.
– Спасибо, – поблагодарил Лестрейд, направляясь к автобусу, который стоял с работающим мотором. – Дальше я не собираюсь. Уже слышал эту лекцию и видел панораму.
Лукас прошел в монастырь через темную привратную часовню с вереницей святых Восточной церкви на стенах. За часовней, в дальнем конце обнесенного стеной сада, виднелась дверь, возле которой стоял сомнительного вида православный монах с недвусмысленно протянутой рукой.
Лукас опустил в его ладонь положенные шесть шекелей и стал подниматься по известняковой дорожке на вершину. Пока он взбирался по ступенькам, в голове настойчиво звучал «Отче наш» в такт шагам и тяжелому дыханию, как навязчивая мелодия. Сводило живот от несвежих фруктов.
Преподобный Эриксен и его группа были наверху, у восточного края вершины. Сам Эриксен стоял на камне, возвышаясь над ними, и широким жестом обводил окрестности. И вид во все стороны был захватывающий, поразительный. Внизу вилась лента Иордана, простиралась земля Моабитская до Галилеи на севере и Мертвого моря на юге. С западной стороны на горизонте виднелись пригороды Иерусалима, строения на вершине Масличной горы.
Эриксен по памяти цитировал евангелиста Луку, и голос его журчал как ручей. Он пересказывал эпизод в пустыне:
– По окончании сорокадневного поста Иисус повстречал Сатану, который совершал одну из своих прославленных прогулок. Неким образом Сатана навязался Христу в спутники. «И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царство вселенной во мгновение времени. И сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их; ибо она предана мне, и я, кому хочу, тому даю ее» [113]113
Лк. 4: 5–6.
[Закрыть].
Лукас почувствовал дрожь во всем теле. Глаза слепил свет, мучила резь в животе. Эриксен перевел дыхание и продолжил декламацию. Ничего не видя перед собой, Лукас отделился от группы и, повинуясь ветхому указателю, побрел к западному склону. По козьей тропинке спустился к древней постройке, которая оказалась туалетом.
Это была добавочная уборная, издавна существовавшая на горе Искушения. Снаружи стоял бак с водой, но сама постройка, частично развалившаяся, очень походила на главное строение монастыря ниже на склоне. Лукасу показалось, что внутри на стенах различимы фигуры, как будто более древние, нежели арабские и английские надписи поверх них. Воображение разыгралось от сверлящей боли в кишках. Фигуры на стене как будто покачивались.
В мозгу вспыхнул кошмарный, зловещий образ и пропал. Напротив того места, где он, скрючившись, сидел над отверстием в полу, он увидел крылатую фигуру, исполненную сиеной, – чешуя, подумал он, чешуйчатые крылья и когти. Это больше всего напоминало «Искушение Христа на горе» Дуччо [114]114
Дуччоди Буонинсенья (1255–1319) – итальянский художник.
[Закрыть], виденное им в манхэттэнском Музее Фрика, – полотно, помещенное там, где его трудно было не заметить, полотно, которое у него ассоциировалась скорее с потерянной любовью, похмельями и предвечерним Нью-Йорком под дождем, чем с чем-то религиозным. На картине Христос под золотистым метафизическим небом прогонял чешуйчатого дьявола, предлагавшего ему вселенную.
Свет в помещение проникал единственно через распахнутую дверь. Когда он мыл руки после уборной, нахлынуло новое воспоминание: зловоние туалета в благотворительной школе как ошпарило его чувствительный еврейский нос, когда он зашел туда. Он вспомнил, как после поединка с Инглишем смывал кровь с разбитого носа и губ, ее соленый привкус. А еще свое бледное детское лицо в грязном общем зеркале. Неприятное и непривычное воспоминание. Оно расстроило его. Он вышел на мучительно слепящий свет и вдохнул сладостный аромат пустынных трав, лавра и тамариска.
Он обернулся взглянуть на строение, в котором только что побывал, и коснулся стены. Невозможно было определить ее возраст. Колониальные пограничные будки 1920-х годов могли выглядеть библейски древними, простояв несколько десятилетий в этом климате, если были сложены из старых камней. Но что-то в этом месте наполняло его отвращением – монастырские сортиры с призраком лютеровского дьявола, или собственными его кошмарами, где подстерегали оскверняющее одиночество, детское потакание прихотям и бесстыдное вожделение. А еще хуже – зловоние собственного детства, представление о себе как о жертве.
Он неспешно вернулся назад, на вершину, и стал ждать, когда Эриксен освободится, чтобы поговорить с ним без помех. Он продолжал раздумывать об искушении Христа, необычных, загадочных словах евангелиста. Иисус отверг предложение дьявола обратить камни в хлеб. Отверг власть сатанинскую. Отверг предложение броситься вниз с крыла храма, чтобы ангелы спасли Его.
– Видно, Иисус вызывал интерес у Сатаны, – сказал он пастору. – Поскольку Сатана сам был ангел. Иисус же был человек. Претерпевал голод и всяческую нужду.
Эриксен снисходительно рассмеялся:
– Весь мир был во власти Сатаны. Вопрос стоял о его спасении.
– То есть, – спросил Лукас, – вы думаете, что Сатана старался заключить сделку?
– Да. Возможно.
– Если мир спасен, – спросил Лукас, – то почему он таков, каков есть? Избавление так же таинственно, как Падение. Я имею в виду, – сказал он, удивляясь собственной страстности, словно этот провинциальный красавчик мог открыть ему смысл вещей, – где же Он?
– Сатана знал, что они снова встретятся, – сказал Эриксен. – И это произойдет. У Сатаны, – доверительно добавил он, – множество имен, и его власть никогда не была столь велика, как ныне. Поэтому великое сражение близко.
– Уверены?
– Мессия еврейского народа возвращается. Он возглавит сражение со злом. Тогда Сатана выступит под своим настоящим именем, Азазель. Его воинство будет биться с воинством Господа. Когда битва будет закончена, все живые будут обращены.
– Простите, что задаю такой вопрос, – сказал Лукас, – но кто одержит победу?
– Господь одержит победу. Азазель будет сидеть на цепи под землей, как прежде.
– Как прежде?
– Азазель был в заточении под землей, – заявил преподобный Эриксен. – Но сбежал в Америку и ждал человечество там. Мы, американцы, распространили его власть по всему миру. Ныне мы обязаны помочь Израилю в борьбе с ним.
– Я думал, все обратятся в христианство, – сказал Лукас. – Разве не это предполагалось?
– После победы, – сказал Эриксен, – Израиль признает, что Иисус Христос – мессия из колена Давидова. Но сперва будет война и раздор.
– То есть вы везете людей сюда…
Преподобный договорил за него:
– Чтобы показать им место великого искушения. Первое искушение было, когда Азазель пытался убить Моисея. Второе – когда он приступил к Христу. Третье будет скоро, когда он соберет свое воинство и Мессия вернется, чтобы сразиться с ним.
– Значит, мы, американцы, – сказал Лукас, – в ответе за многое.
– Мы оплатим свой долг, помогая здесь, на земле Израиля. Ну, если я могу сделать что-то еще для вас лично, сообщите. По всем другим вопросам обращайтесь, как я уже сказал, к нашему пиарщику.
Возвращаясь к машине, Лукас прошел мимо Лестрейда. Тот поинтересовался, как ему понравился вид с горы и вдохновляющее действие этого места.
– Такое место ни в коем случае нельзя пропустить, – ответил Лукас. – Я, разумеется, рад, что побывал здесь.
Доктор Лестрейд озадаченно посмотрел на него, но ничего не сказал.
По дороге обратно в Иерусалим Лукас остановился у армейского поста, чтобы подсадить двоих солдат, направлявшихся в город. Один был красивый юноша, на вид совсем подросток, второй – седеющий сержант с суровым лицом.
Выяснилось, что молоденький работал во флоридском Исламораде, в магазинчике своего дяди, торговавшем футболками.
– Там можно нанести на футболку любую надпись. «Shit», «Fuck». Все, что хочешь. И заплатить отдельно. За грязные слова – больше.
Но чего пареньку-солдату по-настоящему хотелось, так это построить парусную лодку и поплыть через Средиземное море и Атлантику обратно, к архипелагу Флорида-Кис.
– Но не вернуться к торговле футболками? – спросил Лукас.
– Нет. Это было отвратительно. Нудно. Тоскливо. Море – вот что я люблю.
Лукас высадил его очень далеко от моря, у командного пункта напротив поселка с названием Кфар-Сильбер. Пожилой сержант был молчалив и мрачен. Лукас порывался спросить, откуда тот родом. Но Израиль был как Дикий Запад, а там подобный вопрос считался неуместным и мог открыть мир скорби, ужаса и компромисса.
В какой-то момент сержант достал пачку израильских сигарет. Протянул Лукасу. Когда Лукас отказался, взял сигарету сам:
– Не возражаете?
– Нисколько.
– Американец?
– Да.
– Еврей?
Лукас помолчал, не зная, что сказать. Сержант ждал, рука с горящей зажигалкой замерла на полпути к сигарете.
– Нет, – ответил Лукас и подумал про себя: спасибо, не сегодня.
– Корреспондент? – спросил сержант; Лукас вспомнил о знаке «пресса» на ветровом стекле. – Откуда едете?
– Из Эйн-Геди. Был на водах.
– Понравилось?
– Да, – сказал Лукас. – Думаю, мне это на пользу.
– И не сомневайтесь, на пользу, – подтвердил сержант. Оставшийся путь до Иерусалима они проехали вместе.








