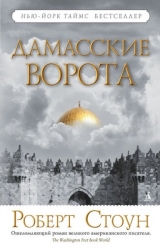
Текст книги "Дамасские ворота"
Автор книги: Роберт Стоун
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
Палестинец в латаной сутане, стоявший в дверях, вежливо поинтересовался у Лукаса, с какой целью он пришел.
– Да просто подумал, дай-ка зайду, – сказал Лукас.
Похоже, ответ того удовлетворил. Лукас не мог решиться спросить о часе исповеди, но, оказавшись внутри, понял, что пришел вовремя. Ряды палестинских подростков семейными группками стояли вдоль обеих сторон церкви, ожидая своей очереди на исповедь, мальчишки справа, девочки слева. Священники распознавались по пластиковым полоскам на дверцах исповедален, на них было написано имя и языки, которыми они владели: отец Бакенхёйс выслушивал покаяния на голландском, французском, немецком и арабском; отец Леклер давал советы на французском и арабском; отец Вакба понимал французский, английский, арабский и коптский.
Кабинка Жонаса Герцога располагалась на полпути к алтарю справа, но никого из мальчишек возле нее не было, и внутри тоже было пусто. Поблизости вдоль стены выстроилась очередь из разнообразных иностранцев.
– На каком языке говорит отец Жонас?
– На всех, – ответил ризничий.
Как сам дьявол, подумал Лукас и сел на скамью ожидать своей очереди. Может, церковь и не была древней, но все же в ней пахло холодным старым камнем, ладаном и смирением.
Затем появился человек – по всей видимости, Герцог. Лукас читал, что ему шестьдесят, но выглядел тот даже старше. Он пришел из сияющего света Святой земли во мрак отступничества, преклонил колена перед Святыми Дарами, поклонился распятию. Скованный и сгорбленный, в черно-белом бенедиктинском одеянии.
Свою табличку Герцог принес с собой. На ней было написано его имя на иврите, арабском и латинском. «Yonah Herzog – Jonas Herzog, OSB» [307]307
Орден Святого Бенедикта.
[Закрыть].
Кое-кто уже давно ждал Герцога. Когда последний покаявшийся грешник ушел и Лукас поднялся на ноги, его опередила внезапно появившаяся молодая европейская женщина. Скромно одетая привлекательная блондинка в белом платье без рукавов, на плечи накинут хлопчатобумажный свитер. На голове белый шарфик. Немка? Вид у нее был смятенный.
Лукас решил, что женщина замужем, молодая мать семейства, неверная супруга вице-консула или супруга неверного вице-консула. В этой стране так много возможностей для супружеской неверности, для непростительных случайных связей, слишком много обязательств, чтобы их не нарушать. Спать с женатым коллегой, или с лихим палестинским партизаном вроде Рашида, или со своим шефом из Шин-Бет. Естественно, она пришла к Герцогу, который знал цену измене и ее прелести.
Она исповедовалась долго. До Лукаса доносился лишь тихий шелест речи, похоже французской. Затем молодая женщина вышла и направилась к алтарю, чтобы, как в древности, произнести покаянную молитву.
Лукас встал, желудок у него свело, словно он снова вернулся в детство, затем ступил в темноту исповедальни и стал на колени наедине с распятием. Скользящее окошко отца Герцога открылось. В полутьме Лукас различал его острый профиль и поблескивающую стальную оправу его очков. Неожиданно он растерялся, не зная, как начать. Хотя он не намеревался исповедоваться, но все же попробовал вспомнить шаблонную форму исповеди по-французски.
– Последний раз я исповедовался двадцать пять лет назад, – услышал он собственный голос.
– Двадцать пять лет назад? – едва заметно удивился отец Герцог. – И вы хотите исповедоваться сейчас?
Лукас попытался понять французский священника, а потом и смысл вопроса.
– Вы совершили преступление? – спросил священник.
Un crime [308]308
Преступление (фр.).
[Закрыть]. Это привело на память Бальзака [309]309
Аллюзия на приписываемую Бальзаку фразу «За каждым богатством кроется преступление» (искаженная цитата из «Отца Горио»).
[Закрыть].
– Нет, отец. Никакого, как говорится, серьезного преступления.
– Готовитесь причаститься Святых Тайн?
Единственный правильный ответ был бы сказать «да». Но вместо этого Лукас сказал по-английски:
– Нет. Но я хочу поговорить с вами.
– Я лично не могу быть к вашим услугам, – ответил отец Герцог по-английски. – Я здесь в качестве священника.
– У меня вопросы религиозного характера.
– Могу предложить вам лишь причаститься. И то лишь, если вы человек крещеный.
– Я крещен, – сказал Лукас, – и так же, как вы… смешанного происхождения.
Герцог вздохнул.
– Если бы вы могли уделить мне несколько минут, – сказал Лукас, – думаю, это помогло бы мне. Я готов подождать. Мы могли бы условиться о встрече.
– Вы журналист?
– Был им, – ответил Лукас. – Да.
– И пишете о религии?
– О войне, главным образом.
– По решению суда я больше не даю интервью.
– Тогда попрошу вас об одном. Только дать мне совет. Конфиденциально. Не для печати.
– Хотите, чтобы у меня были неприятности? – спросил Герцог почти шутливо.
– Не хочу.
– Понятно. Что ж, должен вас попросить. Если не трудно подождать, могу встретиться с вами по окончании исповедей.
– Конечно. Я подожду.
Он вышел из кабинки, как послушный мальчик, и сел на прежнюю скамью. Все это было так по-детски, но делать нечего.
Молодая блондинка по-прежнему стояла у алтарной ограды, вознося покаянную молитву, и он ей позавидовал. Когда она, перекрестившись, направилась к выходу, ему захотелось пойти за ней. Захотелось делить с ней ее веру, ее тайны, ее жизнь. Он почувствовал себя совершенно одиноким.
Больше никто не заходил к отцу Герцогу исповедоваться. Лукас задремал, сидя на скамье, а когда проснулся, церковь была пуста и священник в нефе смотрел на него. Свет в приоткрытых дверях потускнел.
– Простите! – извинился Лукас.
– Bien [310]310
Зд. Ничего-ничего (фр.).
[Закрыть].
– Мы куда-нибудь пойдем?
Священник сел рядом с ним на скамью:
– Поговорим здесь. Если вы не против.
В нем было много от француза: обходительный, ироничный.
– Конечно не против, – сказал Лукас и чуть отодвинулся.
– Вы упомянули о своем смешанном происхождении. Это проблема для вас?
– Я был католиком. Веровал. Мне следовало бы понимать веру, но я не могу вспомнить, что это такое.
Герцог едва заметно пожал плечами:
– Когда-нибудь, может, вас и осенит.
– Меня тянет обратно. Но не очень получается припомнить тогдашнее состояние.
Это было совершенно не то, о чем он собирался говорить. Загнал себя в угол заготовленной стратегией интервью. Иногда, говорил ему редактор, надо рассказать историю своей жизни. Но он вышел за рамки, слишком раскрылся и снова потерял контроль над собой.
– В таком случае надо молиться.
– Я нахожу молитву нелепостью, – сказал Лукас. – А вы не находите?
– Наивно молиться по-детски, – сказал Герцог, – если вы уже не ребенок.
– Расскажите, что значит быть евреем, – попросил Лукас. – Это касается духовной области?
– «Нет уже ни Иудея, ни язычника, – процитировал отец Герцог, – нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе» [311]311
Гал. 3: 28.
[Закрыть].
– Это я знаю, – сказал Лукас. – Но принадлежность к еврейству должна что-то значить. Как связь между человечеством и Богом.
– Святой Павел говорит нам, что мы пребываем наедине с Богом. Что не подразумевает отсутствия у нас ответственности перед человеком. Наш моральный пейзаж обнимает все человечество. Но в конечном счете мы – отдельные мужчины и женщины, взыскующие благодати… Мы не можем стать менее одинокими. Вы спрашиваете, почему Бог явил Себя евреям? Думаю, можно найти тому социальные и исторические причины. Но факт тот, что мы не знаем почему.
– Вы чувствуете себя евреем? – спросил Лукас.
– Да, – ответил священник. – А вы?
Лукас задумался, потом ответил:
– Едва ли.
– Хорошо. Потому что вы и не еврей. Вы американец, так?
Лукас почувствовал себя отверженным. В нем заговорила гордость американца, и захотелось сказать Герцогу, что, мол, ни к чему выставлять его еще большим ничтожеством.
– Но я чувствую, – однако сказал он, – что какая-то часть меня жила прежде.
Помедлив, Герцог заключил:
– Не все, что мы чувствуем, является откровением.
Сконфуженный, Лукас приготовился рискнуть нарваться на оскорбление. Он действующий журналист, думал Лукас. Есть удостоверение; он может пойти куда угодно, говорить что угодно. Их голоса гулко звучали под каменными сводами.
– У раввинов-каббалистов, – сказал он священнику, – я нашел самые великие, какие только знаю, истолкования жизни и истины. И увидел, что они возрождают во мне религиозные чувства, которых я не испытывал…
– С детских лет?
– Да. И вот я задаюсь вопросом, не есть ли эти вещи то, что я знал всегда? Я имею в виду, вечно.
– Первый раз в Израиле? Вы можете подать на израильское гражданство. Это несложно устроить. Не с моей помощью, к сожалению.
– Я понимаю одно, исходя из другого.
– Мой вам совет: не рассказывайте рабби, что вас так увлекают книги, которых вы, вероятно, не способны понять, и написанные на языке, которого не знаете. А то он вышвырнет вас из кабинета.
– Это правда, – спросил Лукас, – что мы должны лишиться жизни, чтобы обрести другую?
– К несчастью, да.
– Но вы утверждаете, что продолжаете оставаться евреем.
– Потому что я еврей. Это мое самоощущение, моя проблема и мой путь к благодати.
– А мне как быть?
– Вам как быть? Вы американец в мире нищеты и страдания. Чего вы еще хотите?
– Веровать. Иногда.
– Послушайте, – сказал Герцог, – единственное, что я могу вам чистосердечно посоветовать, посоветовал бы вам любой священник – самый фанатичный, самый непросвещенный. Отдаться на волю Божию. Попробовать молиться. Попробовать веровать – и, возможно, уверуете. Говорится: если взыщешь Господа, Бога твоего, то найдешь [312]312
Втор. 4: 29.
[Закрыть].
Они еще немного посидели молча, потом Герцог откашлялся и собрался уходить.
– Спрошу как журналист о том, что называется подоплекой, не для ссылки на источник, – что вы сказали в суде?
Священник положил руки на спинку скамьи перед ними:
– Что в Израиле у меня есть право на получение гражданства. Всего-навсего.
– Это было… смело с вашей стороны. Вы же наверняка знали, какая будет реакция.
– Да, конечно, – сказал старый священник. – Ладно бы еще меламед [313]313
Учитель в хедере (начальной еврейской школе).
[Закрыть]. А еврей, ставший монахом, – давний враг для них. Урод, без которого, как говорится, не бывает семьи. Порочное дитя, мститель, который обличал евреев, устраивал публичные споры и сожжения Талмуда. Каббалы, которую вы обожаете.
– Разве не этого вы ожидали? – Или желали, мысленно добавил Лукас.
– Я не сумел доказать свою правоту.
– Когда прочитал о вашем деле, – сказал Лукас, – я подумал о Симоне Вейль [314]314
Симона Вейль (1908–1943) – французский философ и религиозный мыслитель еврейского происхождения; во время войны в знак сочувствия к узникам нацизма ограничила потребление пищи до уровня пайка в гитлеровских концлагерях, что и привело ее к преждевременной смерти.
[Закрыть]. О том, как бы она поступила на вашем месте.
– А, да, Симона Вейль…
Но он знает, подумал Лукас, как поступила бы та. Отправилась бы в Газу и поселилась там, чем привела бы всех в ярость.
– Она отказалась креститься, – сказал Лукас, – так что в некотором смысле оставалась иудейкой. Есть ли для нее место в грядущем мире?
– Да, как для святой, – ответил Герцог. – Здесь для нее места нет.
– Слишком плохо, что в нашей религии нет бодхисатв. Что бы они собой ни представляли.
Герцог проводил его до двери:
– Простите, что не могу вам помочь, сэр. Но, понимаете, я не в состоянии. Не в моих силах дать вам веру одновременно в бодхисатв, каббалу и Иисуса Христа. Несомненно, в Америке такая вера есть.
Они стояли у выхода, возле распятия над купелью со святой водой.
– А каббала, – сказал священник, – действительно прекрасна. В конце концов христиане сами пришли к этому. Рейхлин [315]315
Иоганн Рейхлин (1455–1522) – немецкий философ и гуманист; считается первым немецким неевреем, освоившим иврит.
[Закрыть], и Пико, и испанцы, даже во времена инквизиции. Однажды, если у вас хватит самодисциплины, вы, возможно, поймете ее – и она поможет вам.
– Почему все-таки вы приехали сюда? – спросил Лукас. – Почему пошли в суд?
– Потому что это святое. И помолиться за родителей на их земле. Хотя они не были религиозны.
– Они перевернутся в своих могилах.
– У них нет могил.
– Простите. Это правда, что вас спрятали в католической школе?
– В Венеции, – ответил Герцог. – Родители оставили меня под распятием. И я спросил их, моих родителей: «Что с ним случилось?» Имея в виду человека на кресте, фигуру Христа. Мне тогда было десять лет, и я не понимал, что такое распятие. Мы жили в Париже. После освобождения мне еще не было четырнадцати. Префект рассказал мне, кто я такой. Что я еврей. Что моих родителей, мою семью выдали немцам и те их убили. И мне пришло – как бы это сказать – осознание.
– Но вы же не могли оставить Церковь?
– Что Церковь! – Герцог легко пожал плечами. – Церковь меня не слишком заботила. Церковь – это люди, живые люди. Кто-то хороший, кто-то нет.
Он опустил глаза в пол.
– Тогда почему вы здесь?
– Потому что я ждал, – сказал Герцог. – Ждал там, где меня оставили. У подножия распятия. От злости или набожности, не знаю. – Он рассмеялся и положил руку на плечо Лукаса. – Паскаль говорит, что мы ничего не поймем, пока не поймем причины, лежащей в основе. Верная мысль, не правда ли? Так что я мало что понимаю.
– Полагается верить, что Христос вознесся, чтобы царствовать в славе, – сказал Лукас.
– Нет. Иисус Христос будет страдать до конца времен. На кресте. Он продолжает страдать. До смерти последнего человека.
– И это приводит вас сюда?
– Да, – ответил Герцог. – Чтобы присутствовать. Продолжать ждать.
Вечер нес в двери церкви запах автомобильной гари и жасмина.
– Я понимаю, что в подобного рода мире, – сказал Лукас, – не имею права быть столь несчастным. И также понимаю, что в смысле веры всегда буду ребенком. Это нелепо, и мне очень жаль.
Герцог улыбнулся, первый раз за время их разговора.
– Не жалейте, сэр. Может, вы читали «Antimémoires» Мальро? [316]316
Андре Мальро (1901–1976) – французский писатель и культуролог, был министром культуры в правительстве де Голля; речь идет об автобиографии Мальро «Антимемуары» (1967).
[Закрыть]Там его кюре говорит, что люди намного несчастней, чем можно подумать. – Он протянул Лукасу руку. – И что нет такой вещи, как взросление.
34
После истории в Сафеде всякие свихнувшиеся на Боге и прочие одурманенные бродяги то и дело появлялись и исчезали в их бунгало в Эйн-Кареме. Одной из них, застрявшей надолго, была голландка, бывшая монахиня по имени Мария ван Витте, которую в монашестве звали сестра Иоанна Непомук. Часто возникали двое длинноруких братьев-ротозеев из Словакии: Хорст и Чарли Волсинги. Лукас думал, что они немцы, но оказалось – евреи, венгры немецко-еврейского происхождения. Один из них был музыкант, видимо довольно известный; другой походил на умственно отсталого и аутиста. Несмотря на различие в интеллектуальных способностях, внешне их было буквально не отличить, хотя ни у кого в окружении Де Куффа не было никакой особой причины проводить между ними различия. Как ни странно, еще время от времени появлялся Иэн Фотерингил, автор кошерного соуса ансьен. Иногда вместе с Сонией заглядывала Элен Хендерсон, Саскатунская Роза. Она была из пятидесятников, а приходила сюда исключительно из преданности Сонии.
Ветераны инопланетных похищений, перевоплощенные жрецы Изиды, мнимые друзья далай-ламы – все появлялись в Эйн-Кареме ненадолго, устраиваясь под садовыми тамарисками.
Среди наиболее памятных визитеров были отец и сын Маршаллы. Папаше можно было дать и шестьдесят, и восемьдесят, сынок выглядел ненамного моложе. Старший Маршалл, хоть и был иудеем, наизусть знал большие куски Нового Завета. Когда Маршаллы появлялись, тут же возникали частные детективы и начинали расспрашивать о них. Младший Маршалл вел все семейные финансовые дела и вообще занимался любыми численными расчетами, поскольку его отец, каббалист, был помешан на числах. Лукас, бывавший там несколько раз в неделю, слышал от Обермана, что старший Маршалл якобы преступник, объявленный в розыск в Америке, и что он то ли сошел с ума, то ли прикидывался таковым.
Де Куфф не замечал никого, кроме Разиэля и Сонии, и Разиэль давал каждому, кто появлялся в Эйн-Кареме, возможность пожить там за счет Де Куффа.
Однажды вечером все эти персонажи, а также множество других собрались в прилегающем саду, который принадлежал сестрам монастыря Нотр-Дам-де-Льес, на, как было объявлено, концерт.
Днем перед концертом Сония приехала из Рехавии и нашла Разиэля в саду при бунгало – он сидел в темных очках и медитировал. Не желая беспокоить его, она села под оливой в тени от стены.
– Великая ночь будет, – секунду спустя сказал Разиэль.
– Думаешь?
– Ты будешь нам петь.
– Погоди-ка. Это кто говорит?
– Преподобный. Говорит, ты должна спеть.
– Угу. Получу я что-нибудь?
– Не заботься о завтрашнем дне, – сказал Разиэль, все еще с закрытыми глазами.
– Стандарты допускаются? Из мюзиклов Роджерса и Харта?
– Преподобный хочет что-нибудь на ладино. Хочет «Мелисельду».
– Разз, не надо говорить, мол, Преподобный хочет. Это ты хочешь. Мне известно. Да я и не знаю ладино.
– Так изобрази, что знаешь. Спой на староиспанском.
– Ну ты даешь! – сказала она. – Не знала, что ты такой.
– Великая ночь будет, – сказал Разиэль, выпрямляясь. – По-настоящему великая. Потому что это не просто концерт. Нынче ночью он поведает тайну. Четвертую.
– Я думала, он сделает это в Вифезде.
– Это слишком опасно. Это достаточно опасно даже здесь.
– А что это за четвертая тайна?
– Да ладно, Сония. Ты знаешь.
– Первая: «Все есть Тора», вторая: «Век грядущий близок», третья. «Поцелуй смерти», а четвертая?
– Ты знаешь не хуже меня. И он не говорит мне тоже. Во всяком случае, это что-то, во что ты уже веришь.
– Ну хорошо, – сказала она. – Давай посмотрим, какие песни ты хочешь.
Тем вечером Лукас поехал в Эйн-Карем с Оберманом. Он закончил статью о конференции на Кипре, взбадривая себя катом. Он был измучен и подавлен.
– В последнее время он сочетает свою проповедь с музыкой, – сказал Оберман о Де Куффе.
Они оставили машины на боковой улочке рядом с местом, где должен был проходить концерт. Маленькая арабская деревушка Эйн-Карем была поглощена Иерусалимом и превратилась в подобие широко раскинувшегося Сосалито, только без моря [317]317
Калифорнийский городок, ставший пригородом Сан-Франциско; расположен на берегу залива Ричардсон-Бей.
[Закрыть]. Ближе к сумеркам смог иногда рассеивался, и вечер снова благоухал ароматами трав.
– Собираются толпы, – добавил Оберман. – Он притягивает к себе людей.
– Я обычно видел его в Вифезде, – сказал Лукас. – Что он сейчас делает?
– Все привораживает. Своим неоплатоническим толкованием Торы. Каббалистическим мистицизмом. У него хороший голос. И музыка бывает чудесная.
– Недовольные есть?
– Недовольные. Крикуны. Однажды он, возможно, зайдет слишком далеко. Знаете, они никогда не пускают шапку по кругу. Удивляюсь, откуда он берет деньги.
– Это его собственные деньги, – сказал Лукас. – Судя по всему, он владеет куском Луизианы.
Как обычно, плату за вход не взимали. В саду монастыря Нотр-Дам-де-Льес среди кедров была устроена временная сцена с ракушкой-эстрадой. На противоположном склоне уложены ряды досок, на которых зрители могли рассесться с достаточным комфортом, если прихватят с собой подушки и поостерегутся заноз. Стен у импровизированного зала не было, так что люди, сколько их ни соберется, должны были сидеть прямо напротив сцены, чтобы все хорошо слышать.
Лужайка постепенно заполнялась, и Лукас бродил в толпе, чувствуя ту особую, слабую, но бесившую его ауру блаженства, обычно свойственную событиям, центром которых бывал Де Куфф. Собралась в основном молодежь. Многие были приезжими неевреями, но достаточно было юных израильтян и американских евреев. Отдельной группой сидели чернокожие иудеи из общины в Димоне, что в пустыне Негев.
Чувствовался запах масла пачули – аромат, который он почти не встречал со времени собственной юности. Было несколько пожилых пар, выглядевших одинокими и как будто на первом свидании, а кто-то, казалось, даже пришел ради музыки. Под сухим рожковым деревом сбоку от сцены стояли несколько буйных молодых людей в кипах, явившихся, как подумал Лукас, чтобы мешать выступлениям.
Когда стемнело, запели ночные птицы и над головой высыпали звезды, на сцену вышли Хорст и Чарли Волсинги, Разиэль, Де Куфф и Сония, все со своими инструментами. Де Куфф с виолончелью и удом – арабской лютней, Разиэль с кларнетом, Хорст Волсинг со скрипкой; его умственно неполноценный брат Чарли – с бубном.
Из соседней рощи послышались крики религиозных скандалистов, вопивших по-английски:
– Go home! [318]318
Отправляйтесь домой! (англ.)
[Закрыть]
– Извините! – надрывался паренек с акцентом кокни. – Извините! Извините! Среди вас есть хоть один еврей? Извините!
Они заиграли сефардскую музыку, которой Разиэль придавал легкий клезмерский [319]319
Клезмер – традиционная нелитургическая музыка восточноевропейских евреев и особый стиль ее исполнения.
[Закрыть]оттенок. Скандалисты постепенно притихли – все, кроме кокни.
– Извините! – продолжал он кричать.
Лукас изо всех сил старался не поддаваться воздействию музыки, но потом перестал сопротивляться. Слов он не понимал. В первых песнях, как он почувствовал по комическим пассажам, присутствовали ирония, шутки. Потом последовали песни невыразимо печальные, словно ждущие дополнительного отклика-рефрена, как песня воробья. Воробьиная песнь требует ответного зова, иначе она повисает над лесами и лугами незавершенной. В иерусалимском лесу поблизости еще сохранились соловьи, и они заполняли редкие паузы тишины.
В целом мелодии были грустные и прекрасные, прекрасные и страстные, как песни Бруха [320]320
Макс Брух (1838–1920) – немецкий композитор и дирижер.
[Закрыть], и немного напоминавшие их, но часто рваные, нагие, шокирующие – такие слова приходили ему на ум. Иногда соразмерные, но больше непредсказуемые. Чарли Волсинг тряс своим бубном как бог на душу положит, но казалось, что некоторым образом в лад. Во всем этом, думалось Лукасу, был элемент сумасшествия, сумбура. Это была того рода музыка, которая способна смутить человека с особым складом ума, вызвать в нем непредсказуемые реакции, пробудить в нем дьявола. И Лукасово сознание могло быть тому примером.
Лукас пытался рассматривать эту музыку как предмет для описания. Но получалось плохо – из-за Сонии. Какие бы песни ни брал Разиэль, он приспосабливал оригиналы к сегодняшнему выступлению, располагая их в таком порядке, чтобы в этом имелось определенное содержание, а главное, приспосабливая под голос Сонии. Никакой другой причины для этого Лукас не видел. Так что для него это были песни о вере, покорности, ангелах, падучих звездах и блуждающих душах. О безумных надеждах и смутных грезах. Мелодии замещали ее, становились ею, выходили на первый план, пока не стало казаться, что она инструмент, который того и гляди зазвучит по собственной воле. Они заставляли ее голос переходить с горлового на грудной и обратно в одном пассаже, вибрировать, рыдать. Наблюдая за ней, он видел, какого физического напряжения стоили ей длинные песни и какие переживания вызывали у нее. Он понимал это по собственным ощущениям.
Казалось, слова во всех песнях были одинаковы, пелось ли в них о Мелисельде, о некоем метафорическом короле, разбитых сосудах или требованиях неуступчивой любви. Две строки он более или менее понимал:
Если хочешь слушать песню мою,
Ты должен пойти со мной.
Он не мог сопротивляться впечатлению, что она поет для него. Никогда ему не освободиться от нее, думал он. В то же время она была на другой стороне тьмы, дальше его, дальше его способности верить, дальше любого такого, как он, не приспособленного для магии. Еще не готового даже к тому, что будет завтра, не говоря уже о мире грядущем.
Если двинуться к ней, думал Лукас, он найдет пустоту там, где она только что была, не на что будет опереться. Нужен прыжок, которого он не может совершить. Если конец света близок, то она – судьба, которую он встретит там, падение с моста над геенной, на которое он будет обречен. Хотя он не может перейти Долину Енномову, хотя не может рухнуть в нее, а только остаться с несговорчивой любовью, в подвешенном состоянии. С полуверой-полужизнью. Знает ли она, что он сейчас здесь, в темноте перед сценой? Или музыка перенесла ее на некое каменное небо иудеев, в сапфировый зал, где на инструментах играют ангелы, где любовь меняет свою природу и все зовется по-другому? Его послания с Кипра и из Хайфы она оставила без ответа.
Yo no digo esta canción,
Sino a quen conmigo va.
Лукас сидел ошеломленный. Даже Оберман рядом с ним на скамье был поглощен музыкой, его полная, немузыкальная фигура раскачивалась в такт ей.
Поглядев вокруг, он увидел, какую власть имеет музыка над публикой. У многих в толпе на шее болтались медальоны в форме уробороса. Оберман тоже это заметил.
– Какой-то серебряных дел мастер обогатится, – сказал он. Вся эта публика хотя бы знает, что означает этот символ?
Лукаса спрашивать было бесполезно.
– Об этом есть в «Зогаре», – сказал Оберман. – У эллинизированных синкретистов змей символизировал Сераписа. Можно еще долго продолжать на эту тему.
Самому ему продолжать не дали соседние зрители, которые зашикали на него. Крикуны возле сцены никак не могли угомониться, но Лукас их не слышал, погрузившись в мысли о Сонии.
Затем Де Куфф и Разиэль вместе спустились со сцены. Де Куфф воздевал руки, обращаясь к толпе. Следом за ним шла Сония и била в бубен, взятый у Чарли Волсинга.
– Цирк! – надрывались крикуны. – Клоуны!
Де Куфф распевал какие-то стихи, возможно из «Зогара». Откуда бы они ни были, строки прекрасно звучали в его исполнении. Но слушать его мешали разошедшиеся крикуны в роще, которых прежде сдерживала музыка.
– Слова меняются, – кричал Де Куфф, лицо его покраснело от напряжения и блестело от пота, – но песня вечна! Слова – это шифр, скрывающий истину, заключенную в них. Это покров для священного света, представляющего угрозу тьме мира.
Крикуны запели «Вперед, Христовы воины!»; многим слова этого гимна были знакомы.
– Извините! – вопил неугомонный лондонец.
Люди в толпе возмущались, смеялись, шикали друг на друга.
– Тайна! – кричал Де Куфф.
Сбоку сцены Разиэль говорил Сонии:
– Настал момент, Сония. Сейчас он выдаст четвертое откровение.
Разиэль и Сония усмехнулись друг другу. Она четырежды ударила в бубен и затрясла им, звеня серебряными бубенчиками.
– Извините! – вопил парень среди рожковых деревьев.
– Все тайны суть одна тайна! – возвестил Де Куфф. – Поклоняемся ли мы Ветхому Днями Святому, поклоняемся ли Сефирот – мы все одинаковы. Существует одна истина! Существует одна вера! Существует одна святость! И при рождении грядущего мы все, по происхождению ли, по парцуфим, —мы все стояли на Синае. Нет Израиля! Есть один Израиль! Тайна одна! Вы все одной веры! Вы все веруете в единое сердце! Не веровать – значит перестать быть!
При этих словах даже крикуны прекратили издевки, замолчав, чтобы понять провозглашенное. Потом завопили вновь, еще яростнее.
– Вот что явится, когда змея сбросит свою кожу! – сказал Де Куфф.
Сония ударила в бубен.
– Начертано было, что я возмущу вас. Я покажу вам Нетварный Свет в пустыне выжженной души. Лен среди шерсти.
На сцене Разиэль что-то прошептал Де Куффу. Старик повернулся к Сонии, взял ее за руку и представил толпе.
– Это Рахиль, – сказал он. – Это Лия.
Поднялся ветер, внезапно зашумели окружающие сосны. Сония посмотрела на звезды.
– Будь ты проклят! – заорал религиозный парень из Лондона, который прежде кричал: «Извините!»
Разиэль вышел вперед:
– Спасибо, что пришли. Вы здесь для того, чтобы быть едины с нами. Загляните в ваши сердца!
Раздались вопли и возгласы одобрения. Люди выражали злость и радость. В саду началось столпотворение.
Де Куфф, Разиэль и Чарли Волсинг снова начали играть. Сония тихо и проникновенно запела, аккомпанируя себе на бубне. Симпатизирующий им народ образовал цепочку вокруг сцены.
Лукас протиснулся сквозь толпящуюся публику к Сонии. Он думал, что всегда умел исключать из своей жизни людей, связь с которыми, по его мнению, грозила разрушением или безумием. Собственное его влияние на вещи было, считал он, столь незначительным, что необходимо проявлять жесткость. Сейчас, глядя на нее, стоящую на сцене, преобразившуюся к чему так стремилась – в дервиша, он подумал, что никогда не сможет отпустить ее.
Пространство, к которому он пробился, представляло собой странное зрелище. Чокнутый Волсинг со своим бубном. Его братец, имевший этой ночью такой вид, будто заблудился по дороге в Линкольн-центр. Раскрасневшийся Де Куфф и Разиэль в темных очках и хипстерских черных узких брючках. Сония, как Рахиль и Лия, с сияющими глазами. Он мог представить себе огненные буквы Торы в ночном небе. Об этом говорила музыка. О некоем священном иномирном кошмаре.
– Ты веруешь, – сказал Разиэль Сонии, – я слышу твою веру.
– Да, – ответила та.
– Эта сила действует как музыка, – сказал он. – Она выводит за границы обыденной реальности тем же путем, что музыка. Что бы ни произошло, Сония, продолжай петь. И твое пение проведет нас через искупление. Оно проведет нас в мир грядущий.
– Песни, – сказала она. – Это все, что я знаю.
Лукас подошел к ней:
– Почему не отвечаешь на мои звонки? Ты что, просто больше не желаешь говорить со мной?
– Сейчас поговорит, – встрял Разиэль.
Лукас не удостоил его вниманием.
– Я должен поговорить с тобой, – сказал он. – Где и когда захочешь.
– Ладно, – ответила она. – Прости, что не перезвонила. Мне так неудобно.
– Прощаю. Позвоню тебе завтра, откуда-нибудь отсюда. Встретишься со мной?
Она коснулась его локтя и тут же отдернула руку:
– Конечно встречусь.
– Это все, чего я прошу.
Несколько полицейских наблюдали за тем, как сад пустеет. В поисках Обермана Лукас наткнулся на Сильвию Чин из американского консульства. Она была в черном, с амулетом из жадеита, чьи прожилки вызывали ассоциацию со священным узором. Выглядела она очень элегантно и сказочно. С ней был высокий седеющий мужчина, явно европеец.
– Привет! Как прошло на Кипре?
– Отвратительно.
– Конференция?
– Поучительная, ты не поверишь.
– А нынешний вечер? – спросила Сильвия. – Тоже достаточно поучителен, не находишь? Запах пачули? Видел всех этих обкуренных ребят?
– Я не заметил ни одного обкуренного. Ты имеешь в виду крикунов?
– Нет, конечно, глупый. Эти крикуны молятся каждое утро. Нет, ребят впереди. Как в «яме» на рок-концерте. Вопящих и беснующихся.
– Не заметил.
– Я видела Маршаллов с Де Куффом. Обоих.
– Кто они такие?
– Ну, один мистер Маршалл – проходимец из Нью-Йорка, которого мы пытаемся экстрадировать. Деляга в обносках. Второй мистер Маршалл – это его сын. Оба стали декуффитами.
– Полагаю, они сошлются на невменяемость, – сказал Лукас. – В качестве алиби.
– Возможно. Старший все деньги просадил на скачках. Так что его заставили обратиться к факторинговой компании. В итоге люди платили и ему, и этой компании. Так что все обратились к окружному прокурору с иском. Похоже, речь идет о миллионах.
– Что думаешь об этом? – спросил Оберман Лукаса, когда Сильвия и ее спутник удалились. – Осенило?
– Он идет до конца, так?
– Похоже на то. Гностицизм. Синкретизм.
– Что будет дальше?
– Кажется, – сказал Оберман, – я знаю, что будет дальше.
– Что?
– Давай подождем и посмотрим, прав ли я.
– Бесперспективный замысел, – сказал Лукас. – Крах неминуем, да? И это опасно. В Израиле, как нигде.
– Да, здесь это вопрос не абстрактный и не академический. А потому опасный. В том числе опасный для собственной личности. Эти люди всего лишь люди. Они могут быть сметены.
– Но если близится конец, – сказал Лукас, – то кто-то должен не бояться пламени.
– Ты говоришь как один из них. Может, тебе стоит дать волю чувствам. Я видел, ты и Сония снова разговариваете.








