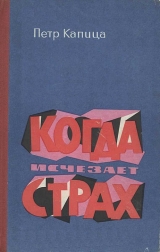
Текст книги "Когда исчезает страх"
Автор книги: Петр Капица
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 35 страниц)
Петр Капица
Когда исчезает страх
Книга первая
Боксеры
Часть первая
Глава перваяСтаренький телефонный аппарат не звонил, а как-то странно дребезжал. Заворг райкома комсомола Кирилл Кочеванов хватал с рычажка трубку и коротко спрашивал:
– Кто? – А узнав, что с ним говорит секретарь комсомольского комитета, кричал: – Ты что это, друг, филькину грамоту прислал? Одни цифры торчат. Где люди? Живых людей не вижу!
– Как же ты их увидишь, если не заходишь? – удивлялся тот. – Зазнались, забурели вы там.
– Ну, понимаешь! – восклицал Кирилл, не зная, как выразить свое негодование. – Вот из-за таких мудрецов мы и торчим в райкоме дотемна. Ваши клинописи разгадываем.
– А зачем же самому разгадывать? Ты археологов вызови, они скорей разберутся, – насмешливо советовал секретарь комитета. – Нас же не для писанины выбирали! Мы болеем за живые дела.
– Ладно, я тебе подошлю археологов, – пригрозил Кочеванов. – Посмотрим, какие у тебя «живые дела».
Дав отбой, он принялся обзванивать других секретарей района. Мембрана в треснувшей трубке хрипела и постреливала. Кирилл морщился, вслушиваясь то в задиристые, то в скучные, оправдывающиеся голоса.
Многие опытные секретари комитетов понимали, что лучший способ защиты – нападение, и без зазрения совести пользовались им.
Кочеванов в сердцах бросал трубку и всякий раз с опаской оглядывался, боясь, что в комнату заглянет секретарь райкома комсомола Глеб Балаев. Тот терпеть не мог кочевановского обращения с телефонами и не раз ему выговаривал:
– Это же техника для цивилизованных людей! Отвыкни от дурной привычки бросать трубку, иначе запрещу телефоном пользоваться.
Последние месяцы Кирилл часто просиживал в райкоме до глубокой ночи. Дня ему не хватало – закружила текучка: бесконечные разговоры с активистами, заседания, слеты, отчетные сводки, резолюции, походы Порой он с тревогой думал, что живет какой-то неправильной, нелепо суетливой жизнью, не ощущая ни радости, ни удовлетворения. Его словно затянуло в воронку пенистого водоворота, из которого трудно было вырваться, попасть в тихие воды с плавным течением.
Он забросил спорт, мало читал книг, едва лишь поспевал проглядывать газеты, запустил собственные дела и не высыпался. А сколько пропало путевок в дома отдыха! То его не отпускали начатые неотложные дела, то предстоящие! И казалось, этому не будет конца.
Вот и сейчас он сидел за столом, сердито зачеркивал написанное и снова строчил. Нужно было обязательно закончить летнюю сводку и отчет, а они, как назло, не получались: не хватало умения укладывать свои мысли в сжатые и ясные фразы. И перо было какое-то мохнатое, тупое – всякая гадость налипала на него.
Из комнат инструкторов уже давно не слышалось говора, смеха, телефонных звонков. Райком опустел, лишь из коридора просачивался в приоткрытую дверь неистребимый запах табачного дыма. Где-то звякало ведро и постукивала щетка уборщицы.
Кирилл недолюбливал эту тишину и одиночество. За годы жизни в комсомоле он привык всегда быть на людях. Но как уйдешь, когда к утру надо подготовить все материалы? Он рвал ни в чем не повинную бумагу, комкал ее и бросал в корзинку. Меняя перо, Кирилл нечаянно ткнулся рукой в коробку с кнопками и булавками. В досаде он бросил коробку на пол и поддал ногой.
– Больной, почти псих! – печальным голосом сказал неожиданно появившийся в дверях Глеб Балаев. – Покажи глаза. Слезы… честное слово, слезы! Ну, Кирюшка, это я уж не знаю… Кто тебя заставляет допоздна торчать?
– А отчет дядя за меня напишет?
– К чертям отчет! Без тебя обойдемся. Завтра же ставлю вопрос на бюро.
– О чем вопрос? Мало учен – не могу в один присест написать деловую бумагу? Ставь, пожалуйста! Я с удовольствием уйду на учебу.
– Что? Ты что сказал? – грозно шагнул к нему Глеб. – Сейчас же убери папки и уходи из райкома! Чтоб через две секунды здесь пусто было. Хватит, наговорились.
Кирилл не спеша собрал бумаги, уложил их в папку и, злясь на Балаева, молча вышел вместе с ним на улицу.
Вечер был теплым. В саду играла музыка. Над фонарями, светившимися среди пожелтевшей листвы кленов, роились ночные бабочки. Меж деревьев мелькали светлые платья девушек.
– Может, зайдем в сад? – дружески предложил Балаев.
– Иди, меня не тянет, – устало отозвался Кочеванов.
– Кирюшка, ты ведь младше меня на пять лет, а у тебя начинается собачья старость. Нашел бы девчонку, что ли.
– Запоздалый совет.
– Врешь? Кто она?
Кирилл не знал, кого назвать, отделался вялой шуткой:
– Девица, в платье ходит.
– Что ты говоришь? Вот не думал!
Насмешливо глядя друг другу в глаза, они попрощались. Кирилл, боясь, что секретарь райкома нагонит его и опять начнет опекать, прибавил шагу.
* * *
На другой день Кирилл с утра поехал по предприятиям. В райкоме он появился лишь после обеда. В своей комнате Кочеванов неожиданно застал инструктора Иванова, не по возрасту серьезного юношу, который почему-то занимался составлением отчета. Иванов в последнее время часто брал на себя дела заворга. Кирилл недовольно спросил:
– Опять суешься?
– Не суюсь, а заканчиваю срочную работу, – строго заметил Иванов. – Иди к Балаеву. Велел – сразу, как придешь.
Когда Кочеванов зашел к Балаеву, тот с официальным видом поднялся, пожал руку и сказал неожиданно строго:
– Срочное и важное дело…
– Опять? – изумился Кирилл. – Что ты на меня все новые дела наваливаешь?
– Ты мобилизован, – не глядя на него, сухо сообщил Глеб и, начав рыться в бумагах на столе, добавил – Быстрей сдавай дела Иванову и будь готов к отъезду. Через час заедет машина.
– Что такое? Какая мобилизация?
– Этот пакет распечатаешь на месте, – точно не слыша его, продолжал Глеб. – С тобой поедет еще один товарищ.
Лицо Балаева было суровым. А Кочеванов никак не мог почувствовать себя мобилизованным.
– Мне сегодня в театр хотелось, уже билеты…
– Оставь здесь на столе и сдавай дела. – Глеб говорил таким строгим и холодным тоном, точно был недоволен заворгом.
– Ладно, – сказал Кирилл и от обиды покраснел. – Я готов. Только позволь сначала узнать – зачем и куда?
– Повторяю, из пакета узнаешь на месте.
– До сих пор тайн от меня не было.
– Давай, Кирюшка, рассуждать потом будешь. Есть приказ – подчиняйся.
Кочеванов молча вытащил из кармана билеты, положил их на стол и, круто повернувшись, вышел.
В комнату заворга, когда он сдавал Иванову дела, то и дело заглядывали инструкторы, и это было неприятно, – казалось, что ребята не без ехидства любопытствуют: «Какое, мол, настроение у мобилизованного?» И он старался как можно беспечнее шутить и хлопать о стол пакетами.
Позже в райком комсомола пришел рослый, упитанный человек, одетый в хорошо сшитый светло-серый костюм. Его крупное, холеное лицо было гладко выбрито, а от всей массивной фигуры веяло здоровьем и благодушием. Блеснув квадратными, похожими на льдинки, стеклами пенсне, он представился:
– Евгений Рудольфович Гарибан.
Сообщив это, он протянул крепкую, мясистую руку, обросшую золотистыми волосами, и приветливо улыбнулся. Видно было, что Евгений Рудольфович умел располагать к себе людей с первой встречи.
– Машина у входа, – сказал он. – Рад буду составить вам компанию.
С Балаевым Кирилл прощался холодно, не глядя ему в глаза. Это, видимо, заставило секретаря райкома бросить на время дела и выйти на улицу. Там он, не выдержав игры в официальщину, порывисто сжал кочевановскую руку, ни с того ни с сего отдал начатую пачку папирос и, виновато улыбнувшись, сказал:
– Ну, не скучай. Пиши, если что.
Минут через двадцать машина выехала за город. Евгений Рудольфович угощал пахучими корешками сенсена, говорил о пустяках и смеялся громко, как смеются добродушные, грузные люди.
Кирилл недоумевал, зачем на серьезное дело с ним едет этот благодушный, массивный чудак. В том, что он чудак, Кочеванов успел убедиться: Гарибан вдруг попросил его зажмуриться и вытянуть руки вперед.
Машина шла быстро. Было приятно с зажмуренными глазами нестись мимо шелестящих деревьев.
– Не правда ли, интересное ощущение?
Евгений Рудольфович принялся рассказывать о своих юношеских похождениях и хлопать по коленке так, что Кирилл морщился. Собеседник забавно врал. Чувствовалось, что он хочет вызвать Кирилла на откровенность. Поэтому Кочеванов старался казаться молчаливым и всю дорогу с неприязнью следил за волосатыми руками Гарибана, которые как-то по-бульдожьи выглядывали из рукавов, словно из конур. Эти руки то лениво покоились на коленях, то потягивались, то приподнимались на пальцах, готовясь к прыжку. Кирилл, познав манеры спутника, морщился раньше, чем руки успевали прикоснуться к нему.
Гарибан даже пробовал щекотать райкомовца. Кирилл недовольно отодвигался и ворчал про себя: «Ну и подсунули же мне дядю!» И вместе с тем он немного завидовал толстяку. Тучный Гарибан, как мальчишка, вырвавшийся на волю, восторженно воспринимал все окружающее. Он даже папиросу курил с каким-то смаком.
К концу пути Кирилл незаметно для себя заразился настроением чудаковатого спутника, и, когда тот неожиданно попросил его показать язык, он так его высунул, что оба расхохотались.
Автомобиль свернул в аллею, тронутую тленом осени. Тонкие красавицы березки уже вывесили золотистые серьги, а на кленах и осинках трепетали желтые и темно-красные листья.
За деревцами показались невысокие коттеджи и большое каменное здание с колоннами, похожее на санаторное.
«Какая же здесь может быть работа по срочному и сугубо секретному заданию?» – недоумевал Кирилл. Но распечатать конверт в присутствии Гарибана на решался.
Машина остановилась у веранды блекло-сиреневого коттеджа. На крыльцо выбежал огромный пес, ринулся к Гарибану, в восторге подпрыгнул, намереваясь лизнуть в лицо, потом диким галопом обежал вокруг клумбы и, схватив портфель хозяина, утащил его куда-то в дом.
Вышедшей сестре-хозяйке, в белом халате, Гарибан приказал устроить Кирилла в отдельной комнате главного здания.
«Не в дом ли сумасшедших меня привезли? – уныло пошутил про себя Кочеванов. – Пожалуй, тут я в буйных буду числиться».
Сестра-хозяйка провела подозрительно озиравшегося райкомовца в ближайшее здание и показала светлую комнату с открытым окном.
В комнате пахло грибами, лежавшими на подоконнике, и крапивой.
Оставшись один, Кирилл немедля разорвал пакет. В нем находился небольшой конверт с нарисованным чернилами черепом. Череп пронизывали зигзаги молний. Вверху виднелись надписи: «Смертельно», «Сугубо секретно», а внизу – «Заворготделом Кириллу Андреевичу Кочеванову (лично). Читать без посторонних. После прочтения сжечь и пепел развеять».
В конверте лежали два вырванных из блокнота листка. Размашистый почерк секретаря райкома не трудно было узнать.
«Кирюшка, если ты здесь не высидишь положенного срока, соберем внеочередное бюро и взгреем, – писал Балаев. – Хватит, натерпелись! Мне надоели упреки и нападки со всех сторон. Твой Сомов прямо житья не дает, всю плешь переел! В последний раз при секретаре райкома партии я ему пообещал разгрузить тебя. А сегодня, смотрю, на ловца и зверь бежит: заехал начальник обкомовского спортивно-оздоровительного лагеря и говорит: «Хочу забрать у вас наиболее выдающихся физкультурников на переподготовку». Ну, мы тут собрали летучее бюро и решили тебя «переподготовить». Так что не злись, тренируйся, носись себе по лесам, нюхай грибы, листья – в общем все, что найдешь. Влюбляйся в девушек, только не в капризных. Ешь сколько влезет, можешь даже растолстеть. И научись, наконец, по-человечески высыпаться.
Если за время отдыха сунешься в какие-либо организационные дела, сам приеду и, честное слово, затащу в укромный уголок и устрою такую баню, какой тебе еще никто не устраивал. Мне надоело либеральничать.
Если что потребуется – пиши. За комнату и свет заплатим.
Прости за необычную путевку. Не забывай нас.
Обнимаю и жму твою лапу от имени бюро райкома.
Твой Глеб».
– Ну, это черт знает что! – прочитав записку, сказал вслух Кирилл и от досады присел на постель. – Так одурачить!
Кочеванов представил себе физиономии ребят, выдумавших командировку, и еще раз вслух добавил:
– Этот фокус не пройдет! Сегодня же уеду и устрою скандал! Мальчишку нашли для шуток.
Нужно было немедленно действовать, но он внезапно почувствовал утомление. Захотелось лечь, закрыть глаза и так лежать, ни о чем не думая.
В комнате было тихо. Из парка слышались глухие удары по мячу, по-видимому с волейбольной площадки.
Кирилл снял ботинки, взглянул еще раз на письмо и невольно улыбнулся:
– Вот черти!
В восемь часов зазвенел колокол.
– На ужин! – крикнул кто-то в коридоре.
Кирилл быстро нашел столовую. Парни и девушки, одетые в тренировочные костюмы, с любопытством оборачивались, разглядывая новичка. Кочеванов перехватил взгляд коротко постриженной девушки, с задорно вздернутым носом, с мохнатыми и пестрыми, как пчелки, глазами. Она, казалось, обрадовалась ему и в то же время смущенно зарделась.
«Что здесь делает Ирка Большинцова? – недоумевая подумал он. – Не наши ли шутники подослали за мной подглядывать? Представляю, каким я буду в ее изображении».
К Ирине Большинцовой он относился снисходительно, как к девчонке-сорванцу, которой не всегда можно доверять серьезные дела. Слишком много она вкладывала в них ребяческой горячности. Эта комсомолка каким-то невероятным способом чуть ли не в семнадцать лет научилась летать на самолете и сразу же выделилась среди сверстниц. На последней конференции комсомола ее избрали в состав райкома, но это была дань лишь летным успехам. Как же – девушка-пилот! А у пилота в голове сплошной ветер и какая-то повышенная смешливость.
Приветственно кивнув Кириллу, Ирина взглядом показала ему на свободное место рядом с ней. Но он демонстративно прошел мимо и уселся в углу за пустующий столик.
Его поступок смутил и обидел девушку. Ее щеки горячо зарделись. Она опустила глаза и, казалось, готова была расплакаться.
«Ну и пусть, – сердито подумал Кирилл, – не будет соваться куда не просят».
Ожидая, когда принесут ужин, он осмотрелся. Большинство сидящих здесь, видимо, не заметили, что произошло между ним и Ириной, лишь девушка в кремовой блузке, привлекавшая внимание пышной копной золотистых волос, с лукавой усмешкой поглядывала на него.
Вспомнив, что он не брился дня три, Кирилл невольно потрогал щеку. «Эх, лезвия забыл!» – досадуя подумал он.
Быстро поужинав, он пошел к Евгению Рудольфовичу. Гарибан точно поджидал его. У него были приготовлены бритвенные ножи, зубная паста и мыло.
Кирилл принял душ, побрился и рано лег спать.
Глава втораяУтром благодушный и сияющий Гарибан проверил в кабинете объем легких Кирилла, его сердце, нервы и сам вызвался показать парк и лесное озеро.
Взяв мелкокалиберную винтовку и собаку, Евгений Рудольфович повел райкомовца по заросшей травой тропинке. По пути они разговорились. Гарибан стал расспрашивать о болезнях, перенесенных Кириллом в детстве, о родителях и среде, в которой он вырос.
Кириллу не хотелось откровенничать. Да и болезней своих он не помнил. Разве только заикание от испуга.
Кирюшке шел тогда третий год. Отца уже не было: он погиб на паровозе во время крушения. Мать, чтобы заработать на жизнь, ходила на поденщину и сдавала угол тормозному кондуктору Семену Зайкушину. Это был высокий и тощий детина с белесыми, беспокойными глазами. Друзей у него не водилось. Кому нужен унылый и чудаковатый приятель? Зато любителей подшутить, высмеять Семена было вдоволь. Местные хулиганы, зная слабости Зайкушина, не выносившего вида и запаха крови, подбивали камнями выпавших из гнезд воронят и, трепещущих, истекавших кровью, подбрасывали ему на тормозную площадку, засовывали в дорожную сумку.
После получки Зайкушин обычно добывал где-то брагу, приглашал соседа Никиту в рощу у железнодорожной насыпи и там напивался до слез.
Пьяные, вывалявшиеся в ржавой, болотной тине, они возвращались в обнимку и грозились всем отомстить.
К концу войны в солдаты стали забирать и железнодорожников. Зайкушин только что вернулся из поездки. Нарядчик нарочно назначил его сопровождать плотно набитый ранеными воинский эшелон. Кондуктор, как потом рассказывали, вошёл в дежурку со странно блуждающими глазами и заявил:
– Увольняйте, в санитарный больше не сяду.
И как раз в это время станционный писарь принес повестки о мобилизации. Плутовато подмигнув присутствующим – «глядите, мол, как шутить надо», – первую повестку он вручил Зайкушину, ожидая, что в дежурке, увидев задрожавшие руки кондуктора, разразятся хохотом. Но все, насупившись, молчали.
Зайкушин принес тогда эту повестку в свой закуток. Там он прочитал ее вслух и в смятении заходил по скрипучим половицам. Потом кондуктор торопливо заправил лампаду трескучим керосином из казенного фонаря и, приколов повестку под образа, стал на колени и начал молиться.
По улице ехали с песней казаки. Зайкушин некоторое время прислушивался к песне и цокоту лошадиных подков, потом вдруг, испугавшись, вскочил, сорвал с вешалки дождевик и, укрывшись им, притих в углу.
Мать с обеда полоскала белье на речке. Маленький Кирюшка, соскучившийся в одиночестве, решил, что жильцу хочется поиграть с ним. Он хорошо видел спрятавшегося под дождевиком Зайкушина, но для начала, как полагается у малышей, начал искать его под кроватью, под табуретами, наконец не выдержал и сказал:
– А я все равно твой сапог вижу.
Громко рассмеявшись, он захлопал в ладоши, подбежал к Зайкушину и отдёрнул дождевик…
Из-под дождевика смотрели на него чужие, белесые глаза. На корточках сидел не Зайкушин, а какой-то сивый зверь, похожий на человека, который дрожа что-то бормотал. Кирюшке показалось, что этот чужой, с белыми глазами, хочет прыгнуть и съесть его.
Как он испугался! Он захлебнулся, почернел, закатываясь в крике.
Зайкушин, вспугнутый детским криком, сбил головой лампаду и заметался по комнате.
Истошный крик Кирюшки всполошил соседей. Заглянув в окно, они увидели горящий на полу керосин и стали бить стекла.
– Фараоны! – закричал кондуктор и убежал на чердак.
Вломившиеся в дом люди накрыли одеялом вонючую, дышавшую синеватым огнем лужу и затоптали ее ногами. Потом они стали звать Зайкушина и бить кулаками в чердачную дверь. С чердака никто не откликался. Там было тихо. Тогда двое деповских навалились на дощатую дверь, и она под дюжим натиском их плеч рухнула.
Люди в страхе отпрянули от двери, сняли шапки.
Кондуктор со скрюченными ногами висел на веревке, приготовленной матерью для сушки белья.
С этого дня Кирюшка стал заикаться. Он боялся один оставаться дома. Когда мать уходила на поденщину, мальчик с утра и до сумерек слонялся по замусоренному двору, собирая всякий хлам – бутылки, консервные банки, кости, стекляшки, – и, усевшись на солнцепеке, строил из них станции, будки, водокачки и поезда.
Если ветер сносил белье с веревок или шкодливый кот утаскивал что-либо у соседок, они не искали виновников, а ловили безнадзорного Кирюшку и драли за уши.
Мальчишки, зная, что за Кирюшку ни от кого не попадет, пристреливали по нему рогатки, а когда он жаловался – били.
Вечерами мать возвращалась с работы издерганная и усталая. Увидев исцарапанного и изодранного сынишку, она с плачем кляла его, запирала в чулан и шла к стрелочнику Никите просить помощи.
Рябой Никита от воспитательной работы не отказывался. Он сгребал Кирюшку цепкими руками за ворот, тащил, как котенка, на кухню и там, пыхтя, деловито привязывал к скамейке.
Потом стрелочник просил «чего-нибудь» промочить глотку. Водки не было, и мать наливала в стопку денатурату, приготовленного для примуса. Никита хмурясь выпивал его, морщился и крутил головой. Кирюшка, подвывая от страха, ждал, когда рябой снимет тонкий ремешок и начнет стегать.
Первые удары обжигали тело нестерпимым огнем. Кирюшка извивался, дрыгал ногами, визжал. Мать хватала его голову, зажимала дрожащими пальцами рот и от жалости плакала.
– Потерпи, Киря, дядя Никита человека из тебя сделает.
Решив, что без отца мальчишка совсем отобьётся от рук, мать упросила бабку Катю подыскать ей подходящего мужа.
Единственным бобылем оказался все тот же рябой стрелочник Никита.
Мать поплакалась соседкам на свою судьбу, отдала бабке Кате старую шаль и пустила Никиту жить в свой дом.
В годы, когда не стало ни денатурата, ни водки, Никита являлся с дежурства больным и угрюмым. Без хмельного он не мог есть пустых щей и лепешек из дуранды. Мать всячески ухищрялась таскать ему из столярки, где работала уборщицей, в бутылочке от духов политуру.
Проглотив разбавленное водой мутное питье, стрелочник несколько минут не мог отдышаться, а потом багровел и становился разговорчивым. Он ставил перед собой Кирюшку и спрашивал:
– Отец я тебе или нет?
Кирюшка хмуро поглядывал на мать и молчал.
– Отец, – торопливо подсказывала мать.
– Отец, – нехотя повторял Кирюшка.
– А раз отец, то должен я тебя учить?
«Да» или «нет» приводили к одному и тому же: Кирюшка должен был расстегнуть штанишки, лечь ничком на скамейку и ждать жгучих ударов тонкого ремня.
Если он пытался улизнуть, то рассвирепевший Никита хватал его за ворот, бросал на пол, зажимал голову между ног и нещадно сек, теперь уже за упрямство.
Избитого Кирюшку, потерявшего голос в крике, мать уводила в чулан, прикладывала к иссеченным местам мокрые тряпки, гладила шершавой рукой горячее тело и учила:
– Надо слушать дядю Никиту, он добра тебе хочет. Храбрей будь, сам ложись, меньше попадет. Отцу-то робкому плохо жилось.
Мать была права: забитого и бессловесного мальчишку даже в школе всякий норовил ущипнуть, сбить подножкой на землю, лягнуть, ткнуть кулаком. Кирюшка заметил, что покладистым и хитрым мальчишкам, умевшим приноравливаться к характерам школьных тиранов и переносить обиды с шутовскими ужимками, жилось легче – их меньше били. А он не умел комически почесываться после затрещин, улыбаться, когда хотелось плакать, падать на спину и по-щенячьи поднимать вверх «лапы» перед обидчиком. Всякое насилие и несправедливость вызывали у него гневные слезы, которые невозможно было сдержать, – они комом скапливались где-то в глотке, туманили и жгли глаза.
Лишь в пионерском отряде, на беседах, мальчик понял, что никакому человеку не позволяется тиранить и бить другого. Зимой, когда Никита за облитый чернилами валенок хотел его выпороть, Кирюшка выпятил грудь и сказал:
– Вы не смеете! Так не воспитывают.
– Что-о? Ты где этакого наслушался? А ну, скидай штаны – и на скамейку!
– Не лягу. Не имеете права!
Мать ужаснулась:
– Кирюшка, ты что – ошалел? Он ведь заместо отца тебе. И злобу не копи, бог накажет.
– Он мне никто! – возразил Кирилл. – И бога нет.
Никита сгреб за ворот упиравшегося мальчишку и, пригнув его к полу, хотел было зажать голову меж колен, но Кирюшка вывернулся и, как волчонок, вцепился зубами в руку. Стрелочник взвыл от боли. Сбив ударом с ног мальчишку, он принялся стегать ремнем по чему попало. А потом, распахнув дверь, выкрикнул:
– Вон из дому! Чтоб ноги твоей больше не было.
Никита думал, что мальчишка испугается холода, вернется домой и попросит у него прощения. Но Кирилл без шапки и пальто ушел по железнодорожному пути к заснеженному тупику и там пробродил до вечера.
Тогда он заболел воспалением легких и провалялся в постели больше месяца, а когда выздоровел, заикание прошло. Других же болезней Кирилл не знал.
* * *
Евгений Рудольфович, умевший проникать в души собеседников, немногое выведал у Кочеванова, так как на вопросы тот отвечал неохотно и скупо.
«Скрытный парень, – подумал Гарибан. – Но для первого знакомства и этого достаточно».
Лес, по которому они шли, был смешанным: рядом по-осеннему пестрели лиственные деревья и виднелась темная зелень сосен и елок. Изредка, как пламя, рдели гроздья рябины.
В осиннике шуршали опавшие листья.
– Посмотрите, нигде нет ни одной яблоньки, а пахнет яблоками, – заметил Гарибан.
– Да, чем-то похожим, – согласился Кирилл. – Я люблю запах палого листа.
Минут через пятнадцать они вышли к большому озеру, заросшему у берегов тростником. – Метелки высоких тростинок трепетали на ветру, как султаны, а густая ряска, покрывшая отмели, походила на пестрые ковры.
Невдалеке от озера, на пригорке, стоял небольшой рубленый дом. От него сбегала к мосткам извилистая тропинка.
– Это наш изолятор, – сообщил Гарибан. – Вернее, охотничий домик. Если появится желание поохотиться или рыбку поудить – приезжайте, устрою без путевки. Мои друзья в этом домике находят все, что им нужно.
Кочеванов прошел на мостки, у которых стояли две лодки. Разглядев в прозрачной воде стайку рыбок, он нарочно шатнул мостки. Рыбки испуганно метнулись в стороны. Поверхность воды, точно в нее бросили пригоршню дробинок, взорвалась мелкими брызгами.
– Здесь с удочкой не заскучаешь, – сказал Кирилл.
В парк они возвращались другой тропинкой, мимо скошенных полей, на которых высились стога сена. Поднявшееся солнце было ярким, но уже холодным, как блеск стекла.
Над полями, цепляясь за что попало, летели длинные паутинки – вестники бабьего лета. Кирилл знал, что на кончике каждой белоснежной нити сидит крошечный паучок-путешественник. Он хотел поймать одного и показать Гарибану, но потом передумал: «Зачем? Кто он мне – этот доктор, навязывающийся в друзья?»
Над кустами то и дело пролетал пух, словно где-то ястреб терзал пичугу. Кочеванов вгляделся в заросли и, увидев облысевшие головки одуванчиков, сообразил, что это они пустили по ветру свои пушистые шапки. Он рад был вспомнить то, что знал в детстве.
Впереди послышались голоса. За деревьями парка на спортивных площадках замелькали разноцветные косынки, футболки, тренировочные костюмы. Человек тридцать спортсменов занимались кто прыжками, кто метанием гранат, кто упражнениями на снарядах. Как-то особняком, в стороне от всех, на гаревой дорожке тренировалась девушка в кремовой блузке и белых трусах.
Она то пробегала, картинно вскидывая ноги, то массировала мышцы, то прохаживалась и широко разводила руки в такт дыханию. А около нее суетился чернявый фотограф: снимал спортсменку в движении.
– Заглядение! – воскликнул Гарибан. – Смотрите, какая грация.
Девушка, заметив, что ею любуются, гордо вскинула голову и промчалась мимо них, плавно выбрасывая длинные загорелые ноги.
В легком движении воздуха Кирилл уловил запах духов. «Странная спортсменка, – подумал он, – даже на занятия выходит надушенной». А Гарибан продолжал восторгаться:
– Летит, а не бежит. Ветер! Наша жемчужина, будущая чемпионка – Зося Кальварская. Скоро о ней заговорят газеты и радио.
* * *
После обеда Кочеванов прилег отдохнуть. На него напала лень. Это с Кириллом случалось редко. Он всегда был занят и не мог лежать просто так, не думая о делах. Но сегодня он позволил себе отдыхать и не считал это потерей времени.
После сна Кирилл размялся с гантелями, сбегал к озеру, принял душ и поужинал.
Вечером многие обитатели спортивно-оздоровительного лагеря областного комитета профсоюзов, сокращенно названного «Солоп», собрались на большой веранде главного здания. Зося Кальварская уселась за пианино и начала наигрывать опереточные мотивы. Она была в легком сиреневом платье. Лакированный поясок охватывал ее тонкую и гибкую талию. Ярко-желтая газовая косынка, повязанная на манер пионерского галстука, оттеняла золотистый цвет волос. Около Зоей вертелись парни. Они шутили, состязались в остроумии, подпевали и пританцовывали в такт музыке.
Кто-то завел радиолу. Начались танцы. Веранда загудела от музыки и шарканья ног.
Кирилл улегся в качалку, выбрав потемней угол. Он не умел танцевать, ему было обидно за себя и немного грустно. От нечего делать он тайно следил за Кальварской. Казалось, что ее крепкие и сильные ноги живут какой-то особой, самостоятельной жизнью: они ни на секунду не знали покоя. Даже когда Зося не танцевала, подол ее платья продолжал колыхаться, скользить по коленям, словно от круговых движений.
Кочеванову очень хотелось, чтобы раскрасневшаяся спортсменка села рядом с ним на пустую качалку и отдохнула от танцев. Может быть, он заговорил бы с ней, предложил прогуляться по парку. Впрочем, вряд ли. Даже на это у него не хватило бы бойкости.
Зося, конечно, и не вздумала присесть на качалку. Ее окружили более веселые и видные, чем он, парни. Она веселилась с ними, не обращая внимания на вздыхателей, следивших за ней со стороны.
Из парка веяло прохладой. Там с тихим шелестом падали листья. Кирилл сидел грустный, остро чувствуя свое одиночество.
Перед сном все пошли на прогулку. В сини звездного неба всходила луна, темнота становилась прозрачной.
Кочеванов шагал по хрустящей дорожке парка один. Он свернул к освещенным луной яблоням. От деревьев на серебристую траву падали зыбкие кружевные тени. – Кирилл остановился под большой яблоней и стал вдыхать крепкий запах антоновки.
Он слышал, как вдалеке на большой аллее громко смеялась Зося. Кирилл уже отличал ее голос среди других. Ему вдруг захотелось, чтобы она покинула всех и прибежала сюда под яблони. ««Если очень сильно желаешь, то можешь воздействовать на другого на большом расстоянии», – вспомнил он где-то вычитанную фразу. – Вот бы свершилось чудо!»
Кочеванов прислонился к корявому стволу и, закурив, стал вслушиваться. Через некоторое время ему показалось, что хрустнула невдалеке сухая ветка. Кирилл, прикрыв огонек папиросы ладонью, насторожился. Он увидел, как за стволами деревьев мелькнула девичья фигурка и вновь показалась в полосе лунного света.
«Кажется, Большинцова, – вглядевшись, подумал он. – Ну и сорванец, за яблоками пробирается».
Когда девушка подкралась ближе, он нарочно кашлянул. Ирина испуганно отскочила в сторону и прижала руки к груди.
– Не бойся, не кусаюсь, – сказал он.
– Ой, Кирилл! – с трудом переведя дыхание, обрадовалась девушка. – А я думала – сторож. Меня девчата из нашей комнаты попросили. Вдруг всем захотелось яблок. С этой стороны вкусные растут, смотри, какое тяжелое.
Она сорвала яблоко и протянула Кириллу.
– Да, действительно. Ты что же – все перепробовала?
– Ага, – созналась она. – Точно в детство впала – по садам лазаю. А ты почему на меня вчера таким зверем глядел?
– Показалось, что ты сюда не по своей воле приехала.
– Верно, – согласилась она. – Меня вдруг освободили от новой группы, привезли сюда и предложили тренироваться в беге и прыжках в длину. Я этого Гарибана давно знаю, противный дядька.
– Чем же?
– Он себе на уме, спроста ничего не делает, ты увидишь.
Сорвав несколько крупных, поблескивавших в лунном свете яблок, Ирина вдруг предложила:
‘ – Бежим, а то скоро свет погасят.
Прижимая к груди добычу, она устремилась к дому. Кирилл рванулся было за ней, но потом, решив, что райкомовцу непристойно бежать взапуски за сорванцом, таскающим яблоки, пошел степенно, не торопясь.








