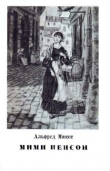Текст книги "Происхождение боли (СИ)"
Автор книги: Ольга Февралева
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 38 страниц)
Глава XXVI. В которой Эжен готовит ловушку, а Макс объясняет природу света
Жорж алчно рассматривал гравюры в старинной книге об оружии, прислонившись к печи.
– Привет, – окликнул его Эжен, – Макс ушёл, а я придумал одну штуку. Пойдёмте-ка.
Под сенью книжных полок он усадил брата и сестру на жерди своих предколений:
– Не знаю, куда он меня потащит, но вечером нас с Максом дома не будет. Наверняка он скажет вам никому не открывать, но вы не слушайте, потому что должен прийти один важный гость.
– Эмиль? – спросила Полина.
– Нет. Старичок один. Его зовут Гобсек.
– А что в нём особенного? – подал голос Жорж, обстригающий маникюрными ножницами писчее перо в напрасной надежде на гневный запрет.
– Он прикарманил бриллианты вашей мамы – вот что. Но он не вор, он просто купил их у неё по непростительно низкой цене, когда она была рада лишней сотне франков. Итак, вы пустите Гобсека, покажете, что знаете его, назовётся себя детьми графини де Ресто и – что главное – попросите вернуть бриллианты. Он, конечно, потребует денег. На этот случай я положу в «Левиафана» пятьсот франков – вот они. Они мои, но, когда Полина достанет их и протянет Гобсеку, ты, Жорж, сделаешь то, у тебя очень хорошо получается: закричишь, что это ваши последние гроши, что папа вас убьёт, на что ты, Полина, ответишь, что честь дороже жизни.
– Это мужчинская фраза, – запротивилась девочка.
– Я сам это скажу, – решил её брат, – Как будто соглашусь.
– Годится. Гобсек скорей всего откажется, назовёт глупостью, но вы только не давайте ему уйти, задавайте вопросы: есть ли у него семья, дети, где он жил, когда был маленьким и молодым, было ли влюблён, что ест всего охотнее, не озябли ли его ноги и тому подобное. Возможно, он вас спросит обо мне, но вы – меня совсем не знаете и имя моё слышите впервые, ясно? Я здесь никогда не жил… Вернётся Макс – … скажите ему, что Гобсек назвался вашим дедушкой, и вы ему открыли.
– Сколько сразу лжи! – тихо возмутила Полина.
– В мелочах – да, но ведь ваши фамильные бриллианты действительно у него и получить их обратно – совсем не лишне.
Сумки с богатствами были затолканы далеко под диван, дорогие предметы Эжен унёс в спальню. Хотел и занавески снять, но как бы он объяснил это Максу?…
Макс явился затемно, благоухающий, в серебристом цилиндре и песцовой пышноворотой шубе, облицованной тёмно-серым бархатом. Он бросил на диван два больших узла и коробку. «Разворачивай и мерь», – велел Эжену.
Тот равнодушно распаковал и лениво напялил на себя тёплый редингот с норковым воротником, сунул ноги в уютные, как муфта, сапожки.
– Очаровательно! – оценила эти виды Полина.
– Шляпу тебе куплю, когда ты наконец по-настоящему вымоешь голову, – заявил Макс свысока, – Надевай перчатки и ступай за мной. Полина, никому до нас не отворяйте дверь.
Эжен оглянулся у выхода – подмигнул…
В подъезде, у крыльца ждал фиакр. Сели, тронулись.
– Тебе обидно то, как я себя веду? – спросил Макс.
– Сначала – да, но ведь оно увязано с твоим неврозом: тебе кажется, что, командуя, ты в безопасности, верно?
– Нда…
– … Другое дело, что твой страх мне, конечно, не льстит.
– Напрасно.
Эжен качнул головой, по привычке шевеля пальцами ног.
– Продолжим о свете?
– На месте.
Высадились перед дверями парфюмерной лавки. Эжен почуял оболочкой глаз крепкий искусственный запах, переступая порог очень красивого, разноцветного павильона. Дверь задела сладкозвучный бубенец.
– Вот, здесь всё начинается, – промолвил Макс, – Заметь: не в ювелирном магазине, не в портновской мастерской… Тебе внушали, что суть света в богатстве? Почему же тогда все его представители изнывают от долгов? Может, слава и власть? Полно. Разве не обязаны мы, сильные, склоняться перед слабыми, поскольку это и есть правило хорошего тона?… Свет угоден Богу только потому, что суть его одна – любовь. Бог хочет, чтобы каждый был любим. Для этого и существует красота, но её мало. Мы должны быть усладой друг другу без шелков (они лишь картина, зовущая издали вдаль), без самоцветов (они – путеводные звёзды, огни маяков, но не более). Первый наш долг – наше тело. Исправить изъяны природы – наш подвиг. Смотри, из чего создаётся рай: мыло, мыло с ароматами цветущего яблока, зелёного чая, жасмина, японской айвы, дыни, ландыша, кофе, ванили, лаванды, смородины, мяты, цитруса, гвоздики, лесной земляники, мирра, мёда, озёрных кувшинок, нарциссов, банана, кокоса, пачули, миндаля, муската, сирени… Впитать в себя всю прелесть жизни, чтоб вручить себя другому человеку, как цветок или плод Эдема, дать счастье ближнему и стать счастливым – вот добродетель и служение Небу.
Макс говорил негромко, но трое продавцов и четверо клиентов позабыли обо всём. Они не дыша внимали проповеди денди, борясь с желанием забить в ладоши.
– Одного стоит стыдиться – малолюбия. Не дав на дню блаженства женщине, проси прощения у Бога! Если в тебе нет любви – сделай всё, чтоб все были уверены в обратном. Это единственная ложь, которая благословенней правды.
Эжен склонил глаза к мыльному прилавку.
– А у них тут есть запахи сена, сосновой смолы, тины,… талого снега? Я помню их. Они мне нравились… Земляника… Да кто тут нюхал её настоящую!..
– Давай выберем что-то для тебя, – ласково предложил Макс. Моментально возникший продавец угодливо направил конечную фалангу указательного на ассортимент:
– Вам, сударь, будут к лицу миндаль и зелёный чай. Если вам нравится что-то романтическое, попробуйте ароматизированную морскую соль. А вот шампунь с экстрактом хвои, – он рассмотрел Эжена изблизи и осмелел, попробовал хохмить, – Он составит гармонию с вашей щетиной.
Эжен глянул на него исподлобья, подумал: козёл! – и сказал:
– Хорошо. Заворачивайте.
– Никакой хвои, – сурово вмешался Макс, – Соль тоже пока отменим. Нам нужна хорошая пена для бритья, туалетная вода – что-нибудь ненавязчиво пряное. К предложенному мылу прибавьте дынное и банановое.
– Обратите внимание, ваша милость, – продавец перешёл на подобострастный шёпот, – Если вы набожны, то…
В правом верхнем углу прилавка лежали завёрнутые в тонкую белую бумагу кресты с распластанной на них под обёрткой фигуркой.
– Это тоже мыло?
– Да. С благороднейшим запахом розы и ладана.
– Какое кощунство! – воскликнул Эжен.
– Ничуть. Освящено в самом Ватикане!..
– И поэтому стоит триста тридцать три франка за штуку!?
– Это ещё скидка в преддверии Рождества.
– Что, ровно половину скостили?
– Хватит, Эжен. Я не собираюсь его брать. У вас есть растворимые лепестки?
– Конечно, ваша милость. Какие вас интересуют? Голубые? Пурпурные? Жёлтые?
– Белые. И ещё какое-нибудь душистое масло.
– Алоэ, – благоговейно пропел продавец.
– Не едкое?
– О, вовсе нет.
– Спасибо. Подготовьте счёт.
– Одну минутку.
Макс отошёл к кассиру, а Эжен задержался.
– Слушайтесь вашего друга, – сказал ему продавец, – и будет иметь успех в обществе.
– Дайте мне ещё один совет, – Эжен пробил кулаком стекло, взял из осколков пузырёк с экстрактом хвои, – и будете иметь свой язык в это бутылке.
Сунул флакон в карман, кинул от груди остолбеневшему парню скомканную тысячу и вымчался на улицу, где его догнал Макс с усмешкой:
– Ну, ты красавец. Не поранился? (– Эжен повертел пред глазами невредимую ладонь – )… Пройдёмся. Кажется, мороз ослаб.
– … Нам в другую сторону.
– Ага, конечно… Успокойся. Он это заслужил.
– … Как это – растворяемые лепестки?
– Они сделаны из мыла.
– А… Там были банки с как бы розовым просом. Оно тоже растворяется?
– Само собой.
Тоска Эжена достигла таких размеров, когда включается защита воображения. Вот конная статуя Наполеона, отлитая из мыла с запахом лавра на площади; все в восторге, но начинается дождь… под копытами пена, слизь, и прохожие, поскальзываясь, шлёпаются к ногам оплывающего идола… Кому-то вместо чёрной икры подсунули этот тающий горошек, промазанный ежевичным сиропом… Цветочная ваза из мыла… Толстая голая, розовая груша… мыло для похабников… А вот моё сердце, мадам, – алое сердце из мыла…
– … это и есть наш хлеб насущный, – говорил о своём Макс, – Ты полюбил в Дельфине дочь её отца. Полюби же и в Анри де Марсе ребёнка, которым он когда-то был.
– Де Марсе зовут Анри?
– Да. Как твоего младшего брата.
– А он меня любит?
– Он начал подыгрывать тебе в карты ещё раньше, чем я.
– Что за бред! Да когда!?…
– Я помню только, что в тот вечер на тебе был невозможный жилет в золотую полоску и галстук белее сорочки, а на фраке не хватало нижней пуговицы.
Эжен замедлил шаг, потом молчал минуту, потом попросил о расставании, сказал, что хочет побыть один, у себя на квартире, может быть, сходит в театр с Эмилем, «Ночуй на просторе», – съязвил. «Пусть, отдохни», – подумал Макс, и они расстались.
Глава XXVII. Преображение Люсьена
– Я всегда чувствовал в себе высшее призвание, но не знал, к чему меня влечёт судьба. Теперь же мне это открылось: я избран покарать зло этого мира. Не смей больше смотреть на меня, как на приёмыша для развлечений. Я – повелитель возмездия, и в мой День Гнева ты должен служить мне!
Глаза Люсьена светились в полумраке. Стоя в центре пёстрого ковра, он мысленно сжишал всю отвергнувшую его жизнь, величавый, словно апокалиптическая фантазия Блейка – новоявленный юный дракон. Серый Жан наслаждался этим зрелищем, но не спешил с признанием власти над собой:
– Гнев – не моя стихия. На мировое зло у меня свои взгляды, и особая связь у нас с ним… Я убиваю людей из любви к ним, а тебя переполняет ненависть – стало быть, мы не попутчики.
Глава XXVIII. В которой Анна причисляется к духам зла
– Здесь мы расстанемся, – сказала Анне Огаста на широкой мощёной площадке у подножья лестницы, – Тебе нужно пройти направо вон до того каменного кольца. Там сидят такие, как ты, и ждут ангела, который объяснит им, как пройти до моря. Мне там не место. Прощай.
Белая девочка убежала в зелёную долину, к благоуханно цветущим кустам и деревьям, а Анна с горечью оглядела свой по-прежнему чёрный хитон, тяжело вздохнула и пошла к циклопически грубому бельведеру без крыши.
Замерший хоровод из тридцати тяжёлых серых глыб, держащих на макушках огромное каменное кольцо. К каждому, кроме двух, прислонялась женщина в дымном трауре. Анна стала предпоследней. Не успела она осмотреть своих товарок и сравнить их положение с наказанием у позорного столба, как явилась тридцатая, хрупкая молоденькая, лет на вид семнадцати, прильнула к своему камню. Тотчас в центре круга возникла высокая фигура, покрытая глухим тройным чехлом их закоптелой паутины. Сквозь грязную ткань просвечивало белейшее, сиятельное тело с высокими крыльями; лица видно не было: голова целиком была упрятана под чёрный саван, шею обматывала словно просмолённая верёвка. Ангел приподнял руки в принуждённом приветствии, колыхнув оплетшую его пылящую скверну, и холодно промолвил: «Принимаем вас, духи зла, в месте, лучше которого ум не способен создать. Ваше присутствие здесь не предусмотрено. Всё, с чем вы соприкоснётесь, – погибнет или исказится. Ваша дорога подобна вам. Она приведёт вас к берегу, от которого вы отплывёте в свои земли. Поспешите».
И исчез.
Женщины, сонноватые, нездоровые, неестественно переставляющие ноги, сошлись поближе. Среди них было три чернокожих с оттопыренными толстыми ртами, в семи угадывались индианки (одна из этих, смуглых, едва ли достигла четырнадцати лет, одна выглядела совсем старухой), у двух глаза были как замочные скважины на медных лицах; одна, белесая, рябая, вся колыхалась, как готовая опара. Издали казалось, что у неё брови не над, а под глазами, вблизи же Анна увидела, что это синие продолговатые кровоподтёки; у многих были искусаны губы и руки; глаза почти у всех затянулись слизью, не пропускающей мысль. Они топтались на месте, как потерявшиеся овцы. Анна искала хоть кого-то, с кем не противно было бы заговорить, и не находила.
– Кто это духи зла? – тонким и охрипшим голоском воскликнула вдруг девушка, пришедшая последней, – Кого он так назвал? Нас?
Никто не отвечал. Африканки и азиатки полепетали меж собой и направились цепочкой к проёму, в который утекала чёрная каменная стрелка. За ними стадно потянулись и европейки.
Брусчатка не позволяла идти рядом более чем двум странниками. Вымощена она была камнями, от которых уже устали голые подошвы Анны. Вокруг камней из земли торчали жёсткие иглоподобные стебли, похожие на зимний газон. Чуть поодаль дёрн был зеленей и мягче, но его пятнали жжёные прогалины, небольшие, но частые.
– Разве мы – духи зла? – твердила за спиной Анны молодая покойница. Анна обернулась и спросила: «Как тебя зовут?».
– Лиза.
– Меня – Анна.
– Тебе не кажется, Анна, что всё это несправедливо?
– Нет.
– А мне – да! – вмешалась другая изможденная женщина со свалявшимися в сплошной колтун сальными рыжеватыми волосами, – Я страдала всю жизнь, не видела ни света, ни воли, и теперь снова должна мучиться!? А что, если нам бросить эту проклятую дорогу и уйти вон туда, к деревьям, полежать на травке! Вы как хотите, а я так и сделаю!
Она соскочила в сторону и пошла, куда хотела, оставляя на зелени чёрные следы, словно от кострища.
– Вернись, ты выжигаешь траву! – закричала ей Анна, но бунтовщица словно не слышала.
– Как это ужасно! – хныкала Лиза, – Танталовы муки! А они ещё называют нас злыми!
– Логично, – Анна подключила свою рациональность, – Ведь злом называют всякое недовольство и разрушение. Их и явила эта дама. Можешь последовать её примеру.
– Чего бы и нет! – сипло встряла оказавшаяся вблизи рыхлая женщина с подтёкшими кровью веками, уставив на Анну тупые красные глаза, – Чего тут жалеть? Нас-то много ли жалели? Нас-то кто уберёг?
Грузной жабой она перешагнула на кочку, давя и испепеляя её, и поковыляла вглубь рощи. Анна видела, как ветла, за которую схватилась мимоходом толстуха, на глазах начала увядать и осыпать свернувшиеся, обесцвеченные листья.
Дорога вползала в заросли. Деревья, всюду живые и свежие, возле неё стояли голые, лишённые не только листьев, но и коры.
– Где ты берёшь силы, чтоб смиряться со всем этим? – причитала Лиза, – Сколько можно терпеть? Где же милосердие Божье!
– Бог и ангелы, как видишь, милосердно ограждают этот прекрасный сад от нашего зла, при том, что нас они не уничтожили, а лишь направили по особому пути. Где-то и для нас приготовлен покой. Здесь мы временно.
– Но эта дорога, видимо, будет долгой, а по камням идти так трудно!
– Думай, что это сердца злых людей у тебя под ногами, и ты их топчешь.
– Ты хорошо сказала, – посветлела девушка, – Не была ли ты писательницей в жизни? Не сочиняла ли стихов?
– Сочиняла когда-то, в ранней юности, но потом… У меня муж был поэтом.
– Ах, вот, наверное, чудо! Вот это судьба! Он, должно быть, посвятил тебе много страстных, любовных пьес, которые прославят тебя в вечности…
– Страстных – да; любовных… – не припомню.
– А теперь он остался один и оплакивает тебя…
– Никто нас не оплакивает, – прошамкала ещё одна спутница, – Тем паче эти изверги, будь они все прокляты!
Анне не захотелось продолжать разговор. Умолкла и Лиза.
Вдруг сзади кто-то дико завопил. Женщины оглянулись и увидели, как одна из них, чернявая, похожая на испанку и очень молоденькая, отломив от сухостоины крепкий сук, принялась колотить им по стволами, истошно, бессвязно крича, хохоча, обшибая нижние ветки. Никто не пытался её утихомирить. Та, что только-то произнесла проклятье, сама подняла с земли палку и стала бить по камням под ногами. Лиза навзрыд заплакала от страха. Анна схватила её за руку и потащила вперёд. Обогнав всех белолицых, смешавшись с азиатками, они снова глянули назад. Около десяти покойниц бесновались с дубьём. Одна уже упала на обочине – то ли от усталости, то ли её ударили. Какие-то просто стояли, как вкопанные, ощупывали свои животы. Проклинавшая сломала палку, опустилась на четвереньки и пыталась выковырять из земли булыжник.
– Пойдём, не смотри на них. Видишь же, они совсем озверели, – сказала Анна.
Лиза посеменила вперёд, держась за прозрачный клочок анниного платья.
– Расскажи мне что-нибудь хорошее, – жалобно просила, – Ведь твой муж тебя по-настоящему любил?
– Однажды он признался, что ему так кажется.
– И только!? Вот неблагодарный, чёрствый человек! А ведь ты принесла ему в жертву свой талант и саму свою жизнь!
Тут чернолицая высокая женщина, крутанулась на пятках, нависла над Анной и Лизой выкаченными гнойными белками и взревела:
– Провалитесь вы, саранча, брехливые шакалки! Сожрите свои языки!
Лиза пошатнулась и упала, не выпуская из рук чужого подола, так что Анна тоже оказалась лежащей на земле. Африканка злорадно оскалилась и пошла дальше.
Глава XXIX. В которой Гобсек попадает в ловушку
Отталкивая стопами ступени, напрягая бёдра, Макс уже настраивал себя на нарциссический лад: он не хотел пропускать даром грядущую одинокую ночь, однако то, что ждало его дома, отбило бы охоту у дюжины маньяков, – согласно расчету Эжена, Гобсек сидел в прихожей, оглушённый детским щебетом.
– Он назвался нашим дедушкой, и мы ему открыли, – оправдалась Полина, после чего взяла брата за руку и увела за кулисы.
– Я, – слепетнул старик, вставая, – собственно, ищу здесь некоего Растиньяка. Вы с ним не знакомы?
Макс скривил губы, отвёл глаза; его расстёгивающие редингот руки начинали дрожать.
– Мы знакомы – виделись в свете – но он здесь не живёт.
– Он украл у меня… одну ценную вещь.
– Что ж, отлично. Вы меня порадовали.
– Фь! Мне тоже приятно – видеть вас в таких декорациях. (– Макс кивнул, сжав зубы – )… А до дружка вашего я доберусь! (– Гобсек поскрипел просохшими суставами к двери, сторонясь графа – )… И дети у вас – прощелыги!
«И что я не взял пистолет! – подумал он на лестнице и просто по инерции, в десятый раз, – Пропала, ох… Наплевать, да вот надпись!.. Нет, пусть хоть из акульего брюха вытащит! Дарил – на посмех… Бриллианты им!.. Да пропадай она к чертям! Бриллианты!.. Ведь совсем ещё щенки, а уже… Всё из-за…».
Ночь колыхалась вокруг старика ледяным ветром, ноги скользили, в сердце свербило…
Глава ХХХ. В которой Эжен читает
Рафаэль потратил день на перенос своего скарбика в эженово жилище и только теперь возился я с камином. Эжен безвозмущённо помог компаньону с углём. Пока тепло не растеклось по комнатам, они оба сидели на полу у огня. Рафаэль рассказывал о себе, а Эжен рассматривал портрет автора похищенной книжки – изумительный лик, достойный византийской храмовой фрески. Слабо доносящиеся пени гостя: отцовские притеснения, банкротство и сиротство, израненное самолюбие, жажда славы – всё это впитывалось в оттиснутую бумагу и сливалось в мыслях Эжена с портретом. На миг ему показалось, что вот этот самый человек сидит рядом, но то был приступ сна.
Старательно протерев глаза веками, Эжен сделал трезвое заключение: по такому рисунку невозможно найти, узнать при встрече модель. Ни живое, ни мёртвое лицо не может быть таким. Никаких примет. То, что может за них сойти, – попросту нарушения анатомических законов. Для добросовестного художника или критика-искусствоведа портрет был однозначно плох, но Эжен смотрел с уважением и думал, сам ли поэт (богатый, очевидно, неглупый, даже прозорливый, наверняка авантюрный, а, стало быть, хитрый) нарочно заказал именно такое изображение себя? Ещё один головокружительный прогиб – наваждение зеркала…
– Я должен покорить этот мир! Я всеми силами духа жажду отыскать то средство, что заставит всех женщин любить меня, а всех мужчин – повиноваться мне! – гласил Рафаэль, вперяясь в пламень.
«Не мастер ты загадывать желания, ну, да что там, голодный всегда думает, что съест кита, как плотвичку… А что-то он сейчас поделывает? о чём думает? Ведь живой. Может, спит;… может так сидит или гуляет, или с женщиной… Наверно, он им мил… Хотя необязательно… Лечь бы пораньше…».
Поздние часы Эжена были заняты ручной стиркой сорочки в хвойном шампуне («Что за скипидарная вонь!» – проворчал Рафаэль), вылазкой на крышу на сосульками – другой питьевой воды в Париже он не признавал – и снова обозрением «Корсара». Английский текст дразнил любопытного француза – половина слов казалась узнаваемой, и потом знаки препинания тоже можно с интересом читать. К последней странице в ушах следопыта отчётливо звучал чужой воображённый голос. Эжену почти удалось заставить его заговорить понятно, но вдруг явилось лицо Макса-Дервиля в какой-то чалме, потом театр с пляшущим партером и забава – сигануть из ложи и закачаться на привязанной к чему-то лиане; деньги, деньги и Сите, ставший неприступной горой под облаками, подобно замкам на островах немецких рек.
Соскучившийся по людскому обществу таракан забежал Эжену на висок, разбудил щекоткой. Эжен тряхнул головой, шаркнул по ней ладонью и сел, озираясь в темноте. Он так и остался на полу у догоревшего камина. Рафаэль занял кровать, правда, подсунул под затылок благодетелю подушку. В тишину сыпался из углов поскрёб насекомьих лапок. Эжен не брезговал этой компанией, его огорчали лишь случаи, когда он невольно или от внезапного испуга губил шестиногих. Сидя и бережно ощупывая себя, потряхивая руками, он думал о пауках, которых боялся в детстве – до того момента, когда однажды в осеннем лесу задел сеть огромного крестовика, и тот, упав, зацепился за его куртку; тогда страх исчез – его стёрло изумление: при своём внушительном размере существо было настолько лёгким, что не увидь его – никто бы и не знал, что к нему прицепился убийца. Тогда Эжен решил, что пауки питаются не кровью, а душами букашек, и это не ужасало, только вело к размышлениям… В теперешней ночи его отвлекло от них утробное напоминание о съеденных вещах – достаточно многих, чтоб с тоской отправиться в уборную.
Там всё было оборудовано очень опрятно: закрытая, бесщёлая лавка из гладкого дерева с крышкой, вроде как на пивной кружке, только не выпуклой, на отверстии; под ногами коврик; справа на уровне плеча – полка для свечи, под/на ней обычно лежит пара литературных новинок. Человек без особых задвигов пожаловался бы лишь на холод, но Эжен был совсем не таким человеком. Постояв минуты две с видом осуждённого под виселицей, насадив безупованный взор на фитиль в золотом ореоле, он принял неизбежное положение. Суррогатное самоубийство – именно такое чувство – изничтожение, запредельный позор… Что ж, – в миллионный раз начал утешаться – удел всех тварей, звери вон вообще это делают где попало… И это нужно для растений. Всё устроено мудро, но… Закрыл лицо руками. «Я не противлюсь, не осуждаю, только, Господи! – не смотри! Пожалей и меня и Себя…». Напрасно… Он знал, Кто лучше всех видит в темноте и слышит в тишине. Пыль – Его зрящие клетки; капли на железе и камне – Его окуляры; все щели – Его уши; плесень – сгустки Его нервов; тараканы, мокрицы – Его соглядатаи… Глубокий вздох. Смириться до конца. Доброта Его безмерна; Он не прогневается, видя, но и, может быть, совершит чудо – отвратит Свои очи… Пусть тело делает своё дело, духу дела нет… Найти? Ага, вот книга. Заложена на середине билетом в театр: «Ролл и Порция» – драма Птициана Убю… Ну и чушь!.. А тут что накатали?
«Тут Мельмот повалился на клумбу гиацинтов и тюльпанов, благоухавших под окном Исидоры»… Вот придурок! Нализался, должно быть… «Но ты же помнешь все мои цветы! – вскричала она, и в восклицании этом слышен был отзвук ее прежней жизни, когда цветы были ее друзьями, когда они были радостью для ее чистого сердца». Как же они выглядят? Тюльпаны – вроде маков и крокусов, а гиацинты? А, такие кучерявые колосогрозди. Что ж, да, им всегда порадуешься… «Прости меня, таково уж мое призвание, – проговорил Мельмот, растянувшись на смятых цветах и устремив на Исидору мрачный взгляд, в котором сквозила жестокая насмешка. – Мне поручено попирать ногами и мять все цветы, расцветающие как на земле, так и в человеческой душе: гиацинты, сердца и всевозможные подобные им безделки…»… Эк тебя, братан, прописали! Есть чем красиво объяснить брюшные спазмы… Так это явка с повинной? «Знайте, сейчас я здесь, а где я окажусь завтра, будет зависеть от вас. Я одинаково могу плыть по индийским морям, куда сны твои посылают меня в лодке, или пробираться сквозь льды возле полюсов, или…» – А вот это ей Богу трогательно – «или даже мое обнаженное мертвое тело (если только оно вообще способно чувствовать (– Моему бы так!! -)) может бороздить (– круто сказано: тело – бороздит; полюбуйтесь: человек-плуг – ) волны того океана, где я рано или поздно окажусь – в день без солнца и без луны, без начала и конца, – бороздить их до скончания века и пожинать одни лишь плоды отчаяния!».
Закрытым глазам Эжена явилась ширь чёрных, как вакса, вод, качающих айсберги. Между них маневрирует корабль. Наконец он осторожно подбирается к невысокой глыбе, бросает на неё якорь и сходни, по которым на льдину перебираются тощие тенеподобные люди. Их оставляют там. Под их ногами лёд плавится. Кто-то перебегает с места на место, но тот, кто – я, – узнаёт Эжен, – стоит, медленно урязая в белой толще. Холод повсюду. Колодец… Проходят часы, льдина тает напрочь. Люди вяло и недолго барахтаются в черноте, потом исчезают, только я, – чувствует Эжен-Мельмот, – вольготно распрямляюсь на маслянистой воде и держусь на ней щепкой. Век скончается – родится новый…
Мотнулся всем корпусом, вывёртываясь из дрёмы, с усилием раскрыл глаза…
«И он расхохотался тем ужасным, переходящим в судороги смехом, который смешивает веселость с отчаянием и не оставляет у собеседника ни малейшего сомнения в том, чего больше – отчаяния ли в смехе или смеха в отчаянии»…
Ох, у всех свои горести… Мять цветы и пижонить перед дамочкой – конечно, свинство, но зато ты не рассиживаешь с голым задом на глазах у Всевидящего Бога.
Проведя на укромной лавке ещё четверть часа без особой нужды, бесшумно вернулся в тепло спальни, повалился на пол с гаснущими мыслями об Испании, которая оккупировала Голландию и знай себе вывозит благородные клубни, семена и луковицы, рассаживает у себя клумбы, на которые – а кто он? англичанин что ли? – англичане, перебрав и полюбив, укладывают свои обнажённые мёртвые тела…