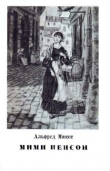Текст книги "Происхождение боли (СИ)"
Автор книги: Ольга Февралева
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 38 страниц)
– Зато отец, наверное, не слишком церемонился…
– … Ну, он хотя бы говорил, что думал: я выродок и дармоед… Париж дал ему полное право так меня называть…
Взгляд Эжена задержался на прикрытой двери спальной, откуда сквозил ровный яркий изголуба-белый свет.
Оба вскочили на ноги и смотрели то друг на друга, то на лучи, вырезающие из темноты прямоугольник.
– Пойдём, – шепнул Макс.
Створка отворилась сама собой перед первым их шагом. Чудесное сияние оказалось аурой непонятно откуда возникшего старика, сгорбленного, неопрятного, усталого – точь-в-точь такого, каким он бродил по пансиону мадам Воке в воспоминаниях и снах Эжена. В сухой подрагивающей руке он держал жёлтый блестящий кружок. Макс сунул руку в карман… и только вздохнул, насупился, оглянулся на дочь и сына – те спали: свет им не мешал… Эжен в ликовании метнулся к призраку, но вдруг замер и тоже опустил голову.
Тут господин Горио сказал скрипучим, но живым и приветливым голосом:
– Дети мои, подойдите…
Подступив ближе, Эжен робко глянул в лицо старика, ища примет гнева и не находя их. Макс щурился от света и отводил глаза.
Отец назвал по имени Эжена, попросил его правую руку и на его ладонь, поддерживая её снизу, уложил медальон, затем окликнул и отчаявшегося было Макса, накрыл его левой рукой даримый талисман, а сверху возложил свою. Скрытое, сжатое золото вдруг накалилось, стало жечь и сочиться сквозь пальцы слепящими лучами во все стороны, пока сплетение кистей не потонул вовсе в клубке огня. От нестерпимой боли руки разорвались; свет померк, только фарфор люминисцировал в посудном шкафу и по настенному ковру бегали редкие искры. Из горсти Макса, закусившего губу, вился во тьму сизый дымок, словно церковное курение. Эжен прижимал обожжённую ладонь к сердцу и беззвучно плакал. Медальон исчез – остались круглые клейма, лилии жизни пересеклись именами Анастази и Дельфины…
– Теперь ты видишь, что я был прав, – говорил Макс, прикладывая руку к оконному стеклу, чтоб хоть на время унять боль, – Придётся тебе оставить свои макаберные затеи.
Эжен разглядывал свою под свечами.
– … Знаешь, ты никогда мне не нравился…
– А я захотел убить тебя, как только встретил – там, у Нази… Ты голоден? Впрочем, у меня всё равно нет ни крошки… Но, может, выпьешь – красного? оно сытнее.
– Наливай.
Теперь Макса лечила холодная бутылка, скучавшая прежде под столом, и Эжен охотно взял бокал, глотнул немного, подумал и залпом осушил.
– Зачем так быстро? Захмелеешь… Я заварил бы чаю, но питьевой воды тоже нет.
– А есть места, где из земли бьют родники, прозрачные, как ночное небо; где роют колодцы и пруды, чтоб купать и поить младенцев; где текут такие реки, что можно зачерпнуть кружкой и пить; есть озёра, наполненные будто целебным отваром – окунёшься раз и чист… Здесь же в одних фонтанах вода похожа на воду, да и та проржавлена.
– Тебе не мешало бы умыться. Для этого найдётся полведра пригодной жидкости. Раздевайся.
Бедный провинциал снял верхнюю подергайку, нагнулся, сгрёб сорочку со спины и стащил наперёд, через затылок, рывками высвободился из рукавов.
– Что за плебейские ухватки!?
– Если б не они, меня бы ещё школьником утопили в родной Шаранте… Что ты так уставился? Я урод, да?
– У тебя – с трудом выговорил Макс, – просто нет тела. Ты бесплотен!
Он был в ужасе: перед ним сидел ладный, стройный скелет, обтянутый жёсткими сухими жилами и крепкой, матовой, как свежая замша, кожей. Всё, что было в нём, было само по себе прекрасно, но существо без мяса казалось Максу чудовищным, оскорбляло его. Впрочем, он, поражённый созерцатель, быстро нашёл и втолковал себе, что это эстетическое страдание более чем заслуженно: вспомни, что тебе нравится в теле, каким оно нравится тебе, – говорил его праведный ум, – радуйся: тут нет тебе соблазна.
Эжен тем временем избавился от остальной одежды, оттолкнул её, брошенную, пяткой и сидел, одной пятернёй обхватив коленную чашку, другой локоть – весь неуклюжий, ущемлённый, злобно стыдливый:
– От меня, наверное, разит, как от помойной собаки…
– Я бы не идентифицировал это так, – быстро пробормотал Макс с неловкой усмешкой, – У меня чуткий нюх, но не волнуйся: я не делю запахи на приятные и дурные.
Говоря это, он ставил на пол потемневший медный таз, устилал его дно полотенцем, чтобы потом, во время эженова ответа наливать воды и разводить в ней мыло.
– Значит, тебя никогда не били по носу. А мне вот его сломали лет в двенадцать что ли, теперь я могу только догадываться… Зато тебе, видимо, как-то зашибли лоб: нам на спецкурсе по криминалистике говорили, что если у человека повреждены подлобные участки мозга, он перестаёт различать добро и зло.
– Интересная гипотеза, но вообще-то восприятием – любым – занят тот же мозг.
– Ну, по башке мне тоже доставалось…
– Садись сюда.
Щадя нежданного побратима, а ещё больше самого себя, Макс отвернулся, достал откуда-то новых тряпок и пару шершавых перчаток, предназначенных заменять мочалку. Полотенца он намочил в оставшейся воде, также чуть ароматизированной.
– Холодно, – пожаловался Эжен.
– … Я знаю место, где из недр течёт горячая вода. Да что течёт! – взмывает выше деревьев. А на поверхности земли почти всегда лежит снег…
– Где ж такие чудеса?
– В Исландии. Я там учился.
– Чему?
– Магии.
– Ого! Ты – дипломированный колдун!?
– Я бакалавр оккультных наук. Читаю на десяти языках, манипулирую предметами, не прикасаясь к ним, владею гипнозом… Всё это ещё считается пустяками, но меня как-то не увлекли ни некромантия, ни экзорцизм, ни реликвистика, ни параантроплогия…
– Как? Па-ра-ан-тро-по-логия? Что же она изучает?
– Другие разумные формы жизни, близкие и подобные нам. Это молодая наука. Полтора века назад тут речь шла бы об антропоморфных демонах. Сейчас от этого отказались и уверенно считают, например, носфератов и ликантропов разновидностями homis sapiensis.
– Я ни о чём таком никогда не слыхивал!
Макс подал ему полотенце:
– Оботрись. С лица!.. Теперь руки и живот…
Он стоял за спиной у Эжена и терпел адову муку, глядя, как от шевелится огромная сколопендра позвоночника, как волнами ходит кожа на торчащих рёбрах. Равносильно хотелось прикоснуться к этому монстру – и было страшно…
– Потереть тебе спину?
– Я сам, – Эжен перекинул назад скрученное в жгут полотенце и принялся полироваться. О спинные выступы оно так истрепалось, что нитки отлетали, а после процедуры над ногами эту тряпку осталось разжаловать в половые.
– Вот это – для волос.
Эжен накинул новое полотенце на голову и растёр волосы, отчего в комнате действительно запахло псиной, а чёрные пряди южанина подтянулись в аккуратные тонкие красивые завитки. «Какая славная порода! – подумал Макс, – И именно таким не живётся…».
– Кстати, откуда ты узнал о моей семье? Особенно об отце…
– Позволь мне не отвечать сейчас на этот (довольно праздный) вопрос.
– Тогда я тоже не отвечу на какой-нибудь твой.
Это прозвучало угрозой, и Максу стало смешно, но едва его взор упал на исполосованную межрёберными бороздами, покрасневшую от растирания спину, всё веселье кануло. Он наклонился и дрожащей одетой рукой стряхнул с неё тёмно-серые катышки. Эжен поёжился от щекотки.
– У меня мало к тебе вопросов. То есть, много, но ты на них вряд ли сможешь вразумительно ответить.
– Вопрос надо правильно построить, а ещё помнить, что молчание тоже что-то значит.
– Заповеди сыщика?
– Ты дашь мне что-нибудь накинуть, или прикажешь до страшного суда щеголять в срамоте?
Подавая ему сверху через правое плечо чистую рубашку, Макс молвил:
– Отгадай загадку: кто в своей жизни слышит больше всех брани; перед кем люди не стесняются ни заголяться, ни испражняться?
– И кто? – спросил Эжен, просовывая голову сквозь дыру в белом льне.
– Это Господь Бог – всевидящий и всеведающий.
– Хоу! Глубины твоих тайных знаний?
Макс чуть принуждённо посмеялся, снял перчатки, повесил полотенца сушиться над камином. Через полторы минуты он увидел побратима шагающим к дивану. Рубашка свисала до эженовых колен, кое-где прилипнув.
– Устал? – заботливо осведомился Макс; Эжен растянулся со словом: «Смертельно!».
– Я сейчас.
Скрывшись за занавеской у изголовья дивана, Макс вскоре вышел в длинном чёрном шёлковом халате с часто посаженными ониксовыми пуговками. Улыбку, которой встретил его Эжен, он счёл дурацкой, прелестной и таинственной. Погасил все свечи, кроме одной – самой окороченной и подсел к Эжену.
– Нам придётся делить это ложе.
– После того, как мы разделили поровну и без остатка одну мелкую медальку, это не кажется трудным.
– Позволь мне… Странная, конечно, просьба… Позволь связать твои руки.
– Зачем? Ты боишься, что я на тебя нападу?
– Вовсе нет. Это просто… невроз…
– Не во что?
– Невроз – цельное слово. Оно называет абсурдное, бесполезное, но навязчивое желание, вспомнить, например, какое-то имя, стащить вещь, которая тебе не нужна; поднять что-то с земли, повторять одну и ту же фразу…
– А, ясно.
Эжен лениво протянул вперёд руки, сблизил тонкие запястья.
Макс вынул из кармана эластичный, гладкий шнур, сплетённый из двух – фиолетового и золотистого. Всё это было трудно разглядеть, но Эжен заметил:
– Пижонская верёвка.
– Прости, пеньки не нашлось.
Макс стоял на коленях и бережно оборачивал шнур вокруг предоставленных рук; с каждым замыканием его сердце зализывала волна нежности. Он сосредоточенно сдвигал подкрашенные брови, разравнивая узы…
– Не туго?
– Нет.
– Если будет мешать, разбуди – я распутаю…
– И снова будешь нервничать? Зачем? Мне ничего…
– Не страшно?
– Тх! Бояться начинают, когда в жизни всё до неприличия хорошо: не решаясь на другие жертвы, люди ударяются в страхи. Это не мой случай.
Закончив, Макс проскользнул между мягкой грудью дивана и твёрдо-неровной, как связка дров, спиной Эжена, кое-как устроился в тесноте.
– Расскажи о своих предках? – попросил после некоторого молчания Эжен.
– Их нет. Я первый в своём роде.
– … Подозреваю, что это не шутка…
– … Вся моя семья погибла в революцию – или рассеялась… Я никого из них не помню… Не знаю не только дня, но и года моего рождения. Сколько мне сейчас? Уже за тридцать, должно быть… Меня подобрал один старик-колдун; он и устроил меня в исландский колледж, в свою очередь исчезнув, но оставив неплохое состояние и придумав это имя.
– А прежде тебя звали иначе?
– Наверное… Моё первое в жизни воспоминание:… я сижу на подоконнике, на каком-то высоком этаже. Рядом лежит заряженный пистолет, из которого я должен выстрелить себе в голову, когда войдут люди в кранных шапках… Ожидая их, я читаю и перечитываю рукопись под названием «Сто двадцать дней Содома»…
– Ожидая… Ты хотел, чтоб они пришли?
– В конце концов – да. Я сидел там очень долго. Мне было нечего есть… Правда, рукопись отбивала аппетит, но и жить больше не хотелось… Они так и не явились – пришёл тот дед…
– Тебе вряд ли было тогда меньше пяти лет, но едва ли – больше десяти. Пистолет казался тебе очень большим или ты свободно держал его одной рукой?
– Это был специальный маленький пистолет – мой собственный, не взрослый…
Эжен вздохнул в сострадании. Огарок погас.
На несколько минут дыхание Макса стало шумным, как ветер в лесу, потом совсем утихло. Его гость уступал дремоте с робостью человека, впервые принимающего наркотик; его лопатки и ключицы облепляло свинцом, темнота вливалась в голову; казалось, вот-вот – и всё, но что-то вновь противилось. Вдруг – глухой удар в ушах, и всё тело дёрнулось, сердце словно поперхнулось адреналином, долго откашливалось и болело. Надо помолиться, подумал Эжен и начал шёпотом читать «Pater noster…», дойдя до самого amena, отвлёкся на какие-то импровизации и разбудил Макса.
«…сердца людей преступных облитые кровью лезут сквозь павшую хвою все в белых струпьях державные жилы их белы и налиты ядом им памятны беды безумье всегда с ними рядом собратия помните добрую волю Отца любовью Его все мы живы и сыты свободу душ своих храните умов не травите…» – бормотал Эжен на чистейшей латыни.
Глава III. В которой интерпретируют историю Содома
Люсьен пролежал у двери, свернувшись клубком, дрожа и не засыпая ни на миг. Новые и новые бессонные минуты заваливали его, давили, словно камни…
Когда пришёл Серый Жан и помог Люсьену встать, тот ничего не сказал сначала и не смотрел на хозяина. Они отправились наверх, во вчерашние покои.
Люсьен сразу залез под одеяло и прохныкал:
– Неужели до вас я не знал жестоких людей и страшных ночей!?… Не делайте сегодня со мной ничего. Я будто разбит и лежу черепками… Хотя, быть может, так, в полусознании, мне легче было бы перенести… позор…
– Позор!.. Обычные слова непосвящённых…
– Невинных.
– Несмышлёных маленьких зверьков… Спокойного дня.
Сон пролетел одной секундой.
– Чем мы теперь займёмся? – спросил Люсьен, открывая глаза в темноте.
– Историей, – прозвучал ответ, – Здесь хорошо натопили, так что можешь раскутаться. Лежи, не шевелись, слушай, что я буду говорить, и не обращай внимания на мои руки.
– … Вам придётся рассказывать что-то очень интересное.
– Постараюсь. После Всемирного Потопа прошло около десятка веков, но люди достаточно расплодились, построили большие города и стали предаваться всяким вольностям. Особенно преуспевали соседи Содом и Гоморра. Они прославились тем, что в жизни плоти творили всё, что запрещено было у других, а к тому, что другие приветствовали, относились с недоверием. Однажды два ангела (они тогда ещё часто бродили по земле), проходя мимо Содома, решили заночевать на улице города, но у самых ворот встретил их некто Лот и упросил зайти к нему в дом. Вечером жители ближних кварталов постучались к Лоту и потребовали, чтоб он познакомил их с гостями. «Знаю я, – отвечал тот, – что у вас на уме: один постыдный блуд! Есть у меня две дочери, не знавшие мужа. Давайте лучше я их к вам выведу». На это содомляне (повернись, пожалуйста) очень разгневались и закричали: «Бесстыдный мерзавец! Как ты смеешь глумиться над нашими обычаями!? Ты и не угадаешь, что мы с тобой за это сделаем!» Тут ангелы пришли на помощь своему приютителю, набросив на него плащ такого цвета, какой не воспринимает человеческий глаз, завели обратно в дом. А там сказали между собой: «Странные здесь люди». Лот же не замедлил рассказать о местных затеях. «Раз у них всё так перевёрнуто, – решили ангелы, – то пусть и живут они по ту сторону земли. Ты, обычный человек, забери семью и беги отсюда в горы и не вздумай оглядываться». Лот разбудил дочек и жену и ушёл вместе сними из обречённого места. Супруга его брела позади. Она знала, что нельзя смотреть назад, но оглянулась, увидела великий свет и – превратилась в соляной стоп… А Лот с дочерьми заночевали в горах. Последние отпрыски Содома, последние капли лукавой крови, – вообрази, что задумали эти девицы (вопреки родительскому мнению, давно уже многоопытные)! Они опоили отца и, по очереди завладев им, похитили его семя и стали матерями. С тех пор по земле рассеялись странные люди, чьё влечение не к противоположному, а к своему полу, или к обоим сразу. В них возрождается прах вольных городов. Они – потомки дочерей Лота. Но преуспели на земле и те, что продолжили его самого – лжежертвователи, лжеправедники, большая язва на человечестве, чем десять Содомов… Лишь одно может перерасти их пагубу… – наследие… той безымянной женщины – люди, презирающие спасение. Как и она, они останавливаются и зачарованно смотрят на горящие города, что-то говоря про себя и не понимая, что остолбенели… Иногда они…
– …становятся благодетелями мира – солью земли, – проскрипел чужой чей-то голос.
Для Люсьена пропало прикосновение двух горячих ладоней, сквозь веки просветил огонёк. И он открыл глаза, приподнялся.
Посреди комнаты стоял старик в тёмном балахоне. Он держал в руках по одинарному подсвечнику. Один – из левой – он отдал подошедшему Серому Жану.
К удивлению Люсьена, англичанин был одет, на нём отсутствовали только фрак и галстук. Золотистый свет ласкался с бархату его пурпурного жилета, нырял в пену манжет.
– Простите, если помешал, – сказал пришелец.
– Я всегда вам рад, – отвечал хозяин, – Посмотрите, какой хорошенький зверёк.
– Да, – старик почти не глянул в сторону Люсьена, вздохнул, качая головой, – Да, Содом… Люди – что зёрна. Мало кто знает иные цели, кроме плодородства… Высшим подвигом считается погибнуть, чтобы из одного стала дюжина…
– Старая притча! – дерзко подал голос Люсьен, – А кто хоть раз задумался всерьёз о жизни зерна!? Вот вышел сеятель и разбросал пшеницу по полю. Двадцать зерен упало на камень, сорок – на дорогу. Их изжарит солнце; ими прокормятся птицы и мыши. Но большинство же будет взято землёй, разбухнет, разорвётся в ней и расплетётся белым нитяным скелетом корня. Поднимутся миллиарды колосьев… И тут – придёт жница. Она оторвёт от почвы, повалит башни-дома, раздробит… А зёрна, от одного мешка которых стало двадцать – что будет с ними? – А и что обычно: один мешок пустят на новое племя, на захоронение заживо, а остальных засыпят в закрома, потом разотрут в семипудовых жерновах, потопят в дрожжевой воде и изжарят в печах – и сожрут! Мы, люди, как и все другие твари – это один необъятный огород, где хозяйничают Жизнь и Смерть. Первая сеет и поливает, а вторая жнёт и стряпает, и обе питаются нами. И чем больше они жрут, тем сильнее становятся, тем больше им надо!..
Рука Серого Жана была залита воском, одна белокурая прядь подпалилась… Он не поднимал головы. Старик уже смотрел в упор на Люсьена, и не каждый под таким взором мог бы говорить, а Люсьен не мог молчать:
– Только одна есть надежда: эти прожоры, может быть, когда-то одряхлеют, у них откроется несварение, у них в брюхах заведутся паразиты. Они свалятся и не смогут больше работать… Крысы поедят все их запасы,… а потом друг дружку, и мир кончится.
– Откуда ты родом, мудрый зверёк? – спросил старик.
– С юга, из Ангулема, что на Шаранте… Я устал. Я уже размолот. Я хотел бы прогорк-нуть, оядовитеть, чтоб хозяевам земли кололо в животах, чтоб они корчились от боли!..
– А не хочешь стать волной, вращающей жернова земной обманной благодати; или жаром страстей, или разлагающим грибом для умов? стать серпом или цепом Хозяйки?…
– … Я сам хочу есть.
– Я распоряжусь об ужине, – промолвил Серый Жан.
Он вышел, а когда вернулся через минуту, сказал:
– Попрошу вас больше не говорить об этом. Если мне написано на роду сойти с ума, я хочу это принять в тишине.
– Конечно, – старик церемонно кивнул, – Ещё раз извините.
И скрылся, оставив и второй подсвечник.
– Это ваш сосед Лот? – с ухмылкой спросил Люсьен, пока слуги расставляли блюда, – Почему вы не пригласили его перекусить?
– Он не нуждается в пище, – проговорил англичанин, счищая с пальцев воск.
– Что там за жратва? Малина!? в ноябре!? Я не ел её два года… Боже мой!.. Мне не хочется казаться… капризным, но… вы как будто пытаетесь вернуть меня в прошлое… Не делайте этого, пожалуйста! У меня нет хороших воспоминаний. Я ещё не всё попробовал на свете, не всё повидал; я хочу поскорее пресытиться, и тогда мне совсем…
– Ты ещё молод. Тебя нелегко будет пресытить. Потому и спешить не стоит. До завтра.
Глава IV. В которой интерпретируют поэму «Тьма»
Сон стал бегом наперегонки – каждый должен был раньше другого прийти от ирреального старта к прозаическому финишу пробуждения.
Эжен долго плутал по туманному сосняку, заросшему диковинными грибами, потом вышел к широкому озеру, над которым высился старый дом-замок, щедро освещённый, рассыпавший по всей воде золотые фишки огней. Подойти к дому было невозможно, но Эжен знал путь: нужно внырнуть в одно из отражённых окон. Он прыгнул головой вниз, поплыл, озираясь мне покачивающихся на глади ярких мозаичных прямоугольников, дрейфующих, как плёнки пролитого масла, стал выбирал то, что покрупней, нашёл, сильным рывком выскочил из воды, словно дельфин, и упал в оранжевый проём черноты, тут же расслабился, воображая, что плавно опустится на пол комнаты, но ничего такого не происходило – он тонул в той же вязковатой воде, а над головой лениво колыхались и рдели окна. Задача сложней, – догадался Эжен, – нужно найти одно единственное настоящее из них. Он вплыл на поверхность и повторил свой манёвр над другим светящимся пятном, и снова неудачно. Не повезло и с третьим, и с четвёртым. Сил оставалось всё меньше, время умирало, но делать было больше нечего: берег пропал. Провалившись в шестое – круглое лжеокно, Эжен вдруг обнаружил, что его руки связаны, и он не может грести, более того – не них тяжёлые оковы, они переворачивают его и тянут вниз, в непроглядную тьму на дне, вот уже ничего не видно, кулаки врываются в ил, их засасывает, вот уже и локти погрязли. Эжен упёрся головой, но её сжало сразу до ушей… Он пытался закричать, но у последней рыбы это получилось бы лучше, а через миг песочный кляп лишил его вех надежд на голос. Всё было не так уж скверно – сердце вырвалось на волю и с лёгкостью молодой медузы ((наяву Эжен, конечно, не видел медуз и само это слово считал лишь именем греческой богини)) стало подыматься, взмахивая обрывками сосудов, как китайская танцовщица – рукавами. Но кто мог его видеть?…
Эжен проснулся – мокрый, взлихораженный, больноголовый.
Ночь сеяла прозрачный рис в лунки парижских улиц, уныло крошила на крыши…
Осознав своё приключение, Эжен растерзал зубами узел на запястьях, потянулся, поворочался и упокоился. В постели было тепло. Рядом лежал другой человек – тот, кого позавчера Эжен меньше всего вообразил бы спящим с ним под одним одеялом.
Теперь сердце стало падшим серафимом, которому отрезали все крылья и волосы – осталась одна жалкая лысая головка, полустёртое лицо, и на нём – жалкая безнадёжная улыбка. Это был новый старт.
Макс всю ночь проскучал в лабиринте богатого особняка, а под утро явились какие-то люди и дали понять, что всё отсюда немедленно будет продано с аукциона. Одни распорядители начали описывать вещи, другие – ловить пауков, третьи – объяснять Максу, как надлежит ему вести себя на торгах. Выслушав их с притворным хладнокровием, он отошёл в уголок и застрелился.
Часы показывали 9.20., небо светлело. Макс чувствовал себя победителем, стоя над спящим ещё Эженом. Натешившись фантазиями, о которых лучше не говорить, он сел к столу и предался планированию. Новый день требовал какого-то особенного шага, и Макс отважно искал подсказку в своём сновидении. В общих чертах: предстояло сбыть (продать) что-то дорогое. Что именно? Он обводил уже бесчувственное кольцо ожога на ладони, сам себя погружая в средней глубины транс…
Проснулся Эжен.
– Привет, с добрым утром, – окликнул он Макса, – Чего тебе снилось?
– Вопросы задаю только я, – железно-непреклонным тоном отчеканил человек у окна.
– Что!? Да чёрта с три! – полыхнул его побратим, – Не хочешь говорить – молчи, мне наплевать, но помыкать мной ты не будешь!
Макс встрепенулся, отбрасывая забытьё, «Эврика!» – тоскливо вскрикнуло в нём.
– Прости, о чём ты меня спросил?
– Ни о чём… О снах…
– … Да, конечно… Что ты думаешь о них вообще?
– Что?… Ну, например,… что в них самая настоящая жизнь. Во снах мы никогда не притворяемся, там всё – правда…
Макс встал и зашарил по книгам, но не мог найти того, что хотел.
– Что ты ищешь?
– Ты всё равно не знаешь…
– Потому и спрашиваю.
Раздражённый Макс обернулся, но никакой ответ не шёл ему на ум.
– Опиши её, – дружелюбно и простодушно промолвил Эжен.
– Старая. Чёрная без надписей на корешке. Толщиной в полтора пальца… Ты ничего оттуда не увидишь: свет из окна тебе в лицо…
– А это не она – на самой верхотуре, в предпоследнем до камина столбце третья сверху?
Макс встал на стол, шагнул, закинул голову, вытянул книгу – да, она и была ему нужна. Быстро выхватил из неё отдельный лист, а книгу отложил; спустился, пригладил волосы…
– Вот она – бумажка стоимостью в полтысячи франков.
– Вексель?
– Почти.
– Можно глянуть?… Стихи?… Не по-французски…
– Это автограф лорда Байрона.
– Того парня, про которого пишут на заборах, что он гений, бог и дьявол?
Макс насупился:
– Тебе не кажется, что после таких трактовок не совеем удобно называть человека парнем?
– Человека нельзя назвать парнем, лишь когда он женщина или годится тебе в отцы.
– Это слово из низкого языка.
– Никакой язык не выше мозга.
– … На досуге я задумаюсь над тем, как ты умудрился попасть в свет, а сейчас мне нужно найти толкового букиниста.
– На улице Мантихор есть хорошая лавка, только там у тебя ничего не примут без графологичекой экспертизы.
– Где её производят?
– … О чем это стихотворение? Переведи его мне.
В совом свете и глухоте раннего часа Макс уловил на лице и в голосе недоотёсанного провинциала мрачную властность. Сам он ещё не знал, что значит подчиняться, но тут задумался и решил почтить союзника и, подсев на кровать, с которой ещё не вставал Эжен, медленно, безвыразительно, точно ленивый первоклассник – газетную заметку, озвучил «Тьму».
Глаза Эжена углубились, куда-то ушли на минуту, он закусил губы, потом медленно выговорил:
– Ты не должен это продавать.
– Я знаю, что должен.
– Послушай меня…
– Так говори же!
– Это точно его рука? Он сам дал тебе этот лист?
– Нет, прислал по почте, но я знаю его почерк.
– О чём писал ещё?
– Ни о чём. В конверте было только это.
– Ты оказывал ему какие-нибудь услуги?
– Скажем,… да.
– Ты мог бы назвать его склонным к мистицизму?
– Пожалуй… Не без этого…
– Ты не замечаешь в этом стихотворении… сбывшееся пророчество о тебе?
Макс глянул испуганно и покачал головой, как порой делают узнавшие о смерти близких.
– Точней, о нас с тобой… «Последние живые – граждане блистательной столицы, враги во время оно встретились на пепелище поруганного алтаря, где тлели реликвии и драгоценности, раздули пепел – вспыхнул огонёк…»
– И увидав друг друга, пали мёртвыми от ужаса! Это и есть пророчество!?
– Не это – то, что я сказал.
– А как быть с продолжением!?
– Ты никогда не слышал о призраках чертей? Они витают среди нас; наш мир – это их навь, их дурацкий злобный рай, где они радуются каждому нашему страху, питаются нашим отчаянием, празднуют наши горести, а бывает, что подстраивают нечастные судьбы…
– И что?
– Чтобы не привлекать внимания этих духов, надо скрывать и сдерживать веселье, а ещё лучше – чтоб их вовсе облопошить! – притворяться грустным, напуганным, когда всё хорошо, понарошку ругать своё богатство, друзей, рассказывать про себя жуткие и жалостные истории… Тебе несказанно повезло, Макс: про тебя такую сочинил настоящий мастер. Эта поэма – твой оберёг. Грешно её продавать.
– С чего ты взял, что он желал мне добра? Я говорил, что мы с ним подружились!? Нет, наоборот!.. Эта поэма… – проклятье мне, только не сбывшееся, холостое, неудачное, и я снесу её старьёвщику!..
– А как же я?
– Ты?
– Я – второй последний, тот, кто слева был у алтаря?… Меня-то он не знал. Зачем ему меня губить?… Ещё раз говорю: тут добрый умысел… и даже… самопожертвование. Ты представь себе, что должен чувствовать сочинитель такого… армагеддона!
«Суеверия относятся к эзотерике, как фольклор – к литературе» – вспомнилось Максу скрипучее изречение какого-то исландского лектора. Он поддавался убеждению: тяжко было годы напролёт чувствовать себя ненавистным, теперь – груз таял, но…
– Но как быть с главным – со всемирной тьмой?
– Она уж третий год как затопила землю – с того дня, как умер Отец. Ты не заметил?
– Это твоё субъективное переживание. Байрону оно не может быть известно.
– Сильные чувства разносятся по воздуху…
– Он написал это раньше!..
– А вдруг он провидец?
– Что ты в этом смыслишь!?… Ну,… предположим, ты прав… Но почему я всё же не могу её продать? Она отработана, как патрон после выстрела. Беда была предсказана, отведена – и теперь это просто исписанная бумага. Чем мне грозит её утрата?
– Нам, может, и ничем,… но вот он может затосковать или увидеть страшный сон…
Макс натужно вздохнул, снова взлез на стол, чтоб спрятать лист, задержался, загляделся на вплывающую из тумана улицу и прошептал:
– Ну, и пусть, – рванул белый уголок из-под чёрной ветхой корки, – … Ему не привыкать.
Эжен покривился. Он видел: первое, чего хочет Макс, – это поквитаться за что-то. Сам же он, Эжен, не хранил обид и считал мстительность уродством. Уследив его мысли, Макс сказал:
– Незлопамятные люди причиняют ближним больше боли: они не помнят как чужого, так и собственного зла… Где производят графологическую экспертизу?
– Я не знаю.
– Кто знает?
– … Эмиль Блонде. Он с десяти до двух торчит в редакции «Дебатов».