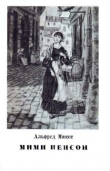Текст книги "Происхождение боли (СИ)"
Автор книги: Ольга Февралева
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
Глава СХVII. История маркиза де Ронкероля
Под Новым мостом камни были седы от инея, в подножье подпоры забился снег. Эжен сгрёб его, втёр в лицо, в шею, в затылок, запрокинул голову – наконец-то ему удался глубокий вдох…
На своде укрытия беспорядочно мохрилась ледяная чешуя, словно миллиард мух-златоглазок повис на нём, их крылья даже здесь уловили крупицы солнца. С краю тёмной полуарки плакала одинокая сосулька…
Было тихо, как во сне, даже талые капли с ледяного носа падали реже и реже.
Эжен взошёл на мост, глянул сначала вниз по течению: там все дома почернели, а небо висело подсвеченной простынёй. Обернулся – и вскрикнул горлом от восторга: здания стояли как стальные, а над ними поднималась мрачно-сизая туча. Таковы они: дождь, надвигаясь, всегда шлёт впереди герольда – ветер, а снег подкрадывается бесшумно, как коварный враг… Вот и белая всепожирающая муть пошла по реке, вся набережная словно глухо обваливалась… Но чем ближе, тем приветливей: вот первая снежинка щипнула эженову щёку, вот а плечах и голове осели стайками. Наконец он оказался в глубине фронта. На одной его реснице висло по три летучих льдинки, лицо умылось, сердце отболело, и он пошёл дальше, миновал мост, почти дошёл до соседнего, как вдруг в окне какого-то кабачка поймал краем глаза недобрую суматоху и подоспел к разгару драки, из которой ловко выручил не кого-нибудь, а маркиза де Ронкероля. Тот был сильно пьян и сам во всём виноват. Хозяин заведения и усмирённые гости просили увести его подобру-поздорову. Эжен перетащил распозореного льва в ближайшую кофейню, усадил в угол, заказал, сам не понял чего.
– Эй, сударь! – лёг щекой на стол, чтоб заглянуть соседу под разбитую бровь, – Слышите меня?… Что с вами такое?
Ронкероль, гребя локтями, кулаками, горбясь, как запойный дворник, приподнялся:
– Растиньяк, ты что ли? – просипел уныло.
– К вашим дальнейшим услугам, маркиз.
– Слушай, блин, у меня это – горе, чтоб его…
– Я слушаю.
– Кормилица умерла – баба, что была мне как мать, а мать – от родов – так я всегда думал, а вот эта ведьма – ну, чего её стоило смолчать! что, я – поп ей!?…
– Она вам что-то рассказала перед смертью?
– Ей было лет семнадцать. От кого она залетела – один Бог теперь знает: может, закрутила сама с кем-то, а может… В Париже тогда был голод и вообще чёрти-что, полный бардак, и вот, будучи на сносях, она – моя мать – то ли убегала от кого-то, то ли просто не знала, где приткнуться, и постучалась в дверь к мяснику. Тот давно сидел без работы, всего ему и было развлечения, что хоронить своих окостлявевших детишек – всех он и закопал, осталась одна девчонка грудная. Роды у матери начались той же ночью, и она так мучилась, что если верить старухе, сама пожелала смерти, ну, а за этим дела не стало. Мужик наточил свои инструменты и упрваился не хуже самой гильотины. Меня они вытащили, а мать освежевали. Что-то сразу сварили, что-то засолили, что-то сбыли соседям – как те были счастливы!.. Я жил в той семье семь с небольшим лет, с самого начала зная, что я не сын, а найдёнок, потом отыскался мой дядя, он узнал какую-то побрякушку, которую людоеды сняли с маминой шеи и забрал меня, точней сказать, всех нас забрал к себе. Сначала я учился в каком-то пансионе – там было не лучше, чем в трущобах. Потом меня устроили пажом к императору – это было уже веселей. Потом я получил наследство, завёл друзей и любовниц в свете, потом – настал вчерашний день… А ведь я догадывался о чём-то! Сколько раз я спрашивал себя: в кого, ну, в кого я такой гад!? (– тут со стороны Эжена должно было поступить галантное возражение, но он слушал слегка отупело, чувствуя, что весь сегодняшний запас красноречия истратил на Даниэля д'Артеза, и вдыхая раз в полторы две минуты, чтоб у сердца не достало сил для нового приступа – ) А я ведь гад!! Я разрушил отношения Армана де Монриво и герцогини де Ланже! я свёл д'Ажуду с девицей Рошфид! я объявил сумасшедшим Гастона де Нюейля! Зачем!? Что мне из этого!? А вот гад я – и всё! Проклятый Богом гад, сосавший молоко, сделанное из крови и мяса родной матери!
– Да вы только раз или два…
– Заткнись! Не смей меня оправдывать! – маркиз чуть полез на Эжена с кулаками, а тот бесстрашно и бесстрастно продолжал:
– Каждый младенец, будучи в утробе, питается материнской кровью – так уж установлено. Вы могли плохо поступить с кем угодно, но в участи своей матери точно неповинны.
– Но в ней виновны единственные люди, которых я в жизни любил: эта старуха и…! и…!..
– Госпожа де Серизи?…
– Ле-он-ти-на!.. В день её свадьбы я чуть не застрелился! Смирился кое-как, нельзя ведь: сестра! – близняшка!.. А оказалось!..
Эжен огляделся и нашёл слишком много слушателей.
– Пойдёмте-ка на воздух. Метель вроде утихла.
В фиакре, ползущем сквозь всё ещё сильный снегопад, Ронкероль продолжал убиваться, каяться в разрушенных женских репутациях, в кровопролитных дуэлях, в запретной любви к мнимой сестре; потом повторял раз двадцать, что покончит с собой; спрашивал, не знает ли Эжен умельца, что легко убивал бы за деньги (нет, он не знает).
Уже в темноте старый слуга, неизбежный в каждом особняке, как та полостатая кушетка, принял на руки полуживого молодого господина. Эжен проводил их до спальни, потом пошёл к генералу де Монриво – через полПарижа.
В прихожей стряхнул с себя целый сугроб. Хозяин тут же распорядился о горячем напитке, усадил гостя в кресло:
– Ну, что нового?
– У меня-то ничего, а вот маркиз де Ронкероль… Короче, если он вам друг, – езжайте немедля к нему утешать, если враг – езжайте всё равно – полюбоваться.
– Что с ним ещё приключилось?
– Сами узнайте… Ну, ладно. В двух словах… – и рассказал-таки о смерти убийцы-кормилицы, мудро умолчав об истинном происхождении госпожи де Серизи.
Арман исполнился чего-то театрального, похожего на гордость или торжество, просидел минуту прямо и величественно, как памятник Рамзесу, потом крикнул:
– Сахар, одеваться!
Эжен встал, откланялся с недопитой чашкой в руке; в дверях обернулся:
– Да, я всё забываю вам сказать: наши граф с графиней, Анастази и Макс, – помирились и живут счастливо.
Тут Арман слегка поблек, но поблагодарил за хорошие известия.
Эжен отправился в Дом Воке. Там господин Нема сообщил о визите полицейского курьера, который «зайдёт завтра в три, и если опять не застанет вас, то ждите повестки».
– А чего ему надо, он не говорил?
– Нет, но я догадываюсь, а вам не скажу: не хочу портить сюрприз.
Эжен убедил себя махнуть рукой на эти вшивые тайны, наскоро обошёл владения, убедился, что питомцы в относительном порядке, и пошёл – по уже мертвецки сонному, мягкогулкому от тумана Парижу – вновь к Ронкеролю. Достучался, узрел ночной колпак и шлафрок старого лакея, спросил: «Никто не заезжал тут без меня?». Дед, зевая, покачал головой. Дальше они стояли молча, бодаясь многозначительными взглядами. В конце концов старик капитулировал, впустил в дом молодого бродягу, показал, где туалетная комната ((её, видимо, проектировал тот же дизайнер, что и эженову гостиную. Она была выложена крупными недоотёсанными камнями, кое-где разрисованными сценками из жизни серн и туров)), где – свободный диванчик, а сам уковылял досыпать.
Поутру Эжен, за ночь не сомкнувший глаз, зато обошедший весь дом, оскоблился ронкеролевой бритвой, потрогал пальцем лезвие и оценил его остроту на 78 баллов из 100; утёрся чужим полотенцем, набрызгался дезодорантом и отправился будить маркиза. Тот без особых сопротивлений сел на кровати. Его лицо, тёмное от давней щетины, синяков и ссадин, менялось, как у того, кому удалось вчера уснуть сквозь дикую зубную боль, кто проснулся ещё в притуплении чувств, но вот снова она, окаянная… Его глаза налились безнадёгой, горло заскулило, рот приоткрылся для всхлипа… Потряс головой, собрался с духом и сказал:
– Я знаю, что мне делать: я попрошу короля, чтоб он снял с меня титул, имя и всё остальное. Не могу я, людоедский выкормыш, наследовать герб!.. Кто поручится, что я сам – сын Миранды де Ронкероль, а не мясничихи?
– Нельзя не верить словам умирающего…
– Я, может, не дослушал, не понял чего, или она не успела… А главное, я чувствую, что я такой же как они…
– Но так и есть, и по-другому быть не может: все мы не лучше всех других, которые не хуже никого… Вы верно плохо представляете себе, насколько страшен голод и что страдания роженицы могут быть такими, что добрейший человек захочет прекратить их любой ценой. Когда рожала моя мать, а я всё слышал,… с какого-то момента я был согласен на её смерть, лишь бы она замолчала… Я думаю, вам надо протсить тех людей. Совершив преступление, они сделали всё, чтоб его искупить. К тому же госпожа де Серизи – она не должна пострадать. Разве можно её судить за то, что она была дорога своим родителям?
– Я ей всё-таки всё расскажу, – угрюмо бычась, пригрозил Ронкероль.
– Всё – это о ваших к ней чувствах?
– … Я почти уверен, что вот теперь-то разлюблю её.
– Так или иначе, а с ней у вас будет лучше, чем прежде.
– Эххх, – маркиз свесил ноги, нашёл на полу туфли, на стуле – халат, но остался в сорочке и подштанниках, – … Теперь всё будет по-другому… Мне, знаешь, даже вроде легче. То ли ты так на меня действуешь,… то ли я такой здоровый. Ведь, если посудить, горе, тоска – всё это ненормально для человека, вот и мне уже спокойней, и не потому что я бессовестен, а потому что я не психопат… Нет, однозначно: я лишь по матери дворянин, а отец у меня был какой-нибудь бравый парень с окраины, может, солдат – и он (как и я) умел пустить в галоп любое женское сердчишко, а не умел только страдать… (– прошёлся к столику, на котором лежали три книги: толстый недоразрезанный Купер в зелёном сафьяне; затрёпанный «Простодушный» и «Рене» Шатобриана – ) Ты любишь читать про дикарей?
Эжен только пожал плечами.
– Я лично, как сказали бы англичане, люблю ненавидеть такую писанину. Читаю, а сам думаю одно и то же: мы ведь сами были такими, мы, коренные европейцы – веке в пятом/третьем до рождества Христова – мы были те же самые гуроны, чероки, могикане. Мы жили в лесах среди зверей и птиц, чувствовали землю и воду, а наше франциска была покруче их заокеанского томагавка!
– Ещё бы.
– Рим нас погубил, заразил дурными болезнями: жадностью, честолюбием, тягой к власти, презрением к природе. То же примерно сделал с гуннами Китай. Те пять веков бежали на запад от ига империи, а пришли к нам – у нас то же самое; взбесились, стали всё крушить, но было поздно… Мы уже уверовали, что нет ничего лучше короны, замка с башнями посреди города, где ты будешь сидеть, не видя света, завесив плесень на стенах златошитыми флагами, а выйдя подышать, посмотришь вниз, и не увидишь больше леса!.. Я не хочу зваться Жюлем. Пусть меня зовут Дидье или Юго, или… тебя-то как?
– Эжен.
– Всё лучше, чем как Цезаря!
– … Я дружил с одним парнем по имени Жюльен, которого братья звали Жюль; он обижался до слёз, а они говорили, что это одно и то же…
Эжен осматривал углами глаз спальню: обои тёмно-оливковые, книжки прячутся в старомодной тумбочке, из которой их можно достать, только сев на пол; над ней висит мрачная картина, изображающая лиссабонское (или другое) землетрясение, а по бокам от неё топорщатся оленьи рога; на камине статуэтка человека с бараньей головой, какой-то археологический черепок; справа и слева от двери – ещё две картины: индюшка с орланьим клювом ((уже ископаемый дронт)) в земляном гнезде и нагая толстушка в полосатом тюрбане посреди тюфяков. Девушка лежала на животе, изогнувшись нарочно так, чтоб потрафить похотливому глазу, при этом она как бы смотрела на птицу и казалась напуганной.
– Хм, что ж, однако, получается, – опомнился Жюль, – ты проведал ужасную тайну – мою. Знаешь, что с тобой надо сделать по кодексу Тринадцати?
– Ума не приложу, – презрительно сиронизировал Эжен, не взглянув на маркиза, зловеще, с хищной миной вспарывавшего пальцем воздух вблизи и поперёк своей шеи.
– … С другой стороны, в самый чёрный день моей жизни только ты пришёл на помощь. Стало быть, теперь ты мне одновременно и заклятый враг, и лучший друг.
– И никто – если вывести среднее арифметическое. Прощайте.
– Погоди, – Жюль выдвинул ящик из тумбочки с книгами, вынул кожаный кошелёк, – Лови. Не знаю, сколько тут. Даю как врагу – чтоб помалкивал, понял? К друг – проси меня о чём хочешь. И когда хочешь. Только не сейчас и не чаще раза в неделю.
Выйдя к реке, Эжен вытряхнул на мокрый парапет ронкеролев мешочек, нашёл двенадцать золотых монет, двадцать одну серебряную, какой-то перстенёк с бирюзой и четыре мелокалиберные пули. Последние он выстроил шеренгой и щелчками посбивал в Сену…
Глава СХVIII. Воспоминания о Луи Ламбере
Налюбовавшись их порочным блеском, Даниэль смёл монеты с подоконника в ладонь, завернул в платок, спрятал за пазуху и вышел из свой манасрды. По дороге он, глубокий и бескомпромиссный психолог, уличал себя в том, что обрушил на вчерашнего чудака всё собственное подпольное раскаяние: одно дело было вывести на чистую воду самозванца, отрезать ему путь к лёгкой наживе, жизни в праздности, губящей талант, другое – втянуть слабого, наивного ребёнка в когорту стойких борцов с превратностями жизни и света, титанов духа – лишь затем, по сути, чтоб попробовать восполнить главную свою утрату – умершего друга, Луи Ламбера, истинного гения воображения, но не просто подменить его (о! он был из людей, рождающихся раз в тысячелетье!) кем-то другим при себе, а самому занять его место – при ком-то другом – стать кому-то вождём и учителем, но если Луи сам сгорел, расточая без меры сокровища своих идей, то ты, Даниэль, не удержал в руках, уронил в пекло цветок юной, доверившейся тебе души!..
Эжен в это время принимал в Доме Воке мелкого пристава.
– Во-первых, – говорил тот, – я хотел бы видеть вашу налоговую декларацию.
– У меня благотворительное заведение, я не имею с него дохода.
– Во-вторых, коль скоро вы решились иметь непосредственное общение с – кхм – маргинальным слоем населения, то органы правоохранения должны быть уверены, что вы не станете, к примеру, укрывать беглых преступников, способствовать нелегальной коммерческой деятельности, а посему распишитесь в данном соглашении.
Стандартный документ гласил об обязательстве сдавать в полицию всех разыскиваемых, всех приносящих подозрительные предметы, оружие, неожиданно крупные суммы…
Эжен медлил.
– Откуда мне знать, кого сегодня не досчитались за решёткой?
– Я принёс вам и полный пакет кратких досье на всех особоопасных. Кстати, с вас тридцать пять франков – за работу писца и курьера. Потрудиться изучить и не говорите потом, что не узнали какого-нибудь,… – раскрыл наугад свою папку, – Жана Вальжана.
– Квитанцию и сдачу, – хмуро потребовал Эжен, протягивая крупный золотой.
– Не смотрите так. У вас есть прихоти, у меня – работа. Автограф – будьте любезны.
Отделавшись от недоброго гостя, Эжен полистал его бумаги, быстро нашёл Вотрена, освежил, морщась, в уме его образ, потом припомнил имя, названное приставом, отыскал нужное досье, задумался, чуть дрогнул, перечитал внимательней и пустился на поиски, с трудом сдерживаясь, чтоб не спрашивать, не видал ли кто Жана Трежана; по своим меркам он целую вечность шарахался по дому – целых десять минут, наконец встретил этого пожилого, но вполне ещё крепкого, а в молодости очень сильного человека.
– Здравствуйте, друг. Как ваша нога?
– Спасибо, ничего.
– Пойдёмте-ка со мной: есть дело.
В новом ноевом ковчеге оставался сравнительно уединённый уголок – комнатка, где во время оно жила мадемуазель Мишоно. Там теперь селились дети, прибегавшие только перекусить и переночевать. Собеседники сели друг напротив друга на невесть чьи подстилки.
– Значит так. У меня есть семья в Ангулеме: родители, братья и сёстры. Я давно их не видел, а хотел бы знать, как они. Письмам не доверяю: они не захотят меня расстраивать, если что-то случится, или напрягать, если в чём-то нужда, но я ведь должен быть в курсе, правда?
– Да, сударь.
– Я хотел бы отправить вас туда разведчиком. Не говорите, что вы от меня, прикиньтесь заблудившимся каким-нибудь или разъезжим торговцем, предложите им хорошую плату за постой. Он люди добрые и доверчивые…
– Так у меня ж…
– Я всем вас снабжу. Вот, – извлёк ронкеролеву россыпь, – Первым делом – и немедленно – почиститесь, приоденьтесь, потом езжайте на станцию и отправляйтесь первым подходящим дилижансом на юг, хоть с пересадками, но только чтоб сегодня же отбыть.
– Такая спешка?…
– Да вот…
– Ну, а долго мне там быть? к какому сроку возвращаться?
– Больше суток не гостите. А возвращаться вам не надо, – протянул сложенный вчетверо листок Жана Вальжана; беглец прочитал, оседая всем лицом, – Вижу, вы грамотны. Черкните мне, что и как у моих, а сами ложитесь на какое-нибудь дно и не лажайте там, как в Аррасе.
– Тут же ничего об этом нет…
– Ваш тогдашний засып вошёл во все учебники!..
В этот момент в комнату заглянул Даниэль:
– Простите, можно?
– Минутку – договорю с человеком. Проходите.
– Сударь, если вы можете меня понять, то в первый раз я загремел только за то, что стырил краюху: вдовой сестре с девятью мелкими хавать было нечего…
– Мне все ваши кипежи глубоко параллельны. Сделайте дело, и гуляйте, а я подставляться не хочу. Час на сборы, и скатертью дорога. Кстати, и погоняло себе возьмите посуразней, а то что это такое дядюшка Мадлен? – всё равно что тётушка Робер.
– Да, – понуро кивнул Трежан, – Прощайте. Спасибо.
– Бумажку верните… Всё, с Богом… Ну, здравствуйте, господин д'Артез. Что, притащили-таки свою вдовью лепту, или чисто так, с ревизией?
Даниэль бездумно занял место, согретое штанами беглого каторжника.
– На каком языке вы сейчас говорили?
– Не цветной фене.
– Это ведь язык воров?(!)
– Это просто язык, на нём может болтать кто угодно.
– … Значит, это правда: вы содержите приют… Я думал, человек с таким занятием… рискует быть преданым остракизму в высшем свете… Вы скрываете?
– Да не особо. А в свет (в смысле сборищ) я мало хожу, так, навещаю знакомых дворян, музыку слушаю – вот и вся моя светская жизнь.
– Возьмите. Они ваши, – Даниэль протянул свёрток, – Вы создали Роже Обиньяка…
– Видит Бог, я едва ли сумел бы заработать на нём хоть сантим. Надеюсь, вы хоть что-то оставили себе?
– Конечно, почти треть. Но больше не возьму, не уговаривайте.
– Пойдёмте подышим. Вы вроде никуда не спешите, а мне надо шевелиться, не то свалюсь; я уже и не помню, когда последний раз спал.
– Ваша жизнь полна забот и треволнений?
– Есть немного, – тихо, с очаровательным смирением ответил Эжен.
Дойдя до ближайшего перекрёстка, он подвернул к компании студентов: «Братва, закурить не найдётся?» – и отошёл к спутнику, попыхивая папиросой.
– Мне нужно с вами поговорить, – волновался Даниэль, – … Во-первых, извините, что я вчера набросился на вас с упрёками. У меня нет никакого права судить вас…
– Проехали.
– То есть вы не таите на меня обиды?
– Ничуть. Я и сам на себя часто злюсь.
– … Я принёс вам деньги,… не затем, чтоб прервать случайно возникшую связь между нами – напротив! с вашего позволения, я хотел бы её укрепить… Из рассказов Ораса Бьяншона (если таковые имели место) вы могли сделать вывод, что я окружён друзьями, но это не так. Я очень одинок. В юности у меня был друг, на которого я опирался духовно, эмоционально, творчески, но его не стало. Невозможно описать, насколько это был одарённый человек! В двенадцать лет он был начитанней, чем я сейчас, а сила его ума и фантазии была безгранична! Он был ясновидцем, способным необычайно ярко представлять себе то, о чём повествует книга или собеседник. Он великолепно знал людей и события, которых в жизни не видел и свидетелем которых не был. Читая рассказ о битве при Аустерлице, Луи Ламбер (так звали моего друга) слышал грохот орудий, крики сражающихся, храп испуганных лошадей, вдыхал запах пороха; перед ним проходили картины, подобные видениям Апокалипсиса. Целиком погружаясь в чтение, он забывал о внешнем мире. Но при желании он мог также порою сосредоточивать все свои жизненные силы на избранной им цели, и тогда он становился несокрушим. Если он хотел живо представить себе, что испытывает человек, когда в его тело вонзается лезвие перочинного ножа, то ощущал жгучую боль. Мысль, причиняющая физические страдания… Каково!?…
– Никакая это не мысль. Это глюки, наваждение, транс. А боль от перочинного ножа в первые моменты (особенно если не поперёк мяса) больше всего похожа на сильный щипок; а чувство – удивление, обвал покоя, тошнота от страха и брезгливости, но с опытом или ввиду дальнейшей опасности одолеть её легко; думаешь, почему так холодно вокруг раны, а кровь, вытекая, очень быстро стынет. Если за тобой кто-то гонится, нападает на тебя, ты вообще забудешь о порезе, вспомнишь разве что через два-три часа, когда он начнёт загнивать. Тогда-то и начнётся ваша любимая «жгучая боль».
– Вам, конечно, видней, – кивнул Даниэль на эженов подбордок, – Но чья это «наша», и почему «любимая»?
– Все писатели повторяют это выражение. Догадываюсь, что ваш друг скончался. Не удивительно – при таких интересах; вообразил, должно быть, рану посерьёзней, чем от канцелярского инструмента… Или его привлекало ещё что-нибудь, кроме насилия?
– Ему было подвластно всё: любой образ, любая коллизия… Я полагаю, что в своих мечтах он предавался и наслаждениям, любил прекрасных женщин, жил в роскошных дворцах, но не делился со мной этим… из целомудрия.
– Ну, Царство ему Небесное.
– … Я восхищался им. Мы могли часами, ночи напролёт говорить о литературе. Эти беседы окрыляли меня!.. Но со смертью Луи я словно придавлен к земле, и перемолвиться по душам, по-настоящему мне не с кем… Работа моя заходит в тупик. Вы назвали меня книжником – это нелестно, даже горько, но справедливо. Я читаю, конспектирую, вдумываюсь в чужие слова, а где мои собственные? о чём писать мне, – не знаю. Мне казался наивным Люсьен, а как я сам купился на вашу мистификацию! хотя в ней было много исторических и других противоречий, очевидных для всех, кроме меня.
– Вам нужна какая-нибудь безвестная история, чтоб написать новую повесть?
– Но так поступают все литераторы – все берут материал из реальности! А современный писатель просто обязан быть правдивым зеркалом и частной жизни, и политической!..
– Да я не против. Приходите в любое время в Дом Воке (так называется мой приют) – пусть он теперь будет вашей библиотекой: спрашивайте людей – они вам таких жизненных историй понарассказывают! – на тридцать томов.
– Спасибо, это интересное предложение, – несколько разочарованно ответил писатель: он робко рассчитывал, что Эжен укажет ему лазейку в высший свет; а подойти с разговором к нищему ему было так же боязно, как неучу раскрыть книгу.
– Вот, где я живу. Поднимемся – погреетесь, – на этот раз Даниэль не обманулся в своих надеждах. Вот и его изумлённые ахи огласили эженову гостиную. В квартире было гораздо теплей, чем в мансарде на улице Четырёх Ветров.
– Устраивайтесь. Рафаэль! – Эжен скрылся в смежной комнате.
Даниэль снял шляпу, плащ, аккуратно сложил всё на скамейку и увидел на столе пепельницу, набитую чищеными миндальными орешками и изюмом, а рядом на кофейном блюдце – яйцо с надписью «СЪЕШЬ МЕНЯ!!!» ((заботы Береники)) – оно как-то само собой оказалось в руке пистаеля.
– Угощайтесь на здоровье, – молвил вернувшийся Эжен, – Я сгоняю пока вниз за углём: холодновато, ну, и выпить чего-нибудь прихвачу.
– Не труди… – начал гость, но хозяина уже след простыл.
Когда Эжен снова вошёл в зеркальную комнату, неся подмышкой ящик угольных брикетов, а в руке – бутылку, пепельницу наполняли лишь яичные скорлупки. Даниэль и не подозревал, что уничтожил всё, что было в этом жилище съестного.
– Открывайте.
– Чем? Я не умею.
– Тогда возьмите стаканы и идемте за мной.
– А где у вас посуда?
– Да где угодно. Посмотрите по сторонам.
Даниэль нашёл классический бокал для бреди на подоконнике и высокий фужер из чёрного стекла ((Даниэль вообразил, что этот бокал сделан из угля, непопревращённого в алмаз и сразу решил, что даст его Эжену)) – в шкафу, протёр их полотенцем, висящим на дверной ручке, и пошёл за Эженом, чуть не упал в комнате между гостиной и спальней, наконец, увидел своего нового знакомого сидящим у камина, в котором гудело пламя. Эжен зубами выдернул пробку из бутылки, налил себе и гостю, поднял:
– В помин друга вашего Луи Ламбера.
Даниэль глотнул – впервые за пять лет – и нашёл вкус приятным, а хмель несильным.
– … Я всё-таки так плохо понимаю вас. У вас развит дар воображения и слова, но к литературе вы относитесь с демонстративным пренебрежением; кажетесь человеком деловым, предприимчивым, рассудительным, но сочиняете совершенно безумную историю, да ещё и берёте на себя вину в страшном преступлении… Пьёте за Луи Ламбера – а кто он в ваших глазах?
– … Судя по вашим описаниям, он был бесноватым.
– Что!?
– Ну, или одержимым. Я слышал, что к некоторым людям в душу залезают навые гости и, с одной стороны, сообщают необычные способности, с другой, – внушают странные идеи. Некоторые книги открываются дверями в тот мир, что по другую сторону жизни, и, конечно, если очень много и всё подряд читать, особенно в детстве, когда душа ещё не обросла панцирем, ты здорово рискуешь подхватить какую-нибудь чертовщину…
– Подождите, подождите! Что за мистика!? Вы в это правда верите?
– Он делился с вами какими-либо фантазиями, не связанными с войной и кровопролитием?
– … Трудно вспомнить, но в одном могу поручиться: мучения причинял Луи не тот, внутренний, а внешний мир. Он намеренно погружался в пучину грёз, какими бы они ни были.
– Он оставил после себя какие-нибудь рукописи?
– Ими завладела женщина, прежде захватившая его сердце.
– Лучше бы забрать у неё эти документы: они могут оказаться переносчиком той духовной инфекции, что доконала Луи, а если учесть, что его наваждения были милитаристского толка, то для дамы они тем более опасны. Вы с ней знакомы?
– Нет…
– Жаль.
– … Так вы поэтому чуждаетесь литературы – верите, что книги могут повредить вашей душе?
– Ну, моей-то повредить уже трудно, – вздохнул Эжен, подливая себе вина, – Вам странно, что я взвалил на себя детоубийство? Просто я накануне выслушал настоящего детоубийцу. Он вроде как заразил меня своей мерзостью, и я отождествил себя с ним. Но домом, где жил утопленный ребёнок, стала усадьба моих родителей, а самим ребёнком – опять-таки я сам, или кто-то из моих братьев… Это было страшно,… как сон…
– Разве нестрашных снов вы не видите?
– Бог милостив – бывают и терпимые. А вообще,… – Эжен сидел, держа спину прямо, но его голова клонилась долу, рука с трудом поднимала полупустой бокал, и говорил он всё тише, – от любых я устаю, как от недельной страды. Хоть и за сожженные там силы я получаю взамен больше чем здесь а здешняя сила превращённое знание оттуда…
Недобормотав чего-то уже совсем бессвязного, Эжен почти бесшумно повалился на бок. Даниэль успел вынуть из его увядших пальцев фужер, не решился тащить спящего на кровать, подложил ему под висок подушку, укрывать не стал: от камина и так жарко. Затем пытливый писатель вернулся в гостиную, от догорающей свечи зажёг почти свежую и принялся исследовать квартиру, увлёкшись, выдвинул по очереди ящики из буфета, и там, где положено храниться ложкам, обнаружил толстую папку с рукописью «О воле». «Ага!» – так и воскликнул Даниэль и нырнул глазами в каллиграфические волны. Он спалил свечу, начал совсем новую, прочитал две трети, ежеминутно поражаясь обширным познаниям автора в области восточной философии, а в его воображении постепенно вырисовывался образ Эжена – адепта брахманистских тайн, буддийского отшельника-чудотворца, огнепоклонника или монгольского шамана. Его буквенно-мысленное пиршество прервал приход Рафаэля.
– Добрый вечер, сударь. / Здравствуйте, сударь, – одновременно сказали молодые люди, – Кажется, мы не знакомы. / С кем имею честь? – умолкли, боясь опять друг друга перебить.
– Меня зовут Даниэль д'Артез. Я литератор, и Эжен…
– Предложил вам взглянуть на мой труд? Ему следовало бы меня предупредить. Впрочем, он не привык с кем бы то ни было считаться и, как малое дитя, хватает без спросу все подряд.
– Так это ваш трактат?
– Разумеется. И коль скоро вы всё-таки его прочли, может быть удостоите отзыва?
– Это… просто поразительно!..
– О, наконец-то я слышу одобрение вместо насмешки! Простите, я не представился… – и до рассвета два писателя наслаждались беседой.