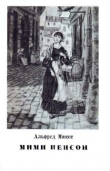Текст книги "Происхождение боли (СИ)"
Автор книги: Ольга Февралева
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц)
Глава IX. В которой наступает зима
Серый Жан привёл Люсьена в свою спальню и уступил своё место рядом с прекрасной Маргаритой. Так и продолжилось. Днём найдёныш почти не вставал с постели, отдыхая. Его хорошо кормили, ни к чему не принуждали, но он стал очень бояться темноты и сам приходил к своим мучителям. Сначала они бывали с ним довольно деликатны, но вскоре, распаляясь от его красоты и податливости, забывались и нередко доводили жертву до бесчувствия, впрочем не наносили ему ран, просто изнуряли.
«Неужели это происходит со мной!?» – было его обычной первой мыслю, когда, проснувшись часу в пятом, он вспоминал, где находится и для чего.
Он выдержал в таком режиме около недели, потом почувствовал, что не в состоянии встать. Испугался не столько самого паралича, сколько того, что грядущую ночь придётся провести в пустоте и холоде… Он недолго проплакал. Пришёл Серый Жан и тихо присел рядом.
– У меня отнялись ноги! – прорыдал Люсьен, – Меня тошнит! Я не могу заснуть!
Англичанин заботливо-тревожно ощупал ладони и ступни пленника:
– Жара нет? Спина не болит?
– Не больше, чем всё остальное!
– … Я же просил тебя сообщать, если что-то будет не так…
– … Я вас боюсь…
– Перестань наконец говорить мне «вы»… Ты устал. Какое-то время придётся воздержаться.
– Хорошая идея. Только я боюсь оставаться один.
– Я смогу пробыть с тобой всю эту и несколько ближайших ночей.
– А как же леди Маргарита?
– Она сегодня ничего не хочет.
– Странно. Вчера была ненасытнее стаи спрутов…
– С ней такое каждый месяц. Она вдруг запирается в своих покоях и никого не принимает.
– Долго это длится?
– Дней шесть.
– Ты никогда не интересовался, почему она так делает?
– Нет. Какая разница. У всех свои причуды. Многие любят уединение. Я знаю, что она не страдает. Прощаясь со мной перед временной разлукой, она обычно даже весела…
– … Ты правда ничего со мной не сделаешь?
– Ничего особенного. Мы поужинаем, а потом, если захочешь, я тебе почитаю или расскажу что-нибудь. Или ты – мне.
Принесли еду.
– Я буду кормить тебя с руки, – сказал Серый Жан, – хорошо?
– Куда как!..
Люсьен взял губами ломтик ананаса и слизнул сладкий сироп с пальцев англичанина, быстро ожил, развеселился:
– Совсем не дурно быть твоей зверюшкой, господин граф. Как там поживает твой мудрёный сосед?
– Он собирался в Ад, чтоб добыть для опытов летейскую воду.
– Ха! Вот, что надо было делать Манфреду, который так хотел забвения.
– Ты читал эту поэму?
– Рецензировал.
– Она тебе понравилась?
– Не знаю. Издатель велел написать, что это чушь… Ну, в самом деле! Для забвения ведь нужно не колдовство, а бутылка коньяка или ложка гашиша. Потом он даже не мог объяснить своим духам, что именно хочет забыть. Огрели бы его по башке, чтоб схлопотал эту, как её – амнезию и ходил бы дурак дураком!..
– А у тебя нет того же желания?
– Какого – того? Он вообще не знал, чего хотел!
Серый Жан не ответил; он задул свечи и заполз под одеяло огромным холодным удавом, но скоро согрелся. Они уснули…
Пробудился Люсьен в пустой кровати.
Рассвело, и что-то преобразило угрюмость высоких тёмных стен. Наверное, музыка – неспешная, простая мелодия, слетающая со второй октавы рояля. Люсьен встал и, закутавшись в простыню, пошёл искать источник звуков и нашёл в смежной комнате большое чёрное однокрылое чудо, приручённое Серым Жаном. Оно, откинув чёрную губу от ряда чёрных и белых зубов, тонко и задумчиво пело, пока хозяин к нему прикасался.
В зале было очень светло, пол блестел, блестело всё – само собой и отражая изнутренние блески окружающих предметов. Отовсюду улыбались искры…
– Это Глюк? – скаламбурил Люсьен.
Музыкант довёл до конца фразу, замедлив её, приглушив и завершив игру самой высокой нотой, обернулся с улыбкой:
– Это реквием дождю.
Люсьен заметил, что перед глазами англичанина не было нотного листа. А ещё он не знал, что такое реквием, иначе бы удивился.
– Я тебя разбудил?
– Я не знаю, почему проснулся.
– Я знаю, почему проснулся я. Подойди к окну. Посмотри… Ну?
– Те же гнусные крыши и мерзкие стены.
– А снег? Он идёт уже второй час! Это первый после лета снег.
Люсьен подошёл к роялю.
– Ты что же, сам сочиняешь эту музыку? или помнишь её наизусть?
– Я нигде не слышал её прежде. Возможно, я исполнил её первый… Но она так проста и мала. Она уместилась бы на четырёх строках… Да я и не смог бы записать её: не умею.
– Как же ты её придумал?
– Этот инструмент – бездонная сокровищница. Я не могу запомнить каждого звука, и каждый раз они для меня как впервые. Они сочетаются друг с другом. Их можно набрать в какой-то последовательности, и получается мелодия. Но для меня и три, и две, и даже одна частица его многоголосия – музыка… Звуки в природе: свист ветра, птичьих крыльев, хруст сухих листьев – часто монотонны. Мне доставляет удовольствие просто нажимать по очереди клавиши…
– Сыграй ещё что-нибудь.
– Что-нибудь другое? Нет. Только когда переменится погода… Хм… Крысёнок мечтал о золоте и каретах… И у меня была мечта… Ты слышал выражение рояль в кустах? Представь: лес, заросли, и в них притаился рояль; я сажусь и играю ним…
Люсьен грустно и зябко завернулся в тонкую ткань, забираясь в белое кресло и становясь в нём различимым лишь склонённой золотой головкой и левой кистью на невидимом белом плече, вздохнул:
– Ты мог бы не только рояль – ты орган из Ремйского собора вытащил бы и поставил в лесу… Если бы я был таким сильным и богатым, как ты!..
– Тебе давно пора считать мои богатство и силу – своими.
– Я даже не знаю, как тебя зовут…
– Я назвал тебе моё имя – моё настоящее имя.
– И что? Кому, кроме нас двоих и ещё твоей куклы, оно известно? Кому что оно скажет? Какой толк от настоящего имени – в мире лжи!? Сила – это положение в обществе! Как тебя зовут там???!..Ты спрашивал, чего я хочу! Так слушай: я хочу вернуться в свет и свести счёты со всеми, кто разрушил мою жизнь! И чтоб ты мне в этом помог!
– Ну, а потом что?
– Не важно! Хоть смерть!
– Достойные слова, и всё же… Ненависть, как и любовь, меняет наше отношение ко всем людям и предметам, но посвящена она кому-то одному. Тут слишком личное. Я был бы лишним… И уверен ли ты, что именно в свете живёт сердце твоего врага?
– Само собой!
– … Мне нужно время. Я попытаюсь побольше узнать о нём… Рано. Подремли ещё.
Под одеялом Люсьену стало хорошо и даже немного стыдно за свои капризы, поэтому он не уснул, а только притворился. Он слышал, как его покровитель, выходя из комнаты, перебросился словами со слугой:
– Письма есть?
– Нет, ваша светлость. Изволите одеваться?
– Да, и поскорее.
Голоса утихли, и Крысёнок выполз из пухово-атласной норки, подумал, чем же теперь заняться. Он взял оставленную на столе книгу, раскрыл, попробовал читать – и ничего не понял: текст был английский.
Направился к роялю, хотел поиграть, но длинные чёрные губы певучего чуда срослись.
Люсьен зашторил окна; уныло бродил из зала в зал и думал, что если бы здесь был Серый Жан, ему, зверёнышу, бы непременно захотелось попрыгать на кровати, понадрать из книжки бумаги и попревращать её в журавликов, понакричать дурацких грубостей… Но этот господин сейчас поехал в свет. Какой-нибудь изысканный фуршет, где сволочь всех мастей пьёт вина и ликёры, ест виноград и шоколад, мороженое, сливы, груши… Должно быть, он там встретит Растиньяка и скажет: «Бессердечная собака! мы тебя изловим и придушим!»…
Глава X. В которой говорят о любви
– А ты лично был знаком с каким-нибудь писателем или поэтом? – спрашивал Макс, подпиливая ногти.
– Если всякий, кто называет себя поэтом, – поэт, то, пожалуй, да.
– Расскажи.
– Не охота… Ну, ладно… Полукровка, мой земляк, почти ровесник – чуть помладше,… симпатичный, несколько слащавый – дамам мог бы нравится гораздо больше моего… Приехал с парой сочинений, поднялся от прессы, дорвался до света. Я вызвался ему немного посоветовать, оставил на ночь у себя. Мы провозились до утра за картами и разговорами. Потом, уже собравшись уходить, он вдруг спросил, не помню ли я, как около года назад в Большой Опере опорочил его перед всем обществом, чем растоптал его мечты, заставил променять талант на грязную газетную подёнщину… и в этом духе… Я и действительно не помнил, попросил подробностей, на кои он не поскупился, объявив в конце концов меня бездушным сплетником. Мы были с ним одни, дуэль меня не привлекала; я ответил: «Сплетня – это ложь, а я не лгал. Ваш отец – действительно аптекарь, мать – повитуха, сестра – прачка». Он обдал меня бранью, грохнул дверью на весь дом. Потом на людях говорил со мной сквозь зубы, сторонился, может быть, злословил за глаза. Потом куда-то сгинул… Вот и вся история.
– Ты не читал его стихов?
– Нет.
– …Часто ты… такой поборник истины?
– С того утра – да, часто! Первым делом я пошёл к д'Эспарам (маркиза – родственница дамы, на любви которой Люсьен думал делать карьеру. Эспарша, собственно и превратила мой оперный рассказ в повод турнуть парня из света), пришёл, уселся за столом и говорю им: «Знаете, моим родителям едва удаётся не умереть от голода; и мать, и тётушка, и сёстры летом и зимой стирают сами – голыми руками, истирая их до крови; отец рубит дрова, косит траву для скотины и вскапывает огород. Три года назад я сам целыми днями не выпускал из рук лопаты или топора, а ночами меня рвало от усталости…». Маркиза завизжала, забегала, как полоумная, по гостиной, не находя дверей, на третьем круге повалилась в обморок… Её вечно бледно-мрачный дверь задержал меня и рассказал, как им жилось в испанской эмиграции. Однажды единственная служанка испортила, утюжа, последнюю дамскую сорочку, а получив от хозяйки пощёчину, ударила её в живот горячим утюгом, прижгла им её руку, а тряпки выбросила в окно. После этого маркиза едва не сошла с ума и до их пор не может слышать про бельё, его стирку и глажку.
– Я мог бы рассказать, почему она не любит повитух, – флегматично промолвил Макс, рассматривая свои ногти, уподобленные тонким гладким пластинкам из лунного камня, – Как видишь, весь этот glamour, этот радужный глянец – только хрупкая плёнка на толще страшного опыта… Бытие не состоит из одной боли, но она есть, и её невозможно оправдать ни исторической закономерностью, ни юридической справедливостью, ни красотой, ни пользой… Лишь любовь,… но в ней – не оправдание. В ней – … анестезия…
Вряд ли он мог не произнести этого слова, глядя на свою левую ладонь.
Они замолчали на пару минут, думая о разном и многом, наконец Макс спросил:
– Ты со мной не согласен?
Эжен упёрся прямыми руками в край стола, по-стервятничьи изогнул шею.
– Ты знаешь, что говоришь, но говори за одного себя. Я видел, как любят. Нет. Тут само страдание… Хотя я не могу понять,… как – после всех кошмаров революции – они могут серьёзно относиться к таким пустякам, говорить о разбитых сердцах, называть гибелью срыв какой-то шашни!.. Взять хоть мою кузину Клару или её подругу де Ланже… Можно подумать, их положение – трагично!
– В том и дело, – медленно проговорил Макс, – Любовь – это пытка под наркозом, в эйфории, в упоении… Меня всегда завораживали повести о христианских мучениках, которые как будто не чувствовали, что их заживо жарят или режут; которые видели в своей участи – привилегию, то есть, в конечном счёте, получали удовольствие… и молили Бога за своих мучителей… Вот она – настоящая гармония.
– Только одна сторона по-настоящему заинтересована в том, чтоб это было так, – прокурорски отчеканил Эжен, – Другая же – предоставь ей выбор – предпочла бы любой наркоз обычной доброте.
– С чего ты взял, что у второй стороны есть выбор!?
– Есть он или нет,… но у кого рука поднимается, у того и голова падает. Это закон.
Макс скрылся за занавеской и оттуда заговорил:
– Человек, убивший моих родителей, был сыном, внуком и правнуком главного парижского палача. Его дед осиротел в восемь лет, но, поскольку должность наследуема, ему, ребёнку приходилось присутствовать на всех казнях, по мере сил помогая подручным. Думаешь, если бы в двадцать ему предложили заняться чем-то другим, он смог бы? – предстал одетым для визита в хорошее общество, – Я ухожу. Возможно, на целые сутки.
– Тогда скажи, где собираешься ночевать.
– Обойдёшься. Держи ключи. Деньги в «Левиафане» – трать хоть все.
И вот Эжен сидит один в комнате и думает, что нанёс новую обиду другому человеку…
Снова спасение ему принесла Полина. Она расспросила его о ночном шуме, о том, куда снова делся отец, а, узнав обо всём, предложила погулять по городу: ей надоело сидеть взаперти.
– Я бы с радостью, но Макс тут мне загадку загадал: деньги, говорит, в Левиафане. Что он имел в виду?
– Книгу.
На поиски бумажного тайника угробилось сорок минут, в ходе которых исчезли последние объедки. Затем понадобилась недюжинная находчивость, чтобы одеться достаточно тепло. Обнаружив таковую, Эжен, Полина и Жорж вышли на прогулку. Они провели на улицах всё светлое время, заглядывая в магазины, где обретали всё более цивилизованный вид, в кафе-кондитерские, где одни наслаждались марципаном, а другой – мармеладом, но главной целью Эжена была стекольная мастерская. Они нашли её в пятом часу, когда начало смеркаться. Поскольку адреса никто не знал, работнику пришлось последовать за компанией.
Как бы далеко и петлисто не уходил Эжен от своего пристанища, обратную дорогу он находил безошибочно. В лестницу он нёс усталых детей на обеих руках, а следом, кряхтя, подымался стекольщик.
По улицам уже протянулись янтарные бусы фонарей.
Глава ХI. В которой Макс одерживает победу
А Макс наведался к генералу де Монриво, наполеоновскому дезертиру. Мало кому известное имя того было Арман. Главным своим достоянием он считал коллекцию древнеегипетских артефактов. У ног Великого Сфинкса его жизнь загадочно перевернулась. Он с риском бросил службу, пропал в принильских песках на пять лет и вернулся на родину с караваном добычи, годной для исторического музея. В свете он появлялся исправно, но его костюмы всегда казались пародией на военные мундиры, а его малоподвижное, высоко сидящее смуглое лицо с гладким крутым подбородком, обвешанное прямыми чёрными волосами, и вовсе не сочеталось с парижскими декорациями. Он ходил под титулом маркиза, напоказ гордился воинским прошлым, не умел общаться с женщинами, да и с мужчинами был неласков. Предложение Макса провести время вместе его не слишком воодушевило. Впрочем, он не имел причин отказывать. Разве что репутация гостя его настораживала.
– Наверное, стоит установить логическую преемственность между нашими днём и ночью, – сказал генерал.
– Что ж, способов много.
– Для меня только один, и это не карты.
– Мне самому они осточертели, – усмехнулся Макс.
Через четверть часа маркиз и граф стояли друг против друга в самом большом и светлом зале особняка, оба босые и полураздетые, у каждого левую руку обтягивала до локтя железная перчатка, а в правая держала старинный эсток – помесь шпаги и лома, длинный, увесистый, грозный.
Со стороны и в начале Арман смотрелся лучше противника: он был крепче и смелей, но Макс оборонялся успешно. Жизнь в аскезе сделала его выносливым и ловким. Было у него и нечто непредусмотренное фехтовальным искусством, как его преподают: он предчувствовал каждое движение Армана – не интуитивно и приблизительно, а совершенно точно, и каждый новый выпад не парировал, а пресекал, сам не вполне понимая, что творится.
В Армане работала механика: мощность мышц, тяжесть оружия, сила инерции, сила ударов и их траектории, которые бойцовский гений в Максе мгновенно заранее рассчитывал без малейшей погрешности. С каждым столкновением оружий премудрый змий спинного мозга схватывал данные, за сотую секунды переваривал их и отправлял вовне команды безупречной тактики. Обеспамятший от азарта, Макс спускал противнику ошибку за ошибкой; он не мог вообразить, что схватка, длящаяся уже больше часа, прекратится. В его руки и ноги вплёскивалась без конца сладострастная ярость. Его железное щупалище металось, настигая и кусая близнеца, добывая новые глотки блаженной дрожи до костей.
Но вдруг Арман отшвырнул свой эсток.
У Макса потемнело в глазах, ликование опрокинулось, в спине заныло болью голода.
– Чего вам надо!? Видеть, как я упаду!!? – прокричал генерал, задыхаясь.
Веки Макса поникли. Он вытянул руки вверх и вперёд и последнюю искру своего счастья бросил, с размаху всадив клинок в паркет. Потом с трёх попыток взглянул на противника.
– Я вот что понял! – продолжал военный, – Сохранить своё достоинство труднее победителю! Видели бы вы себя сейчас! Вы отвратительны!
– Ещё нет, – ответил Макс, стаскивая перчатку-щит.
Арман отдышался, задумался и переменил тон:
– Вы удивляете меня, Максим. Я считал вас человеком… рациональным… Победа ваша, но иначе как пирровой её не назовёшь. Солнце ещё не село, а мы оба уже ни на что не годимся.
– Солнце ещё не село, – недобрым эхом повтори Макс, – Вы мне должны, и в карты не отыграетесь.
Де Монриво досадовал. Он был старше и годами и титулом, да и честь солдата не позволяла уступать, но, коль скоро сил на её защиту не хватило, пришлось дипломатничать:
– Не будем спешить, – миролюбиво произнёс он, обнимая Макса за плечи и уводя его из злополучного зала, – Сейчас самая пора обедать. Нам, конечно, надо умыться и переодеться. Для этого всё готово.
Обедали, сидя или полулёжа на полу, как древние римляне, в просторных белых льнах.
– Я позволил себе пару резкостей. Сожалею, – говорил хозяин дома, – Вы всегда были мне более чем симпатичны. У нас с вами есть что-то общее, чего нет у других.
Макс молча резал и поедал жаркое из печени в баклажане. Правая рука уже подала в отставку и дорабатывала последний час. На ум приходили дети – сыты ли они?…
– А давайте сейчас (или немного погодя) нагрянем к милашке де Рольбон! К ней последнее время зачастил де Марсе. Уверен: они оба будут нам рады.
– Давайте сейчас расстанемся, а дня через три…
– Я подыщу вам кого-нибудь более подходящего…
– Не надейтесь.
Глава XII. В которой Эжен проявляет фантазию, но не привязанность к семье
Проводив стекольщика, Эжен расположился с малышами на кровати – они взяли с него слово, что он переночует здесь с ними. Он согласился и перед сном рассказал им сказку:
Некой бедной девочке подарили красную шапку, и вскоре все вокруг забыли имя этой малютки, а звать её стали Красной Шапочкой. Однажды мать отправила её с гостинцами в соседнюю деревню – к бабушке, а дорога лежала через лес, где жил волк. Он сразу заметил девочку и бросился на неё, но вдруг остановился, словно в ужасе, припал к земле – вот так – и сказал: «Я не имею чести быть знакомым с вами, мадемуазель, но готов служить вам провожатым». Она ответила, что не заблудится. Он спросил, куда она идёт; она сказала: к бабушке. «Откуда у вас этот головной убор?» – спросил волк. «Мама подарила. Всем нравится. А вам?». Волк поднялся, оскалил зубы: «Судите сами, может ли он нравится мне, если люди в таких вот шапках убили всю мою семью! А я ведь сам родился человеком. Это горе превратило меня в зверя. Я ненавижу тебя с твоей шапкой. От неё и от тебя словно пахнет теми руками, что задушили мою сестру! Тебя я не хочу губить: ты слаба и невинна, но ты сейчас же отведёшь меня к бабке твоей или к матери, чтоб я съел ту или другую, а откажешься – поплатишься сама!».
Красная Шапочка сорвалась с места и побежала, а волк погнался за ней. Она стала бросать позади себя пирожки – они превратились в острые камни, и волк поранил ноги, но не остановился. Тогда Шапочка выхватила из корзинки горшок масла и метнула его за спину. Масло растеклось по земле, она стала вязкой, превратилась в болото, и волку пришлось обходить его, но он всё равно снова настиг беглянку. Наконец она бросила корзинку, и там, где та упала, земля провалилась, получилась глубокая-преглубокая яма, а волк…
Тут застучались во входную дверь.
– Это он, – в отчаянии пробормотал Жорж.
– А ты притворись, что уже спишь, – посоветовал ему Эжен, – Мы с Полиной его встретим, а до тебя он не доберётся.
Макс казался сильно пьяным – в глазах у него был тёмный туман.
– Вот, – сказал он, однако, неизменившимся голосом, – уложился в полдня, – вытряхнул из кармана новые деньги, объявил, – Пять тысяч! А в придачу – обед, свежее бельё, купание, интимный массаж… Недурно, правда?
– Где же такое бывает? – усмехнулся Эжен.
Полина смотрела в недоумении: она привыкла видеть отца строгим и собранным…
– Где, по-твоему, я мог раздобыть вот это? – Макс показал крошечную фигурку сидящей кошки, выточенную из тёплого, полупрозрачного камня.
– … Затрудняюсь…
– А ведь считал себя знатоком света, м?… Полина, это тебе.
Взяла статуэтку, повертела в руках, вздохнула, вместо «спасибо» проронила «доброй ночи» и ушла к себе.
Макс лунатично расхаживал по комнате, снимая с себя одежду.
– Ты не задаром получил то, чем кичишься: правая рука у тебя изрядно перетружена, а левая… ((Левая от кисти до локтя распухла и полиловела из-за отбитых ударов)).
– О! Я и ног под собой не чувствую, и спина одеревенела, и вообще я не знаю, что у меня не болит… Ты хороший фехтовальщик?
– Не выяснял.
– А я, как оказалось, лучший в Париже.
– У тебя был поединок?… Эй! Оставь на себе хоть что-нибудь!
– Мне жарко. А тебе полезно посмотреть, как это делается.
Раздевшись донага, Макс лёг и уставился в потолок тусклым взглядом…
– Мы снова застеклили окно, – сообщил ему Эжен, до того несмущённо, что Макса передёрнуло; ему захотелось укрыться, словно зашёл ребёнок. Он поднялся, нашёл халат…
– Когда мы утром искали деньги, я случайно раскрыл «Монахиню» Дидро…
((Раскрыв «Монахиню», Эжен не нашёл текста – он весь был вырезан. Книгу превратили в шкатулку, а хранились в ней какие-то письма. Надписи на конвертах расплылись от давней сырости, но Эжен узнал почерк матери и своё имя в позиции адресата)).
– Зачем? На обложке же чёткое заглавие.
– Она показалась мне неестественно лёгкой… Ты ведь и сам собирался показать их мне?
– Ничего подобного.
– … А как они к тебе попали?
– Ими был набит почтовый ящик пансиона Воке, в который я заходил дней десять назад. Там, кажется, никто не живёт, но ни объявлений о продаже…
– Так вот откуда ты узнал о моей семье.
– Ты прочёл их?
– Я их сжёг.
– Не прочитав?
– Да.
Уже не в первый раз, гладя на побратима, Макс думал, каким мог быть в свои двадцать пять Гобсек.