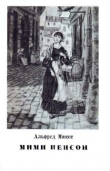Текст книги "Происхождение боли (СИ)"
Автор книги: Ольга Февралева
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 38 страниц)
Глава СХIII. Возвращение ножа
Теперь не только Дельфина могла прислать Эжену билет в Итальянскую Оперу.
Собираясь, он взял с собой нож Франкессини.
Наверное, на следующий день три дюжины господ обратились к докторам, подозревая у себя вывих шеи – так все в фойе и на лестницах, и в галереях театра глазели на молодого человека со свежим шрамом на подбородке. Некоторые даже спотыкались… У самой двери в ложу госпожи де Нусинген Эжена нагнал управляющий, перепроверил билет и спросил паспорт. Эжен ответил, что недавно подвергся разбойному нападению, и документы похищены. Потом ему пришлось объясняться с Дельфиной. На ум взбрело сказать, что он дрался на дуэли. С кем? – С д'Ажудой-Пинто, разглашавшим подробности своего романа с госпожой де Босеан. Баронесса взмолилась, чтоб любимый был осторожней и миролюбивей.
– Спасибо за билет, – сказал ей Эжен.
– Какой?
– Сюда.
– Но я его тебе не покупала.
– Хм. А я подумал…
– А я-то решила, что ты наконец что-то сделал по своей воле и на свои деньги! – Дельфина надулась, хлопком о ладонь сложила веер, помолчала минуту и продолжила ещё сердитей, – Теперь ты сочтёшь меня злюкой и ускачешь вон хоть к Карильянше!?
– Бог с тобой, милая, – кротко ответил Эжен, медленно, напряжённо, скрытно оглядывая зал по спирали: этажи лож, партер, снова ложи, – Ты добрее, чем заслуживает такой вертопрах, как я, но мне всё же придётся отойти, ведь если не ты, то кто-то другой назначил мне здесь встречу – надо разобраться.
Он встал вплотную к борту, воткнул в белый мрамор нож и синхронно движению своего взгляда поворачивал зеркало кривого клинка. Это был маяк, отражающий свет люстры. Теперь Эжен заманивал сам. Его не отвлекало пение и пёстрое хождение на сцене… Но вот в одной из лож того же яруса кто-то быстро выскользнул за дверь. «Я скоро вернусь». Отстав на четверть секунды, Эжен вышел навстречу по гулкому, тусклому полузакольцованному коридору. Впереди светился буфет – клумба крошечных белых столиков и стульев с ажурными спинками в абсиде над лестницей. К крайнему, ближнему для Эжена месту как раз подходил его преследователь. Оба остановились. Серый Жан, не сводя глаз с противника, сел. Эжен безмолвно присоседился. Положение было коварно выгодно для обзора: каждый видел всё за спиной у другого. Дождались, когда мальчик-прислужник поставит на стол фарфоровую лампу, спросит, что желают господа, и удалится без заказа, но с крупной графской чаевой монетой…
– Никогда не думал, что оружие может быть слабым местом, – промолвил Эжен, тихо выкладывая на стол нож, прикрывая его ладонью; глаза англичанина наполняли влажные блики, его губы ещё не зажили – Это чей-то подарок?
– Трофей… от поражения…
– Я пришёл, чтоб вернуть его… Я не хотел оскорблять его и вас – просто защищался, как мог… Но прежде, чем вы его получите,… поклянитесь, что не будете больше пытаться убить или ранить меня, – Эжен поднял нож остриём вниз, чуть протянул собеседнику.
– Сначала вы.
– Я клянусь, – без колебаний сказал Эжен и поцеловал то место, где стальное полотно входило в перламутровую рукоятку. Тотчас враг схватил его за руку и приник губами с другой стороны ножа. Эжен отпрянул. Он не сразу понял, что делает Франкессини, только почувствовал, как мгновенно накалилась сталь… Нож остался у графа.
– И я клянусь, – в голосе маньяка уркнула сытость, но покой не задержался в нём, – … Он больше не складывается!
– Должно быть, пуля повредила…
– Если это знак, то знак недобрый.
– Верность клятве ни меня, ни вас не сделает бессмертным.
– … Вам интересен его прежний владелец?
– Да, пожалуй.
– Он мог бы умереть так, как хотите вы – чтоб спасти этим много жизней. Я написал ему, что, если он не явится ко мне и не позволит с ним покончить, то я буду убивать самых красивых, молодых и одарённых людей на своём пути – всех, каких встречу, в утешение себе, если угодно… Или в его честь… Два года прошло. Погибло двадцать человек или больше…
Эжен почувствовал немоту в коленях; он только теперь понял, кто перед ним.
– Вы уверены, что письмо дошло?
– Конечно. Но свою жизнь он ценит выше остальных. Ваша мечта для него – ничто.
– Я думаю, – в Эжене забилась злоба, – он не пришёл к вам, просто зная, что всё равно не остановит вас. Вы продолжите убивать, потому что вам это нравится. А он, живя, хоть отомстит за тех несчастных: вы не получите, чего хотите, и будете маяться этим без конца!
В светлеющих зелёных глазах дрожали зрачки, но англичанин владел собой лучше француза:
– Вы заметно продвинулись в теории мести. Может, разгадали вы и душу далёкого вам человека, но я в последний раз говорю и думаю о нём; он больше мне не нужен.
– Вижу, предательство – вторая ваша страсть! Если не первая.
– Самый непостижимый для меня упрёк. В ответ скажу то, что, по всей видимости, непонятно вам: я любил его – так, что не пережил бы на пять минут, и это он должен был знать…
– Но так зачем вам понадобилась его смерть!?
– Я же говорил, что вы не поймёте.
– … Расскажите о нём ещё. Что в нём особенного?
– Трудно сказать что-то определённое о том, кто ещё жив. Мы не так уж часто встречались… Пожалуй, лучше всего я изучил его страхи. Он боится быть смешным и отвергнутым;
заболеть, подурнеть и остаться без денег;
забыть, что было вчера, и чем начался сегодняшний день;
попасть в плен;
боится бессонницы и снов;
чёрного цвета;
среды и воскресения;
новых людей и мест;
толпы и одиночества;
женщин;
дельфинов;
сверчков и кузнечиков;
священников;
числа 13;
литературных критиков;
зрителей в театре;
зубных и прочих врачей;
смерти любимых, особенно детей (у него три дочери);
Бога в том смысле, каковой описал известный публицист Блонде в статье «Теофобия»;
темноты и тишины;
яркого света;
любви;
холода… И при этом никто не назвал бы его трусом… А вы чего-нибудь боитесь?
– Греха и бесчестия.
– Ну, тогда я за вас спокоен, – ядовито усмехнулся граф.
– Сам не дёргаюсь.
– … А как вам понравится, если теперь я буду убивать вам во славу?
Эжен почувствовал, как мокнут спина, подмышки, лоб; в горле словно застрял комок шерсти…
– Зачем!? Я же от вас не прячусь, – возразил тревожно и бессильно, но, видно, собеседнику хотелось лишь сбить с него немного спеси:
– Да, действительно… Потом лишать вас жизни сейчас так же странно, как срезать розу, чей бутон зелен и меньше шиповничной ягоды, – теперь он говорил почти нежно.
– Может, всё-таки объясните, зачем вам нужно убивать меня или того, у кого забрали кинжал? Есть же в этом какой-то смысл!
– … Вы знаете, что такое…?
– Нет.
– Постойте, я забыл слово… Какое-то географическое название…
– … Скоро антракт. Давайте разойдёмся. Когда вспомните, найдёте меня запросто.
– Подождём. Не искушайте.
Эжен вообразил, как незапамятный нож слёта вонзается ему под левую лопатку.
– Ладно.
Замолчали. Франкессини был так печален, что эженов гнев осыпался. Да, маньяк опаснее обычного преступника: для него вся жизнь в его злодеяниях – но и жалости он достоин больше других: ему нет никакой корысти, он не выбирал себе такой путь… Порой он кажется благородным человеком; вот сейчас – пытается защитить жизнь, на которую сам же посягает…
– … Не вспомнили ваше слово?
– Нет… Это не проблема. Я нашёл его в одной книге – и снова найду.
– … Рассказать вам какой-нибудь сон?
– Сон? – удивился граф.
– Ну, не хаить же нам свет…
– Извините, я просто не ожидал… С удовольствием послушаю.
– Вообразите: красиво разрушенный город, затопленный быстрыми, скачущими по камням потоками; дома превращены в фонтаны: из каждого окна стеклянной лентой свисает вода; она оглаживает купола и колокольни храмов, где-то холодная, а где-то горячая (над ней клубится пар); где-то сыпет частый дождь – а сделаешь шаг в сторону, и его уже нет; между стенами, на площадях-озёрах нависают большие и меленькие мосты и арки радуг. Где вода потише, плещутся большие рыбы; стаями летают птицы; крыши поросли камышом…
Тут коридоры зашумели, словно по ним тоже хлынула с обеих сторон вода. Франкессини без предупреждения встал, перешёл за отдалённый столик, жестом позвал мальчика… Тут Эжен потерял его из виду: буфет затолпили.
Дельфина не дожидалась своего кавалера в ложе, не стала досматривать спектакль. До кареты её проводил Каналис, вечно озабоченный маскировкой своей любви к особе, чьё имя было нетрудно вычислить вычитанием из суммы парижских дам всех, за кем он публично ухаживал.
«Обезноженный», – сказал себе Эжен. Он действительно чувствовал слабость, беззащитность, неполноценность – и не находил другой причины, кроме разлуки с кинжалом. «Почему я всегда с пустыми руками! Даже трость не могу не забыть!». Но он знал и оправдание: «Бояться, – говорил Видок, – надо не столько чужого, сколько своего оружия. Чужое может вас ранить или убить, а собственное непременно будет обольщать и развращать, порабощать вас, как хитрая блудница… Вы знаете законы, и преступник – знает; а оно – нет.
Глава СХIV. Анна и Анастази
Анна больше не спешила. Её пояс в кромешной темноте проглядывал серыми жилками и синими пятнами, как лабрадорский камень, а пряжка тускло, но ровно золотилась. Джек использовал навигационную планшетку как фонарь, поправляя снасти, и бормотал:
– Ничего-ничего, мы уже близко.
– Ты это повторяешь вторые сутки.
– И правильно делаю. Это у вас там: чем дольше звучит – тем бессмысленней и лживей, а здесь пребывает правда, и сейчас я честнее, чем час назад… Да вон, уже виднеется.
Нос лодки чёрным клином врезался в тёмно-лазурный столб с горизонта. Анна с наслаждением вгляделась в этот сильнеющий свет, но и сердце её духа забилось тревожно:
– Это уже оно?
– Ага! Моё любимое место, и самое дальнее, куда я добирался: атолл Возвращения, – пощёлкал по краям планшетки, – справа от нас в четверти мили что-то вроде шхуны, – поискал в подзорной трубе, – Ага, вот она. Ничего, не врежемся. Но нужно быть внимательней: сюда идёт большинство судов, и это при том, что тут даже порта нет. Своих красных ты тут точно не встретишь, вместо них здесь работают святые угодники. Надо будет там спросить, как нам плыть дальше.
Анна вздохнула: это ещё не последний причал…
Действительно, ничего похожего на рукотворную пристань, но естественная показалась куда удобней: весь берег походил на обод неоглядного зубчатого колеса, в пазы которого очень удобно было войти и тяжёлому грузовому кораблю, и лёгкому ботику; главное – найти свободное место. Что двигало лодку, Анна не понимала: стоял такой штиль, что ни один из сотен тысяч парусов, ни одна из миллиона цепей не могли ни шелохнуться, ни звякнуть. Людей вовсе не видно. Слышалось только торопливое цоканье козлоногих, снующих туда-сюда по палубам. Выбравшись на сушу, Анна на первом же шагу упала: так её ноги отвыкли от движения. Берег был сплошь покрыт мягкими и гладкими наростами, вроде древесных грибов, только совершенно округлых, наполовину сплюснутых, примерно одинаковых по размеру и чистых своей белизной. Они плотно держались друг за друга, так что путешественница не смогла взять один, что рассмотреть со всех сторон.
Джек оставил сапоги в лодке, засучил штанины и на цыпочках прошёл мимо пассажирки, оглянулся: «Ну, идём что ли!». Анна поднялась.
От чёрного океана до голубой лагуны не более ста шагов. Суша однообразна, но не безжизненная. Прямо перед анниной ногой за полминуты вырос новый гриб. Она не стала на него наступать…
Светлые люди носили от кораблей ко внутреннему водоёму мохнатые зелёные шары-корзинки – Анна видела такие в Идене – и возвращались с пустыми руками. Очевидно, сосуды с заключёнными в них младенцами, готовыми к новой жизни на земле, опускают в нежно сияющую небесную влагу, чтоб со временем оттуда взлетела и унеслась вверх монада – дух духа. Бессчетный рой живых звёзд, золотой снег, идущий наоборот, в далёкую огромную синюю тучу, всю в переливах розовых зарниц, – он и был столбом света, видным с горизонта. «Всё это новые люди, – думала Анна, вновь присев, – Совсем недавно моя Ада была здесь».
– Джек, ты не знаешь, в какой момент любая из этих искр достигает того мира? в самый миг зачатия? или когда ребёнок рождается? или когда он впервые шевелится в утробе? или с первым ударом его сердца?
– Это ты, мать, лучше нас должна знать.
«Наверное, последняя догадка верней других: механизм автономной жизни запускается энергией монады…».
– … Куда мы идём? Почему ты не спросишь любого встречного?
– Любого – нельзя. Надо найти кого-то одного. Видишь, там что-то светится.
– Да тут всё светится! Я едва могу раскрыть глаза!..
Джек взял спутницу за руку и потащил за собой. Не то что бы вскоре, но в конце концов они подошли к женщине, сидящей у голубого берега. Её окружало такое зарево, что трудно было понять, одета она или нага, темы или русы её волосы, длинны ли они, коротки ли, или их вовсе нет; на голове её была видна лишь корона из пяти лучей. Джек опустился на колени перед ней, но не раболепно, а так, как садятся китайцы в гостях у родителей, и заговорил:
– Госпожа, я – безумный моряк и грешник, а это – живая паломница, обманщица и изменница, которая ищет дорогу к Пресвятой Богородице. Не поможешь ли своему жалкому подобию?
Лучезарная казалась растерянной, а Анна успела вознегодовать:
– А почему ты сидишь, когда другие работают?
– Я не знаю, что мне делать, – ответила, – И сил у меня мало от потери крови. Простите, вряд ли я смогу вам помочь. Я нигде не бываю тут, кроме этого места, и только изредка… Я тоже ещё жива…
– Но ты ведь не вампир?
– Нет, Боже сохрани!
– Как же ты здесь очутилась?
– … Мой друг ушёл купить газет и еды, а когда его нет рядом, земля невыносима…
Анна увидела слёзное умиление на лице зеленоглазого хама и рассвирепела:
– А что, если бы твой друг стал твоим мужем?…
– Мы к этому готовимся…
– И, став им, он отвёл тебе спальню в самом далёком углу дома и являлся туда в третьем часу ночи, в грязных сапогах, в сопровождении собак и пьяный в стельку? Впрочем, пить он начинал бы ещё с утра, в ответ на твои протесты посылая тебя к чёрту. Что, если бы ты, желая сказать ему два слова, попросить, спросить о чём-нибудь, с порога слышала: «Уходите, вы мне не нужны». Что, если бы он в присутствие гостей со злорадством рассказал тебе, как, ходя в женихах, спал с твоей замужней сестрой, кружил головы модницам, озолачивал проституток и любил кого угодно, даже мужчин, только не тебя!?…
– Да прекрати же! – взвыл Джек, но было поздно: свет вокруг женщины превратился в чёрные огонь, в котором она сгорала с отчаянным криком, проваливаясь сквозь камни. Всё закончилось быстро, последний клок черноты взвился и растаял, а на месте кошмара прозияла дыра, в которой колыхались страшные воспоминания, выдувая тяжёлые пузыри. Анне показалось, что вся кожа её духа покрылась льдом. Она никак не ожидала такого разрушения, но теперь вспомнила, кто она, – дух зла.
«Ведьма!! – заорал Джек, хватая её за волосы и вскидывая на плечо, – Я отправлю тебя, куда надо!» – и побежал, гнясь под ношей, к морю. Анна не пыталась вырываться, согласная на последнюю смерть, уже словно чувствуя внутри себя всё зло земли. Но сумасшедший капитан пал замертво в пяти шагах от океана: Дух Правды не позволил Джеку стать убийцей.
Анна встала, подумала, не прыгнуть ли самой;… вспомнила и сняла с шеи пробирку с кровью и семечком, надела на шею своему нечастному спутнику;… подумала ещё и побрела искать лодку. Из под её огрузневших ног жемчужная галька тихо взрывалась пеплом, как созревшие грибы-дождевики. Нашла, забралась, выбросила на берег навигационный прибор, от борта отцепила якорь, оттолкнулась веслом и его метнула, как копьё, – оно вонзилось в берег. Села ближе к носу, отвернулась, чтоб не видеть больше никакого света и наедине со слезами, никого не мучая, не утруждая, не губя, дождаться своего конца.
Глава СХV. Ссора
Вопли Нази Макс услышал уже на четвёртом затаже, на пятом он потерял сумку и трость, на шестом – проклял себя и слесаря за отремонтированный замок, в прихожей – садонулся плечом о вешалку, в спальне – не понял, что происходит с подругой, быстро извлёк из её промежности витую свечу, не знавшую огня, принялся выпутывать ноги из самодельных верёвок. Освободившимися руками Нази тут же впилась ему в голову, коленями – опрокинула на пол, ударила затылком о крашеную доску.
В этот миг в квартиру вбежали соседи, вооружённые кочергами, скалками и сковородками – три женщины и один мужчина. Заметив их, Нази ослабила хватку, а Макс двенадцатый раз спросил себя, не может ли всё это быть сном.
Вторженцы тоже замешались ввиду совсем неожиданной сцены.
– Кажется, милочка, вы сами справляетесь, – сказала наконец их предводительница и развернула свой отряд к выходу.
– Но в полицию мы всё-таки напишем, – заявил уже с порога сосед.
Нази перенесла ладони к лицу, низко согнулась и заплакала сквозь смех, соскальзывая на максов живот.
– Прости меня, – молвил Макс.
– Конечно! Это ты можешь повторять до бесконечности!.. Я знаю, зачем я тебе! потому что больше никто, ни одна, даже самая прожжёная шлюха, ни за какие деньги не потерпит твоих издевательств! И я ещё должна идти с тобой в церковь!? Да я раньше сдохну!.. Детей у меня отнял!.. Книжек не даёт, голодом морит! И прости!..
– Поль де Манервиль узнал, в каком пансионе содержится твой Эрнест. Это в шести часах езды от Парижа. Дилижанс отправляется в одиннадцать, в половине первого и в три.
– Манервиль?… Почему он?
– Случайно подвернулся позавчера на улице. Долго он копался, но зато хоть какой-то просвет – в его бесполезной жизни. Почти уверен, что ему было интересно.
– Он запомнит?
– Нет, зачем…
– … Я никуда сейчас не хочу. А Эрнест – как я посмотрю ему в глаза!..
– На первый раз можно просто обследовать заведение, познакомиться с начальством и оставить ему кое-какие распоряжения.
– Это по твоей части.
– Отныне я всюду буду брать тебя с собой.
– Я тебе не палка и не чемодан.
– Скорей уж я тебе: ведь мне придётся нести вещи и защищать нас при случае.
– Лучше вспомни, что соседи собрались жаловаться на нас полиции… Интересно, нас просто выкинут на улицу, или сначала заберут в участок.
Под это любопытствование Нази перебралась на кровать, что позволило Максу подняться, снять уличный плащ, отряхнуть его, повесить на бамбуковые плечики и убрать в платяной шкаф, невозмутимо рассуждая:
– Если нас и потревожат так называемые стражи порядка, то не сегодня: не успеется. Выгнать отсюда нас можно только через суд, поскольку я собственник жилья. С нас могут попытаться взять штраф за какое-нибудь нарушение общественного спокойствия. Что ж, пусть приходят, и чем больше их будет, тем веселей.
– Прекрати.
– Ну, ладно. Я собирался только завтра сообщить тебе об этом… Помнишь аптеку, которую ты видела из окон отцовского дома, куда ходила за лекарствами для матери? Сегодня её хозяин, господин Трюфо-младший, переносит свой business куда-то к Булонскому лесу…
– Ты хоть сколько-нибудь ему заплатил?
– Я купил ему трёхкомнатную квартиру на первом этаже и заранее оплатил переезд: носильщиков, транспорт… Что с тобой?
– … Там была женщина в сером платье и с белым глазом. Она сказала, что в браке любовь невозможна… Многие думают, что именно у них всё будет иначе, но у всех повторяется одно и то же: ссоры, обиды, усталость друг от друга…
– Не нужно видеть в браке собственное и чужое перерождение, коренное переустройство жизни. Это формальность, вроде фасона шляпы или цвета перчаток. Будь я шалопаем, как Эмиль, я бы и не предложил тебе обвенчаться, но ведь у нас ещё двое детей, их фамилия не должна вызывать сомнений. В качестве замужней дамы ты сможешь вернуть себе право опеки над Эрнестом. Я не думаю, что стану ему плохим отчимом…
– А новых детей у нас не будет?
– … Я бы не хотел.
– … Ты что-нибудь принёс на завтрак?
– … Да, но… рассорил на лестнице. Искать уже нет смысла.
– Это невыносимо, – снова слёзы, – … Переедем – я сама буду ходить на рынок. А ты – готовить.
Так они помирились, долго простояли обнявшись, потом собрались и пошли в ресторан.
Вернувшись, Макс убрал всё со стола в гостиной, устелил его вдвое сложенной диванной попоной, оторвал рукав от лучшей из трёх своих рубашек, вымочил его в смеси вина и мёда, и Нази сама затолкала сладкий шёлковый ком себе в рот…
Глава СХVI. Люксембургский сад
Даниэль получил от Фино семьсот франков, и ему было стыдно со всех сторон: он разбогател (в глазах своего вечноголодного содружества), опубликовав чужой болезненный вымысел у издателя с самой дурной репутацией. Теперь его главным желанием стало скорейшее избавление от этих денег. Под конец дня собрания, проводив всех друзей, писатель задержал Ораса под предлогом своей больной спины, но, едва на лестнице смолк топот, признался во всём и спросил, кому бы отнести злополучный гонорар, чтобы деньги точно пошли на доброе, полезное, а лучше всего жизнеспасительное дело, и Орас, от которого ждали фразы типа дай их мне, ответил, чуть заминаясь:
– Есть у меня один знакомый… Странный тип. Он на свои средства содержит бесплатный приют для бездомных…
– Ты мог бы устроить мне с ним встречу – но только так, чтоб она выглядела случайной?
– Как это?
– Подскажи, где я мог бы его найти.
– Давай я лучше передам ему, что анонимный доброхот собирается пожертвовать ему неплохую сумму, если он придёт – …?
– … Завтра… ровно в полдень к главным воротам Люксембургского сада.
– Договорились.
– Как я его узнаю?
– Он высокий, худощавый,… ещё не старый; волосы чёрные, лицо бледное, узкое…; на подбородке – вертикальный шрам.
– А имя его ты мне назовёшь?
– … Все зовут его просто Эжен.
День свидания выдался такой, что деревья плакали от счастья, а воробьи и синицы, весенне щебеча, плескались в голубых и сияющих лужах. Но Даниэль пришёл к своему излюбленному парку в тягостном смущении, досадуя, что пришлось оторваться от интересной книги.
– А вот и полдень, – весело сообщил ему вдруг кто-то, стоящий шагах в пяти.
Писатель увидел человека, не просто подпадающего под бьяншоново описание, а перекрикивающего его своим видом: вместо нестарого, он казался очень молодым, а шрам был настолько свеж и бросок, что Орасу следовало бы назвать его раной или сказать о недавно рассечённом надвое подбородке.
– Да, наверное, – пробормотал Даниэль, не имеющий часов.
– Вы ждёте кого-то? – Не меня?
– Вас зовут Эжен?
– Ну, да.
«Какими же словами рисовал ему Орас мой портрет: жидкие тонкие волосы магнитятся к долговязому лбу, длинный нос на квадратном лице, тонкие губы, карие глаза навыкате?…»
– И вы пришли на встречу с неизвестным благотворителем?
– Вроде того.
Даниэлю пора была уже узнать своего ночного трагика, но улыбка совершенно изменила голос и лицо Эжена, да и солнце наложило свою маску.
– Я ещё ничего не решил, – загрубил впервые в жизни.
– И не решите, пока у вас голова занята не-пойми-чем.
– Что вы, сударь, обо мне знаете?
– Вы книжник, и, думаю, сейчас, ваши мозги пережевывают ворох каких-то цитат.
– Не каких-то… Из «Лаокоона» Лессинга…
– Там про что?
– Это трактат об искусстве.
– И что же искусство? – участливо, но беззаботно спросил Эжен; его вопрос показался писателю наивным до невнятности, дикарским; в то же время подворачивался долгожданный случай поговорит о творчестве – вообще и своём.
– Искусство,… в моём понимании, – сгусток природы, – начал он, подходя к собеседнику.
– Смотрите, – перебил тот и указал на голубей, гуляющих меж луж, – вон сгустки природы, да и то разбавленные городскими отбросами.
– Я разумею природу не как материю, а как принцип.
– Значит, сгусток принципа?…
– Вы, как отъявленный софист, коверкаете мои слова и доводите до абсурда ещё не выраженные мысли!
– Никакого абсурда. Сгусток принципа – это фанатизм.
– Но принцип природы… Я хотел сказать… Понимаете ли, фанатизм субъективен и… Я говорил о законе природы, который есть закон тотальной креативности, а искусство – это высшая форма созидания, концентрированное отображение миропорядка.
– Хорошо, если так, – доверчиво молвил Эжен.
Они вступили на парковую дорогу.
– Но в этом представлении чего-то не хватает, и знаете чего? – того, о чём упомянули вы… Живописец часами, днями бьётся над одним оттенком, его зрительная мысль полна им, но ей сопротивляются какие-то жалкие порошки и пасты, непоколебимые в своей монохромности. Я… Литература… Моя материя – язык. Могу ли я, вмещая в творческом сознании целый мир, огромный, динамичный, удивительно многообразный, воплотить его в слове!?… Не знаю… Вчера вечером я один шёл среди этих деревьев, и вдруг над моей головой, прямо над её мозговой межой пролетела какая-то птица, низко-низко. Я пытался подобрать глагол к шуму её крыльев, перебрал все звуковые предикаты, но ни одни даже приблизительно не передавал того, что слышало моё ухо…
– Ничего странного, ведь все птицы летают по-разному: грач вторит крыльями гулу тёплого слабого ветра в сосновой кроне; плеск воробьиных напомнит всхрапывание новорожденного ослёнка; голубиные смеются старушечьи-елейно; сова летит, как клочок погрозового облака; лёт сокола поевуч, как лёт стрелы; когда срываются в небо врановая стая, слышен рукохлоп мужчин на стадионе; голубиные стаи рукоплещут мягче, как женщины в театре; свиристели – так смешно! – летят вблизи, как нетопыри с бубенцами, и таким большим, тесным роем, что издали их можно принять за пчёл…
– Признайтесь! – вы тоже пишете?
– Зачем? Говорить гораздо проще и быстрей.
– Но у вас талант!
– Просто, если бы я читал вашу повесть, с меня было бы достаточно фразы пролетела сорока или галка. Мир не надо воплощать: это уже давно сделал Господь Всевышний. Нам остаётся лишь рассказывать друг другу о чём-то интересном, хоть письменно, хоть устно…
– Ах! (– Даниэль подумал, что едва ли отличит галку от сороки – )… Значит, вы считаете описания – лишними в литературе?
– Да нет, это ещё терпимо, а вот умствования…
– В смысле, рассуждения?
– Судите сами, как называется вот это: политик отличается от врача тем-то и тем-то; торговец, как и полководец – то-то и то-то; имярек, как всякий пекарь, мечтает о том-то и боится того-то; или вот: госпожа такая-то была женщина. Ей-Богу – так и написано! Чёрт возьми, неужели кто-то бы не догадался!? Бедные наши сёстры! Им писатели залезли в самую печёнку: женщина героична, когда…
женщина не простит одного и стерпит другое
женщина видит и слышит по-особому
женщина нуждается в том-то и том-то, и том-то
женщина беспощадна, если…
женщина уступает лишь в том случае…
женщина любит при условии…
женщина прекрасна благодаря тому, что…
женщина набожна до тех пор, пока…
женщина страдает из-за того что…
женщине дорого то…
женщина всегда…
женщина никогда…
и ещё сорок раз женщина!.. В одной очень старой книге я наткнулся на такую историю: Принесла Монгфинд брату чащу с ядом.
«Не притронусь я к ней, – сказал тут Кримтан, —
если не выпьешь ты первой».
Отпила из той чаши Монгфинд,
а за ней отпил Кримтан.
И случилось так, что испустила Монгфинд дух
в ночь под Самайн. … А почему она так люто возненавидела брата, что убила его ценой собственной жизни, я так и не узнал, и эти скудные слова теперь буду помнить всю жизнь, мучась ими,… как вы – шумом птичьих крыльев.
– Если вас не устраивает современная литература, – саркастически отвечал Даниэль (ему как раз особенно нравились романные рассуждения о женщинах), – покажите же нам всем, как надо писать. На этом поприще можно стяжать славу равную славе великих героев, мудрецов, стать властителем умов!..
– Хороший ум – сам себе властитель, а властвовать над дураками не ахти-какая почесть.
– Позвольте наконец ближе к делу! Какое применение вы нашли бы внезапно обретённым… шестистам франкам?
– Запасся бы дровами до лета, купил пару новых рубашек, тёплую обувь, писчей бумаги пачек пять, сотню восковых свечек, и у меня бы ещё осталось немного на пирушку для друзей.
– Знаете, у меня есть эти деньги, и я собирался отдать их вам, но так, как вы спланировали, я и сам их прекрасно потрачу!
– В добрый час.
– Честь имею.
Даниэль развернулся и пошёл было прочь, но тотчас догнал Эжена:
– Что вы говорили про бумагу? На что вам столько?
– Мне – ни на что. Я решил, что вы получили нежданные деньги, но не знаете, куда их деть, и позволил себе подсказать…
– Вы слишком много себе позволяете! Ничего не зная обо мне, прикидываете мои нужды!..
– Я точно знаю, что вы предпочитаете углю берёзу, а салу – воск; живёте почти на чердаке за дверью, обитой жестью…
– Не ждал я от него такого!
– От кого?
– От Ораса Бьяншона! Не думал, что он окажется таким болтуном! – Ведь это он порассказал вам обо мне?…
– Нет, я сам всё видел – я был у вас дома.
– Когда!? – Даниэль вдруг заподозрил…
– Да недавно как-то, ночью. Вы сами меня привели к себе, а я…
– Так это были вы?!!
– Простите, я тогда, конечно, зря, но вот ведь,… я ведь,… – бормочущие это губы всё ещё спокойно улыбались.
– Вы мне лгали! – я это быстро понял!
– Ну, и хорошо, что быстро.
– Ради чего всё это было?
– Сам не знаю.
– Как ваше полное имя?
– Эжен, барон де Растиньяк.
У Даниэля побагровело в глазах.
– … Мне очень жаль,… что я не взял с собой тех денег: хотел сперва проверить, достойны ли вы их, – но теперь, когда мне… посчастливилось встретить именно того, кто сочинил записанную мной повесть, я просто обязан вернуть гонорар истинному автору, хоть он и пустит его на ветер,… или вы действительно содержите приют, как думает Бьяншон?
– Я содержу приют и беспроцентную ссудную кассу, безвозмездно снабжаю журналистов светскими новостями, иногда подкармливаю собак и птиц и не понимаю, почему вы считаете меня плохим человеком.
– Вы знаете, в чём ваша сила: вам легко и весело ломать чужие жизненные орбиты. Да, вы можете облагодетельствовать бедняка, а можете – сбить с ног полного надежд талантливого юношу, которому оставался один шаг до исполнения мечты – и всё так же бескорыстно, только для своей забавы!..
– Вы о ком это? – крикнул Эжен, не нуждаясь в ответе – теперь для него небо стало бурым.
– О Люсьене Шардоне. Возможно, вы его уже не помните. Ваш земляк, младший сверстник, которого вы сделали изгоем высшего общества…
Дальнейшего Эжен уже не слышал: его словно смело ветром, более холодным и неумолимым, чем в ночь на седьмое декабря; его шатало от края к краю дорожки – так убегают под обстрелом. Деревья виделись ему чёрно-рыжим дождём. Он прижимал к груди руки: рёбра словно выколачивало изнутри тыловиной топора.