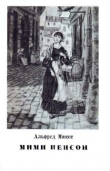Текст книги "Происхождение боли (СИ)"
Автор книги: Ольга Февралева
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 38 страниц)
Ольга Валерьевна Февралёва
Происхождение боли
Глава I. Крушение одной жизни
«Где я? – подумал Люсьен и остановился, – А, на мосту… Все называют его новым, хотя знают, что он самый старый… Сила и пустошь слова… Всё перевёрнуто, всё ложь…»
Он бессмысленно протаскивал названия парижских мостов через свой замёрзший мозг, а Сена, грязная, огромная, чешуйчатая тварь, валялось внизу.
Люсьен глядит на воду и плачет, шагает к самому краю. «О Боже! если бы не надо было падать! Просто лечь! Но дождь не может убить… А нужно только это… Как это будет? Может быть, не очень больно?… Не хочу кричать!.. Как страшно! Господи! Пожалей меня! Пожалей! Смилуйся! Только не кричать!..»
Стиснул зубы и веки и прянул. Холодные цепочки дождя ударили его в запрокинутое лицо… И тут две руки, уверенных и мягких при своей силе, поймали его; одна всем локтем легла в тощий живот, на грудь – другая, и оттянули его от пропасти. Но сознание Люсьена было смертельно ранено. И он, и человек, державший его в объятиях, это знали и ждали, когда оно, пронзённое страхом и горем, вытечет на камни, и дождь унесёт его в реку…
Спаситель тихо заговорил:
– Любуетесь дождём? Сегодня он особенно прекрасен.
– Я его ненавижу! – выдавил сквозь зубы Люсьен, – Он омерзителен, как крокодильи слёзы и акульи слюни!..
– Что вы. Здесь нет чудовищ. Я вам расскажу, что мы видим: перед нами вознесение Сены Она тянется тонкими струйками к облакам; ей трудно, многие капли срываются, не достигнув небес и падают на крыши, на дороги, на нас. Вам их жаль?
– Не жаль. Мне никого не жаль. Я хочу, чтоб ни одна капля не добралась до неба.
– А я хочу, чтоб мир перевернулся, чтобы настоящим наводнением Сена хлынула вверх!
– Она тогда и нас смоет.
– Неет! Мы стоим на мосту вниз головой, и он нас укрывает. Смотрите.
Люсьен глянул наверх и увидел ту же Сену, бурлящую, ощетинившуюся… У него закружилась голова, и он решил, что наконец-то умирает.
Когда он очнулся, двое безликих людей сняли с него всю одежду и указали идти в тёмный душный коридор, закрыли за ним полупрозрачную дверь.
Люсьен припал плечом к гладкой чёрной стене, попытался напомнить себе, что с его безвозвратно разрушенной жизнью бояться уже нечего. Воздух был влажен, потолок, кажется, низок; на полу какой-то коврик… Люсьен отстранился от стены, сделал шагов шесть вперёд и увидел дверь, сделанную из странного толстого стекла, неровного, всего в волнистых, беспорядочных, друг с дружкой стекающихся застывших складок.
Точно такой – вспомнилось Люсьену – песок на прибрежном мелководье Шаранты. Мама не разрешала ему купаться, только побродить, тогда как другие ребятишки часами плескались и плавали…
За дверью темнота имела багровый оттенок. Узнаваемый голос сказал: «Войди».
Люсьен потянул дверь за ручку, заглянул, вошёл… Первое, что он испытал, это жар, такой, какого никогда в жизни не испытывал. Посреди комнатки, раскалённая докрасна, стояла железная печь, похожая на гигантский бутон тюльпана, единственный источник света. По стенам – ступенчатые деревянные лавки-полки, под ногами – решётчатый настил из сухих гладко оструганных реек.
– Иди сюда.
Люсьен вздрогнул, заметив в правому углу существо с яркими глазами, изумрудной яркости которых почти не нарушало красное свечение; робко приблизился и пролепетал:
– Пожалуйста, будьте милостивы со мной, господин чёрт. Я настрадался в жизни…
Тот, наверное, улыбнулся и, протянув руку, поманил со словами:
– Ты ещё забавней, чем показался сначала. Не бойся, садись рядом.
Люсьен повиновался.
– Прислонись ко мне, – и незнакомец, обняв своего гостя сзади, точно так же, как на мосту, притянул его к себе, – Здесь нет свечей: они плавятся; нет железа: оно начинает кусаться, а крысёнок мёрзнет и дрожит. Мёртвый жар не заменит живого тепла.
– … Вы всё равно не сможете мне помочь.
– Почему?
– … Я не хочу говорить…
– Здесь мои владения, и все происходит по моему желанию. А я желаю добра. Тебе. Давай знакомиться.
– Меня зовут Люсьен…
– Очень красиво. А моё имя просто: John Gray – Серый Жан.
– Вы англичанин?
– Да.
– Вам не подходит это имя.
– Не нам судить… Имя – это судьба. Ты веришь в судьбу?
– Я не хочу в неё верить. Что хорошего, если кто-то за тебя всё решает!
– Ему, например, можно довериться и успокоиться, никогда ни в чём не раскаиваясь, ни чего не страшась, не сомневаясь. Но сейчас слишком много стало людей, хотящих решать участи мира. Ты из таких?
– Я не смог таким стать… Мои мечты разбились… Нет, не так… Мне не удастся объяснить.
– Пытайся.
– Это всё Париж. Когда видишь просто кусочек улицы, или дом – внутри или снаружи – слышишь звуки одного квартала, кажется, что всё обычно… Но если вообразить Париж весь целиком!.. О, сударь, – это же ужасно, это страшно! Такой огромный! такой огромный город! Ему нет конца и края!.. Столько домов! Столько людей! Глаз – злых, хитрых! Ртов – орущих, шипящих, хищных! Столько желаний! И я среди них… Я один… Ну, как я решился? как посмел?! Что я могу? такой огромный город! Я ничто в нём!.. И все – каждый – ничто!.. Я это понял… Но как я ненавижу их – тех самонадеянных, самодовольных тварей, которые считают, что крутят, как брелок, на пальце Солнечную систему. Выродки! Это мир существует только для того, чтоб каждый человек был раздавлен – рано или поздно! Зачем же, зачем и кто построил этот город!? Он не умещается у меня в уме! Моя душа распухла, как утопленник! Она ослепла, увидев Париж, оглохла от всех его шумов!.. Мои глазницы пусты!.. И я проклинаю тех, у кого они заросли незрячим мясом, которые имеют нахальство думать, будто этот мир ждёт не дождётся их распоряжения – таких, как Растиньяк!..
– Печально.
– Все одинаковы – люди. Все ползают в слепоте своих принципов, летают в слепоте своей беспринципности, предают друг друга и обвиняют преданных в предательстве. Я буду ненавидеть их вечно! Я всех бы их скормил червям, ничтожества, гниль, мразь!!!
– Тише. Я понимаю. Или – как ты думаешь? – я тоже слеп?
– Если вы считаете, что сможете что-то изменить в моей душе, – да. Возможно, вы богаты, но меня не спасут никакие сокровища… И напрасно вы думаете, что эти деньги, этот дом ваш. На самом деле всё это принадлежит Дьяволу. Если вы не знаете об этом, вы слепы.
– А ты знаешь, маленький пророк, что у слепых расцветают прочие чувства: обоняние, слух, осязание? Природа изворотлива. Заботясь о своих созданиях, она способна на удивительные фокусы. Того, что даётся пальцам слепца, зрячий не ощутит. Слепому ветер опишет все близкие предметы. Тепло чужого дыхания предупреди о встрече. Чужую радость, боязнь или похоть слепой учует по запаху, как пёс.
– Что вы хотите сказать?
– Что хотел – то сказал. Если берёшь метафору, будь готов к тому, что она заполнит весь твой мир. Тем более, что гибелью это грозит только твоим ошибкам. Когда новорождённый муравьишка кричит Вселенной: «Ты мне подчинишься!» – ну, разве это не трогательно?… А ведь он обо многом догадывается…
– Я тоже так делал, а вселенная наступила на меня, и всё, меня нет!.. Ну почему?!!!!
– Чщщ-ч-ч-ч… Тихо.
– Почему!?… У него всё получается, он – любимец света! А он ведь только болтун и пижон! Но двадцать герцогинь с гордостью называют его своим протеже; блистательные франты и красавицы вырывают его друг у друга из рук; банкиры сдувают с этого хлыща пылинки!.. Чем я хуже!?
– Не завидуй участи того, кого, может быть, украшают и ублажают – перед жертвенным закланием. Они любят – они же и убьют его.
– Я хочу его убить! Я сам! Только я!
Незнакомец ((хоть он и представился, назвать так его можно. Он был из тех, в ком всегда самое главное непонятно и неизвестно, чьё каждое имя кажется вымышленным)) погладил безымянны пальцем хрупкую люсьенову ключицу и произнёс примирительно:
– Может, так и случится. Но для такого дела тебе понадобится много сил. Не трать их остатки на крики.
Люсьен уже с трудом отграничивал своё тело от чужого. Он следил за капельками пота, щекочуще ползающими по плечам и бокам. Он был весь мокрый, как и собеседник, которого всё ещё не знал в лицо.
– Так, – сказал тот, – нам пора вставать, а то расплавимся.
Он распустил объятия. Люсьену показалось, что кусочки его кожи отслоились и остались на руках и груди Серого Жана. Он почувствовал это так, как если бы был слеп, но не решился об этом сказать; стыдливо опустил глаза…
– Пойдём. Иди вперёд, за дверь. Направо.
Они вышли в темноту, прохладную теперь. Англичанин подтолкнул Люсьена в глубокую нишу, почти прислонил к стене и повернул к себе, но в кромешной темноте они по-прежнему не могли друг друга рассмотреть.
– В вашем доме нет окон?
– Есть – на тех этажах, что выше тротуара.
– Значит, мы под землёй. Я так и подумал… Сначала я вообще решил, что это преисподняя. Что же дальше? Что это за шум?
– Это к нам бежит вода.
Раньше, чем он договорил, три частых тёплых сотни струек полились с потолка, заплес-кались на гладком, как зеркало, полу между двумя людьми.
– Снова дождь, – проворчал Люсьен.
– Не бывает двух одинаковых дождей. Вступи под него. Если бы мы стояли на земле, не ней выросли бы грибы… Ты голоден?
– Ещё спрашиваете!
– Это значит да? Прекрасно. Пошли.
Он вывел Люсьена из мрака. Они очутились в великолепной комнате с высоким потолком, освещённой хрустальной люстрой. Правая и встречная стены были зеркальными, при чём по отражениям интерьера плавали в нём рыбки, жёлтые в голубую полоску; левая – мраморная, как и пол, украшена ампирными барельефами; за неё уходила вверх лестница. Стояли друг напротив друга два чёрных огромных дивана, а между ними на ворсистом пастельно-оран-жевом ковре – столик с фруктами, вином, дорогими кушаньями.
На правом диване лежал серый халат, и, пока Люсьен рассматривал убранство, англичанин оделся и сел. Он оказался безупречным красавцем северного типа, золотоволосым, подавляюще грациозным. Для истинного аристократа, впрочем, он был слишком румян и атлетичен, да и кудри его до плеч были жёстки, а улыбался он одними нижними зубами…
– Добро пожаловать к столу.
Люсьен бросился к тартинкам и сразу три запихнул в рот, жмурясь от удовольствия. Серый Жан разлил по трём бокалам белое вино. Гость тут же схватил один из них и запил своё лакомство, перевёл дыхание и спросил:
– А мне найдётся что надеть?
– Конечно, но чуточку позже. Хочу тебя разглядеть.
– Что уж во мне интересного?…
– Эта отметина – от пули?
Люсьен машинально прикрыл рукой шрам на груди.
– Совсем недавней… Но мы не будем говорить об этом сейчас. Не стесняйся. Не думай о себе. Посмотри на меня. Я сказал посмотри.
Он говорил неповелительно, но негромко. Среди этой роскоши её хозяин сидит в простом тусклом платье, честно соблюдая своё имя. А на серых складках переливались оттенки золотого, белого, розового, словно для всех чудес комнаты было честью хоть слегка приотразиться в невзрачной одежде.
– Вы меня спасли от смерти, обогрели, накормили… Я не понимаю, зачем я вам нужен.
– Разве я не сказал этого сразу же, на мосту?
– Я не помню, но скорее всего это было что-то утешительное, а значит, неправда. Не надо никаких добрых слов. У вас есть ко мне интерес. Просто скажите, какой… Я нищий, у меня ничего нет, даже репутации порядочного человека. Я не смогу вам помочь ни в интригах, ни в афёрах, ни в мистификациях, ни в чём другом…
– Ты мне можешь пригодиться не для дел, а для забавы.
– Для какой?
– … Кинь-ка мне персик.
Люсьен исполнил просьбу. Серый Жан повертел плод на ладони, взял со столика обою-доострый нож и надрезал от череночного углубления по ровной закруглённой бороздке, осторожно разломил.
– Ответьте мне прямо! – настаивал Люсьен, – Мне уже безразлично всё сущее,… но тем невыносимее неизвестность…
Англичанин надкусил дольку персика и, раздавив его мякоть языком об нёбо, спросил:
– Ты обязательно хочешь быть мне благодарным?
– Может быть, через час я буду вышвырнут обратно на улицу!?…
– Нет! Клянусь, ты уйдёшь отсюда, только если этого захотим мы оба – я и ты.
– Вы уже хотите?
– Меньше всего не свете. Я скорее опасаюсь, как бы не захотелось тебе, хотя у меня…
Не договорил: где-то наверху, над лестницей глухо грохнуло, и послышались тихие приближающиеся шаги – вниз по ступеням. В комнату вплыла, словно лебедь, прекрасная дама в белых просторных шелках с длинным шлейфом. Волосам её, волнистым, тёмным в рыжину, позавидовали бы героини полотен Россетти, а лицом она была похожа на леди Гамильтон. Она кивнула Серому Жану, что-то проговорила по-английски, тот встал, приблизился и тоже сказал нечто неразборчивое.
– Простите меня, – подал голос Люсьен, – но это невежливо: шептаться на незнакомом для присутствующих языке!
Дама удивлённо и с любопытством посмотрела на раздетого, исхудавшего человечка и пропела по-французски:
– Просто мы считали, что в Париже воспитанные мальчики знают английский.
– А вот зверьки, живущие на сваях сенских мостов, не знают, – заступился Серый Жан, – Крысёнок, назови миледи твоё имя.
– Люсьен Шардон.
– Маргарита Девере, – в ответ представилась прелестная и, отвернувшись, развязала шнур у шеи; распустившаяся в вороте хламида опала на пол, оставив даму одетой только в тёплый воздух и восхищённые взгляды. Её соотечественник с улыбкой подал ей половинку персика. Маргарита вошла в темноту; нежный силуэт искривился и пропал в морщинах дверного стекла.
– Как она красива! Кто она? – пробормотал Люсьен.
– Моя пожизненная спутница.
– Вам повезло.
– Нам всем повезло. Мы развлёчёмся на славу.
– Но она же – ваша!.. При чём тут я!?… Неужели вы позволите мне наставить вам рога?
– Ага. Но не раньше, чем я приделаю тебе хвостик.
Англичанин положил в рот остаток персика, взял бокал так, что ножка свисла меж его пальцев. Люсьен нерешительно поднял свой и тихонько звякнул его краем о хрустальный диск подставки:
– Я ничего не понимаю, но и терять мне нечего.
Вскоре ему захотелось спать – он пожаловался на это. Хозяин дворца хлопнул в ладоши, и люстра медленно спустилась до уровня его глаз. Он пустым бокалом загасил все свечи, кроме одной. Оскудевшая светом бронзовая медуза снова поднялась по его знаку.
– Но я всё равно не смогу уснуть, если не укроюсь, – капризно предупредил Люсьен, укла-дываясь головой на пухлый подлокотник.
Серый Жан поднял с ковра одежды леди Маргариты и набросил их на приёмыша.
– Спокойной ночи, Крысёнок.
На утро Люсьена отвели на верхние этажи, где назвали уютно мрачную комнату с вы-соким чёрным потолком, бархатно-малахитовыми стенами, белым полом и большой кро-ватью его новым жилищем. По желанию Люсьена приносили любую еду, одежду.
Заламаншских господ не было видно весь день, а вечером Люсьен встретился с ними обоими за ужином. Дама была в модном богатом платье, кавалер – во фраке. Всё как надо.
Люсьен не взял в рот ни крошки и, ничего не сказав, вышел из-за стола раньше хозяев.
Он просидел в своих апартаментах полчаса, потом вошёл слуга и велел следовать за ним. Люсьен одновременно боялся и был равнодушен, не позволяя себе забыть, что он – человек конченный.
Его доставили в прежнее роскошное подземелье, где уже ждал Серый Жан. Один. На нём снова его величественная ряса, только волосы, как и за ужином, собраны на затылке в пучок, но уже несколько прядей выбилось и свисало небрежно, левые длиннее правых. Он сидел. Он приказал слуге идти, а Люсьену указал на диван напротив.
– Зверёк рассердился? – спросил непонятным тоном.
– … Я же говорил вам, что ненавижу… эти белые скатерти, салфетки, ряды этих вилок и ножей, и прочих прибамбасов! а уж все эти манжеты и воротнички, галстуки и фраки – подавно!.. Я бы предпочёл всю жизнь есть руками копчёную рыбу, сырые овощи и фрукты, одевался бы в какую-нибудь шкуру… или в такую мантию, как вы,… вы в ней гораздо…
– Что?
– Красивее… То есть я не говорю, что фрак вам не к лицу. Просто я не люблю фраки…Но вам нельзя иначе… Вы настоящий денди!..
– Я свободный человек – благодаря умению маскироваться…
– А я свободным уже никогда не буду!.. Особенно здесь… Я хочу умереть… Я понял, что вы от меня хотите… Что ж, я в вашей власти!..
– Давай поговорим о чём-нибудь другом.
– … Вы на меня не злитесь?
– Конечно, нет… Спросил меня о чём-нибудь?
– … Почему вы уехали из Англии?
– В свадебное путешествие. Но нам понравилось на континенте, и мы остались.
– А чем вы занимаетесь? У вас есть рента?
– Бедная Франция помешалась на деньгах.
– Извините. Разумеется, всем богачам есть что скрывать, – Люсьен помолчал, потом встал, подошёл у зеркалу, в котором, безмятежно покачивая хвостиками, плавали яркие рыбки.
– … Как это сделано?
– Это аквариум с очень чистой водой.
– А, да – я вижу: у них тоже есть отражения… Скоро вы…осуществите свои планы… насчёт меня?
– Это от тебя и будет зависеть.
– Хватит! Ничего от меня не зависит! Я только выброшенная кукла! Когда!??
– Когда я почувствую, что ты становишься настоящим домашним зверьком, доверчивым, послушным…
– Я никогда таким не стану!
– Тогда завтра, – он поднялся, развязал волосы, встряхнул ими, – Ступай к себе и усни.
– Я хочу остаться здесь.
– Ладно.
Англичанин сбросил халата и ушёл в тёмную комнату. Почти сразу же спустился слуга с несколькими серебряными рюмочками на подносе. Он аккуратно поднял с пола серую одежду, положил на диван и обратился к Люсьену:
– Как вы желаете спать: крепко или чутко, долго или не очень?
– Всегда.
– Этого я вам не устрою. Поговорите с самим господином графом…
Люсьен задремал, как ему показалось, на несколько минут. Проснулся в необъяснимой тревоге. Заглянул в жаркие комнаты, но там было пусто. Он снова стал себе твердить, что всё ужасное в его жизни уже случилось. Лёг на диван, но уснуть не мог.
Через две часа одна за другой погасли, догорев, все свечи в люстре. Люсьен вскочил в кромешной темноте, вгляделся в неё и смог различит синюю рябь на зеркальных стенах. Он понимал, что это светятся чешуйки рыб, но ему неотвязно мерещились чьи-то глаза…
– Эй, ты, а ну, войди ко мне! Давай, если сможешь! выйди из зеркал! – закричал.
Сначала не изменилось ничего – мрак и тишина, плавное перемещение синих пятен, а потом они, просини во тьме, вдруг заметались, диван под Люсьеном будто бы вздрогнул и сжался; пол покосился, как в каюте при шторме, и послышался стук. Он звучал, как шаги, но ритм их повторял биение люсьенова сердца. Он ускорялся и становился громче; кто-то приближался неизвестно откуда. Казалось, отовсюду…
Люсьен знал здесь только одну входную дверь и бросился к ней ощупью, спотыкаясь на ступенях… Шедшый был очень близко. Видимо, он нёс какой-то светильник. Дверь тонко очертилась белым. Люсьен приник к замочной скважине, и тут стук оборвался.
Холодно-резкое сияние впилось в зрачок. Люсьен опрокинулся на спину, крича:
– Убирайся! Ненавижу свет!!!
Глава II. В которой два странных человека заключают союз
Эжен бросил учёбу за месяц до выпускного экзамена и окончательно пустился в свет. Те выигранные в карты деньги, что не успевал просадить или отсылать в родной Ангулем, он относил портному и парикмахеру – без каких-либо указаний; они делали с ним всё, что считали нужным, и Эжен слыл элегантным молодым человеком. Дамам нравилось с ним танцевать. Он был трогательно бледен и чудесно строен в их глазах. Они не знали, что он надевает под сорочку стёганый жилет, чтоб выглядеть именно стройным, а не тощим. Эта тайная одежда была нужна ему затем ещё, что он постоянно зяб, наверное, от недоедания. Мучился сначала, но то были знакомые с детства страдания, и он свыкся, научился почти вовсе обходиться без покупной пищи, что стало последней темой его гордости. Он мог быть практичным и благоразумно целеустремлённым, но, как в крови – холод, так в душе его растеклось безразличие. Кланяясь графиням и герцогиням, он так ледовито смотрел сквозь их рукава и подолы, груди и ноги, что, ниоткуда не гонимый, он никуда не был и прошен.
Летом он отказался от нательной безрукавки, и платье болталось на нём, как на кресте огородного пугала. На эти месяцы свет покидал Париж, и Эжен без дела скитался по ущельям и пещерам города. У него не было друзей. Пансионный приятель – бедный и бескорыстный медик Орас Бьяншон перестал с ним здороваться. Перекинуться парой слов он мог лишь с журналистом Эмилем Блонде, недавно переехавшим к нему в запотолочные соседи.
К своим благодетелям Нусингенам Эжен заглядывал, но редко, со стыдом…
Чаще всего, одевшись в самое изношенное и мрачное, он подымался на Монмартрское кладбище, находил заброшенный жалкий холмик и по нескольку часов неподвижно сидел или лежал возле него на траве. Только тут его покидало нервное оцепенение, и если светило солнце, то было радостно и грустно, а если нависали тучи, – страшно и тоскливо.
Лето прошло, как утомительный, однообразный и непонятный сон, от которого пришлось проснуться в самую угрюмую и грязную осень. Единственная зелень, которую теперь можно было видеть в Париже, наконец приняла и поглотила последний эженов грош, брошенный всё в том же непробудном бесчувствии. Ещё несколько раз Эжен появился на званых обедах, потом его последний фрак пришёл в негодность… Три дня его если кто и видел, то разве что домашние пауки и тараканы. Третья ночь выгнала Эжена на улицу. Он зашёл во двор к чёрному ходу, снял с пожарного щита лопату и пошагал на Монмартр к заветному холмику, но вместо него нашёл яму, над которой трудился кто-то одного с ним роста, одетый так же плохо, правда, в перчатках. Зверски закричав, Эжен замахнулся своим оружием; противник ловко отбился и вовсе вышиб лопату из иссушенных голодом рук.
Глинистые комья сыпались с острого клинка на шею Эжену, опрокинутому навзничь. Человек, стоящий над ним, спросил, тяжело дыша:
– Мы знакомы?
– Я где-то слышал твой голос.
– А. Судя по твоему, ты – Эжен де Растиньяк. Мы увиделись впервые у госпожи де Ресто. Я – Максим де Трай, – говорящий легко отступил, изящно облокотился на воткнутую в землю лопату, – Хочешь, зови меня просто Макс…
– Какого чёрта ты здесь делаешь!?
– Ну, а ты?
– Я… я хочу к нему!.. Я больше не могу!.. Мне надо его видеть!!!
Эжен распластался на жухляди и грязи, трясясь от стужи и истерики.
Макс присел к нему, приподнял его за борт сюртука, усадил, ловя его глаза своими.
– Кто он тебе?
– Он – ОТЕЦ!.. – отвечало что-то из Эжена, грозя раскрошить его зубы.
– Там – с ним – что-то ещё есть? Там захоронено какое-то сокровище?
Эжен прокивал подтверждение, потом, отпущенный, приподнялся на локтях и простонал: «Не смей!». Макс обернулся:
– Я имею право. Я ему зять.
– Я тоже…
– Разумеется. Я поделюсь с тобой.
– Это нельзя делить.
– Тогда оно достанется сильнейшему, – спокойно и просто постановил Макс, возвращаясь к своей чёрной работе.
Эжен понемногу опомнился. Теперь под мерный луск железа о землю и гравий он сидел, обнимая колени, и следил за Максом. Рывший думал лишь о том, сколько ещё ударов, трудных рывков и бросков ему осталось. Но вот лопата наткнулась на крышку гроба – глухо стукнуло под землёй – и в груди у того и другого. До этого мгновения Макс считал себя усталым, ждал конца. Теперь ему хотелось любой ценой продлить это жуткое дело. Он расширил яму, утоптал дно вокруг гнилого ящика, выкинул наверх лопату, подскочил, опершись на край ямы, сел там, перевёл дух и глянул на Эжена:
– Предлагаю, – выговорил, – шанс завладеть кладом. Достань его оттуда… Заодно и повидаешься… Не забудь инструмент.
Он не верил, что это случится, но его непрошеный товарищ безмолвно подполз, волоча свою лопату, свесил ноги в могилу и соскользнул в неё, дрожа, со страхом на лице, но при том поспешно. Максу не хватило сил смотреть, что будет делать этот одержимый.
Эжен же нащупал щель под крышкой гроба и стал просовывать в неё лезвие лопаты. Длинный черенок уткнулся в земляной срез, осыпал его и всячески мешал. Эжен взрычал от злости и одной рукой сорвал с палки железный наконечник, саму её вышвырнул прочь, наложил на оружие вторую руку и, встав на колени, повернул широкий клинок в щели и открыл гроб; поддел дверь уже пальцами, оттолкнул её. Тут его взяла немощь. Он даже глаз не мог открыть, сидя, упираясь спиной в землю, коленями – в гроб.
Макс подобрал рукоятку эженовой лопаты, осмотрел и изумился, найдя отверстия от двух гвоздей, крепивших наконечник. Меж тем Эжен притих, и Максу пришлось посмотреть в могилу, а там и спуститься в неё, придерживая дыхание.
– Эй, ты в себе? – громко прошептал он. Ответа не было. Макс выругался по-английски, откинул трухлявую крышку к изножью гроба, выпрямился, высунулся наружу за чистым воздухом, потом снова присел и зашипел поверх чёрного ящика, в который не отваживался заглянуть:
– Если ты сейчас же не очнёшься и не сделаешь этого, я сам всё возьму, а тебя закопаю с твоим отцом!..
Вдруг снизу донёсся странный шорох, тихий скрежет и хлюп. Макс умолк, Эжен развёл веки и посмотрел на него, а он смотрел в гроб, и роговицы его глаз словно поседели.
Вскоре его заслонило нечто тёмное, бесформенное, поднявшееся в могиле из её ковчега. Сердце Эжена уже не било – гудело. Прямо перед собой он разглядел лицо, совсем не такое, какое бывает у живых людей, но очень знакомое и любимое. Казалось, оно улыбалось, и Эжен улыбнулся в ответ; он словно впервые в жизни был счастлив. Он попытался что-то вымолвить, но мертвец опередил его. Это был, конечно, не голос, а звук, похожий на шуршание сырого песка:
– Сы-нок… Возь-ми…
Чёрные истлевшие пальцы зажимали и протягивали блестящую бляшку, вроде монетки.
– Нет!!! – заполнил яму чужой горестный крик, – Отдай мне: я кормлю твоих внуков!
Покойник осел, повалился на своё ложе, выронив медальку под ноги Эжену, испустил долгий страдальческий хрип, и всё смолкло.
Макс, что-то быстро шепча, перешагнул гроб, поднял с земли жалкую драгоценность, сунул её в карман, подхватил подмышки сообщника, вытолкал его на поверхность, где тот мгновенно опьянел от кислорода, а сам закрыл ящик и принялся заваливать яму…
Сонно-одурманеное сознание Эжена то и дело ныряло из реальности в пустоту, как проваливается нога идущего по нетвёрдому насту на глубоком снегу. Ему чудилась долгая плутающая дорога – улицы, дома, двор, лестница, звон ключей, скрип двери…
В комнате было жарко и душно. Макс поднёс к носу товарища флакон душистой соли, от запаха которой по телу мозга пробежала стая мурашек. Эжен потряс головой и вернулся из полузабыться.
– Где мы?
– В моём теперешнем жилище.
Это была бедная двухкомнатная квартира. В прихожей стоял диван, отгороженный от двери дешёвой занавеской, напротив – окошко, столик, пара табуретов, справа от окна – камин. В утвари крайняя скудость, но вот книги! – заполненные ими стеллажи занимали всю имеющуюся вертикаль, стопки книг стояли под столом, на подоконнике, на каминной полке, и всё то были дорогие, старинные издания, благородно блестящие золотым тиснением по всем оттенкам тёмного сафьяна. Да вот ещё стройные красные свечи горели в большом бронзовом канделябре, на ветках которого висели карманные часы, брелок с хрусталиком, коралловые чётки.
– Хорошо у тебя тут…
– Говори потише: за стенкой спят мои дети.
– Мать которых – Анастази?…
– Разумеется.
– А она где? Что с ней?
– Она овдовела. Муж обошёл ей в завещании, отказал всё старшему сыну… Впрочем, там и отказывать-то уже было нечего… Она ушла в монастырь, Эрнеста забрала тётка, Полину и Жоржа – я.
– Давно вы тут ютитесь?
– Мы всего-то две недели как вернулись из Англии. Там у меня кое-какая недвижимость. Еда там сытная, погода хорошая – летом, но зимовать невозможно…
– Слушай,… Макс, ты в состоянии объяснить, что тебя понесло на Монмартр?… что ты там надеялся откопать – мешок алмазов что ли?… Я, допустим,… ну,… с приветом немного – это же ясно, но по тебе никак не скажешь…
– Мне были сны. Их трудно описать. Это началось ещё в Англии, а здесь стали являться и дневные видения… О тебе… Ты знаешь больше моего.
– Я только знал, что там есть этот медальон – я сам его туда положил.
Макс протёр золотой диск краем платка, рассмотрел у света.
– Но ты ведь не за этим шёл?
Эжен почувствовал испуг перед разоблачением, хотя не понимал, на чём его ловят.
– Я не помню, когда последний раз ел! Мне не на что купить воды и дров! Мне нечего надеть! Всё, что можно, я уже отнёс в ломбард…
– Не то, – непреклонно вёл его к признанию Макс, – У тебя ведь есть богатая любовница.
– Я не могу её больше видеть! Она позволила ему умереть!..
– Так кто он тебе?
– Он мне всё!!! Он единственный, кого я люблю!!!
Макс присел на табурет, прикусил большой сустав указательного пальца…
– За что?
– Я не встречал никого лучше! Он был сама доброта и любовь. Как они могли так поступать с ним!? По сравнению с ним все они – грязь!
– А ты?
– … Меня он называл своим ангелом… Но я тоже виноват…
– … Ты рад, что встретился сегодня с ним?
– Ты не представляешь, как! Он улыбнулся мне. Теперь мне нечего бояться, а ждать совсем недолго, и он не прогонит меня…
– О, боюсь, это ошибка. Ты нужен ему здесь и дорог лишь как защита и услада его дочери. Твоё место – возле Дельфины, и если ты от неё отречёшься, он проклянёт тебя.
– … Но она… глупая эгоистка!.. у неё… белые ресницы…
– У неё могут быть зубы в три ряда и ежовая шкура на животе, но ты принадлежишь ей. Так распорядился Отец.
– Ну, а сам ты чего заслужил!? Из-за тебя жизнь другой его дочери стала адом! Где твоя любовь и верность!? Как ты смеешь читать мне тут мораль!?
– Не ори: детей разбудишь.
– Покажи мне этих детей! Может, у тебя и нет их! может, это только блеф – ведь ни на что другое ты как будто не способен! А! Ну, ещё лопатой шуруешь недурно!
Макс выдернул одну свечу, кивком позвал за собой и привёл Эжена в соседнюю комнату, где к спине камина жалась кровать. Огонёк в красной юбке полетел над ней и над двумя головками – тёмной и белокурой. Обе были острижены на длину указательного пальца, и нельзя было понять, кто мальчик, а кто девочка. Темноволосое дитя шелохнулось во сне, потёрло ладошкой слипшиеся глаза. Макс перехватил каплю воска, падающую на лоб малыша. Эжен в смущении отошёл, вернулся в прихожую.
Макс догнал его, возвратил свечу в хоровод.
– Убедился?
Эжен сложился на диван и лишь вздохнул. Макс тихо продолжал:
– Большинство людей добрей меня, но Тот, Кто знает всё, знает, как много я люблю,… как мне плохо без моей Анастази. Я обязательно найду её. Пусть она ненавидит меня сейчас, пусть – навсегда. Это её право…
– Ты хорошо говоришь,… – прогрустил Эжен, – Правильно… Я был когда-то добр, но теперь это ничего не значит: для меня здесь всё кончено – всё стёрто…
Макс повернулся, сел на прежнее место.
– У тебя тоже есть семья: родители, братья и сёстры…
– Это у них есть (был, точнее) я. Даже не я, а какие-то надежды. Я был для них средством… обогащения, возвышения, что ли… и всё – под приторное кудахтанье и щебет…