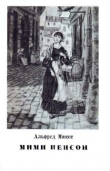Текст книги "Происхождение боли (СИ)"
Автор книги: Ольга Февралева
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 38 страниц)
Глава CXXVII Эжен и Дельфина
«Вечное, многоликое утро», – подумал Эжен, глядя на Дельфину. Она была в сером, с бледно голубыми кружевами на волосах; весь её будуар поблек, в вазе никли засохшие розы.
– Я позвала вас, чтоб задать один вопрос,… и что бы вы ни ответили,… само то, что я хочу… или должна его задать – … большое горе для меня. Этот вопрос:… Нет, сначала другой. Что вы чувствуете, видя женские слёзы?
– Видя любые слёзы, я обычно жалею и стыжусь, – кротко ответил Эжен, – Страшно быть их причиной, а не быть утешением – совестно… Вам хочется плакать?
– Да, – Дельфина отвернулась, поднося к глазам платок, – Вы… вы разлюбили меня?
– Сударыня (– в конце концов, хоть однажды быть откровенным!!! -), вы не будете против, если я расскажу сейчас кое-что о себе?
– Ах! Ага! Конечно! Наконец! И в вашем прошлом – мрак! И ваша душа опорочена!
– Так получилось. Вы – небо над солнцем, а мы все родились и выросли в долгой ночи.
Они сели на краешки стульев. Эжен взмолился: «Господи, наставь!» и начал:
– В тот день, с которого я начал непрерывно помнить себя, я был с отцом в городе и увидел собачонку, маленькую – с кролика – и больную грыжей: половина её внутренностей вывалилась в кожаный мешок внизу живота, почти между самыми лапами. Я спросил: «Что такое с щенком?». Отец ответил: «Ничего» и потащил меня куда-то, но она всё как будто видел смертельно усталые глаза тот зверька, этот уродливый серый вырост, похожий на огромного собачьего клеща, раздутого от чужой крови, опутанного тусклыми венами… Мне было очень страшно: я чувствовал в себе что-то подобное, и вскоре, дома, оставшись один, я осмотрел себя и нашёл… Я стал приставать к отцу, допытываться, что же это за штука была на брюхе у той собаки. Он сперва отмалчивался, потом разозлился и сказал, что это такая хворь. «Она бывает у людей?» – «Бывает» – «От неё выздоравливают» – «Не знаю»… Я не находил себе места, несколько раз убегал из дома в город, чтоб посмотреть, не поправилась ли собака, но меня ловили на дороге… Мне ведь было лет пять, не больше. Я не думал о смерти, и ощущал только этот ужас непоправимости, отчаяние и отвращение к собственному телу. Я стеснялся пожаловаться родителям, боялся огорчить их своей болезнью, то есть необходимостью звать врача, которому нужно платить.
– Но то, о чём ты говоришь, это ведь на самом деле не было никакой грыжей? Как ты мог так ошибиться? Разве ты не видел, как выглядят другие мужчины или мальчики?
– Нет. У меня тогда не было ни друзей, ни братьев. Купала меня мать или тётя. Я видел голыми только сестёр… Работа и усталость, голод и холод отвлекали меня от страха, потом меня отдали в коллеж, где я наконец-то смог разобраться с этим недоразумением, причём вышло так, что я напугал кого-то из товарищей, сказав ему, что он тоже болен; он сразу бросился к родителям, те его успокоили, а надо мной все смеялись, и до моего отца это дошло – и он тоже смеялся… Тут мне бы успокоиться, но с моим злосчастным наростом стало твориться что-то новое, тоже непонятное и потому страшное. Мне казалось теперь, что у меня водянка или рак, я скоро умру, и родители зря платят за мою учёбу, но мне не доставало сил хоть с кем-нибудь поговорить об этом…
– А тебе не случалось поглядывать на девушек, думать о них?
– Священник говорил, что это грешно, что моя болезнь – тоже от греха, от похоти… В шестнадцать я узнал, увидел, как рождаются дети,… потом наконец-то, снова от чужих – как их зачинают, что со мной происходили самые обычные вещи, но мне уже была ненавистна вся эта мерзость!.. Вот, с каким опытом я приехал в Париж.
– С ненавистью к своему естеству? К физическим началам любви?… Но наша встреча…?…
– Ты была и есть красивей всего на свете. Глядя на тебя, забудешь о любой боли, но… она не исчезнет… Только ОН стал для меня надеждой на настоящее исцеление, на обретение чего-то… родного…
– Кто?
– Твой Отец… Он указал мне на тебя. Он верил и говорил, что ты лучше Его… А ты позволила Ему умереть в таких мучениях… Ты даже не пришла к Его гробу. Единственный из всех Любивший – и ты Его предала, и меня, оставшегося с Ним…
– Не говори так! – прорыдала Дельфина.
– В день Его похорон на тебе было какое-то пегое платье…
– Самое тёмное, какое нашлось!
– И ты охотно сбросила его ради разврата!
– Ты так же поступил со своим трауром!
– Я сделал это от злобы и горя. Мне хотелось, чтоб ты заболела беременностью и пострадала, как Он страдал! Ради одной этой мести я решился переступить через отвращение и предаться блуду!
Дельфина закричала, как ужаленная скорпионом, ударилась губами о сложенные в замок кулаки и словно заживо окоченела. Эжен обеими ладонями стёр с лица маску ярости, перевёл дух.
– Это быстро прошло. Я благодарил потом судьбу за то, что с тобой ничего не случилось. Я верю, понимаю: тебе тоже было горестно, но этот подлый мир так затянул тебя, что ты бы не смогла… Твоя доброта – лишь пасмурно-полуденная тень доброты Отца, но другой у тебя нет, и ты дарила её мне, а я пытался благодарить тебя от этого нелепого, безрадостного убожества, которое ты называешь естеством, ведь больше не от чего…
Он закрыл глаза и устало думал, что можно ко всему этому прибавить и надо ли.
«Извращенец! – подумала Дельфина, – хуже любого де Марсе!.. Но нет, он лучше всех!.. Что же делать?». Ей было трудно подобрать нужные мысли, не говоря уж о словах.
– То есть… никакая другая женщина…?… А ты… хотел бы,… чтоб у нас был бы ребёнок?
– Да пойми: из нас двоих я – не тот, кто хочет или нет. Моя жизнь в том, чтоб исполнять твои желания.
– … Но это для тебя… не добровольно?
– Это не имеет значения.
Одной рукой она взяла его за моментально увядшее запястье, другой повернула к себе его лицо, заглядывая за решётку ресниц:
– Кто я, по-твоему?
– Ты – самое прекрасное и священное существо на земле, – ответил Эжен без нежности, изнурённо, как в конце долгого судебного допроса.
Дельфина разгневалась, наклонилась вперёд, упёрлась в бока тылами ладоней:
– До чего же мне осточертели эти ваши льстивые бредни!: Ангел! Богиня! Я – женщина! Мне нужен не арабский домовой в бутылке, не раб, а любящий мужчина! Знаешь, что для меня ты? Вот это! – она крепко схватила его за талию, поползла ладонями ниже, но он вывернулся, отшатнулся, ожесточённо всполохнул глазами.
– Это!!? А ты это хоть видела? Я покажу! – и стал обрывать с себя одежду.
Будь Дельфина начитанной, ей вспомнилась бы сцена из Ариосто, но поскольку любые книжные сравнения были для неё недоступны, она смотрела в первозданном смятении, а когда ей предстал тараканий торс Эжена – застонала от ужаса, неописанного в сказке про красавицу и чудовище.
– Ну, что? – глухо спросил несчастный, – Это ты любишь? Это тебе надо?
Не успел он договорить, как Дельфина бросилась к нему, обвила его, зябнущего, тёплыми руками, прижалась грудью, залила плечо слезами.
– Но что с тобой!? Ты не был таким прежде!
– Всегда я был таким – только выглядел иначе…
– Мне всё равно, как ты выглядишь. Я люблю тебя. Пойдём, – потянула его, немого от отчаяния, к кровати, – Не бойся.
Зачем он рассказывал ей о своих детских травмах? Или она идиотка, или самая безжалостная мучительница.
«Ах! Я веду себя, как падшая женщина! Он перестанет меня уважать! – думала Дельфина, но делала то, что делала: снимала с Эжена последние покровы и одновременно – с себя, выпускала на свободу свои волосы, укладывала его на спину и ласкала источник его страданий, уговаривая: «Перестань ненавидеть. Ради меня – прости! Ты дорог мне весь, но весь ты – сам по себе, только вот тут ты создан только для меня; я не требую, чтоб ты принадлежал мне целиком (оно и невозможно), с меня довольно этого…».
Теперь все десять её пальцев сладострастно цеплялись за его рёбра, а он, подмятый, комкал руками углы подушки; тепло оттекало от его конечностей, в нутро вдавливался тяжёлый горячий кулак, бьющийся, как второе сердце; сразу два насильника одолевали Эжена: женщина над ним и мужчина в нём; боли не было, но творилась настоящая пытка: от него чего-то требовалось, он должен что-то сделать или признать, чтоб всё прекратилось; он противился, но уже не понимал, почему: из презрения ли, или из удовольствия, или от незнания. В конце концов он отказался от всех усилий, претерпел ещё два натиска, и ком внизу живота лопнул, растёкся жаром по туннелям рук, ног, туловища; в глазах потемнело, слюна прогоркла.
Через мгновение Эжену показалось, что все его кровеносные жилы пересохли и по ним гуляют сквозняки; всё ещё слепой, он содрогнулся; его ладони упирались во что-то жёсткое и округлое, отталкивали это, вот оттолкнули,… вот он стал опоминаться…
– Что с тобой?
– Не знаю. Такого прежде не было…
Сначала Дельфина не придала значения этим словам, но встав и пройдясь по комнате до графина и обратно, она заметила стекающую по ногам склизковатую влагу – и так и застыла у края кровати, уставившись на сходное пятнышко на белоснежной простыне, там, где она только что сидела.
– Эжен,… что именно с тобой впервые?
– Какое-то… потрясение, провал,… словно агония…
– Тебе плохо!?
– … Сейчас – нет.
– А было?
– … Не знаю… Слишком это… непривычно,… непонятно…
– Но такого быть не может! – Дельфина подсела к нему, пряча ноги под пеньюар, – Хочешь сказать, что в течение почти двух лет во время всех наших страстных свиданий ты… оставался девственником!?
– Какая теперь разница,… – Эжен хотел повернуться набок, свернуться в клубок, но недобитая гордость его костенила, и он продолжал лежать на спине, тоскливо глядя в потолок.
Сознание Дельфины прожгла мысль: «Теперь он возненавидит меня!!!». Она сама готова была себя проклясть – таким мучеником выглядел её возлюбленный. Она суетливо укутала его краями одеяла, припала к его едва ощутимому животу.
– О, мой бедный! Не сердись! Я лишь хотела подарить тебе наслаждение, и чтобы ты не думал, что тебя используют;… показать, как ты любим!.. А что получилось!..
– Ты ещё можешь меня порадовать – просто дай чего-нибудь попить.
Дельфина неуклюжей опрометью сбегала к графину и вернулась с мокрым хрустальным стаканом. Эжен глотнул трижды, а она допила за ним и снова прильнула, тихо хныча.
– Не грусти, – сказал обесчещенный, разглаживая кончиками пальцев её волосы на одеяле, – Всегда хочется лучшего… Но раз пришли такие времена, что лавочники называют Бога своим товарищем, и все, кому не лень, злословят на Него; если пали последние ангелы, кто я такой, чтоб оставаться чистым?
Глава CXXVIII Анна в конце пути
– А ты была у Неё?
– Нет. Дух Правды не допускает: я недостойна.
– А если Он и меня не допустит?
– Веяния Его неисповедимы.
– Ну, нет! Я не такая, как вы, я жива, а значит – свободна!
Дануше промолчала.
Странницы подходили ко двору маленького дома с плоской крышей, сложенного из розового агата и окружённого синими кипарисами. От калитки тянулась очередь из сорока с лишним паломников. Светозарный привратник кланялся, говорил что-то, и каждый человек в сизой ризе, сокрушённо качал головой, закрывал лицо, как от стыда, и бежал прочь. Когда предшественников осталось пять, Анна расслышала слова ангела – то был вопрос «Ты достоин?». Ей показалось, что она стоит на настоящем льду, и ноги её примёрзли, но она порывисто вдохнула, словно бросая вызов незримому Властелину, и подняла глаза, готовая скорее умереть, чем отступиться.
– Ты хочешь говорить с Благодатной?
– Да.
– Ты этого достойна?
– Да, достойна! – твёрдо ответила жена своего мужа.
– Добро пожаловать.
Всё ещё хмурясь, Анна прошла по голубой дорожке, открыла дверь, переступила порог и сказала сидящей на лавке Женщине:
– Я не боюсь!
Глава CXXIX Девочка
За окнами снег, мчавшийся вдоль земли, вдруг остановился, помедлил – и полетел вверх…
– Тебе лучше?
– Да… Расскажи мне что-нибудь из твоего детства, что-то хорошее.
Дельфина подсела к Эжену, желая, но не решаясь положить голову ему на плечо.
– У мамы была в богатая сестра в Лионе. Она нас очень любила и то привозила, то присылала нам самые чудесные наряды. Помню, мне было лет шесть,…а Нази – девять, когда она подарила нам два шёлковых платья, почти одинаковых, в узкую бело-голубую полоску сверху вниз, с пышными рукавчиками и кружевной отделкой. На моём всё-таки было чуть больше украшений, и все признавали, что я в своём красивее… Мы поехали на какой-то пикник или на сельскую ярмарку. Я там каталась на качелях, в парке, высоко-высоко, и смотрела, как развевается моё платье… Ты что, плачешь?
– Нет…
– А я – да!.. Я так люблю счастье! Вот бы жизнь каждого человека состояла лишь из двух занятий: поиска блаженства и избегания страданий. Если бы все разом поверили, что только в этом и есть благочестие. Бог создал нас, чтоб радоваться вместе с нами, чтоб нашими руками умножалась красота земли. Вы говорите болезни! Но их же можно лечить! И даже не их самих, а боль! Ведь даже в смерти мы боимся не её самой, а муки умирания. А чем занята ваша мерзкая медицина!? Для кого Господь по всей земле рассадил травы и деревья, сок которых усыпляет чувства!? Вы говорите голод! А почему в городских парках не растут яблони, груши, черешни, орехи, смородина, крыжовник и другие съедобные ягоды? Почему живые изгороди делают не из винограда? Разве люди меньше бы любили своих усопших, если бы выращивали на могилах землянику, базилик, укроп или горох? Отчего архитекторы не выровняют крыши, не засыпят их хорошим грунтом и не засеют фасолью, чтоб её стебли свисали вдоль стен, мимо окон и жители с подоконника могли собирать свою часть урожая? Почему из одних фонтанов можно брать воду, а их других нельзя? Фонтан – ведь это ничто иное как водоём, сколько бы статуй в нём ни сидело!.. Вы говорите труд. Но и он может быть приятным. Разве сильный мужчина так уж намается, если срубит дерево, расколет камень, выкопает яму или донесёт до мельницы мешок зерна? А, сударь?
– Вовсе нет.
– Разве не любая молодая и здоровая женщина в состоянии поднять ведро воды или корзину моркови? разве замесить хлеб сложно или противно?
– Вряд ли.
– Плохо, что одни работают очень много, а другие очень мало: это и само по себе несправедливо, и разобщает людей. Вот и происходят революции… Говорят, скоро новая наступит… Мне страшно!.. Эжен, если это случится, давай сбежим вместе в твой Ангулем. Мне уже даже снилось, как мы там с тобой живём. Вот послушай: у нас – ферма цветов, длинные разноцветные грядки… Мы выращиваем их, чтоб делать краски. Если оборвать свежие лепестки, засыпать их специальным чёрным на вид порошком, потом измельчить и оставить в темноте на три часа, что получится что-то вроде теста, густо-красного или фиолетового, или рыжего. Из него надо будет сделать палочки…
– Наподобие вермишели!
– Или хоть шарики, что угодно, и если бросить этого теста в жидкость, она тотчас окрасится, а главное – наша краска ничуть не ядовита, ею можно придавать цвет молоку, сливочному крему, просто питьевой воде. Он пригодна также для рисования, для тканей опять же; с ней получается превосходная косметика, не вредящая коже!.. Твой замок – он ведь небольшой, правда?
– Просто двухэтажный дом из серого камня.
– А башня есть?
– Нет.
– А ветряная мельница? Они мне так нравятся! И снятся постоянно, то множествами, то по одной. Иногда они делают даже не муку, а… свет и тепло. Сама не понимаю, как это получается…
– В нашем краю больше водяных мельниц: ветры у нас непостоянны, а реки порожисты.
– Пообещай, что заберёшь меня туда, – Дельфина наконец осмелилась обнять друга за талию, поддерживая его, совсем ослабшего от её чарований.
– Поедем, если хочешь, только вдруг там всё на так, как тебе грезилось?
– Именно так – я верю!
– … Я тоже верил, и поныне в сумерках ума приходит эта мысль, что до революции земля цвела, а люди были счастливы… Но ведь книгах Дидро или Вольтера…
– Книги – выдумка!
– Конечно. Ты права во всём, что говоришь, – иначе быть не может – но что-то у тебя упущено, забыто что-то важное.
Дельфина потрепала его по волосам, как добрая мама – депрессующего шестиклассника:
– Это всё таракашки в твоей голове мельтешат, – сказала весело, – У меня всё…
– Почему ты разлюбила мужа?
– Ах!.. – резко отсела, плеснула руками по коленям, – … Это всё из-за дочери. Мало того, что у Анастази сразу родился мальчик, да ещё и этот изъян – шесть пальцев на ноге!..
– Какой же тут изъян? Тут прибыток. Вот было бы четыре…
– Брось свои шутки! Во всех таких вещах, конечно, виновата мать, а то, что вашей милости стукнуло за шестьдесят!.. Ну, и пожалуйста! Больше у нас ничего не будет: вдруг получится сын с двумя головами!
– А где она? Почему я её никогда не видел? («Не утопили же они малышку из-за второго мизинца!»)
– Обычно гостит у родни, у кого-то из шести тётушек и трёх дядюшек по разным лютеранским городкам. Есть ещё семьи кузенов и кузин, и везде её обожают. Она едва говорит по-французски и всем-то видом – немка. Туда её и замуж, очевидно, отдадут лет через пять-шесть.
Тут постучалась Тереза и предупредила в приоткрытую дверь:
– Сударыня, барон приехал, вас ждут к обеду через двадцать минут.
– Входи, – крикнула ей Дельфина, – Проводи господина Эжена и живо ко мне!.. Ну, иди, мой любимый!..
Добрая камеристка, тридцатишестилетняя наполеоновская вдова, давно уже отказавшаяся от собственной жизни, которую могла бы составить только из любовников и детей, обожала свою хозяйку, и к её неприкаянному кавалеру, за два с половиной года не подарившему ей ни булавки, была полна симпатии. Взяв под руку, она довела его до чёрной лестницы, опередила, помахала снизу в знак безопасности. Эжен спустился, вышел, и Тереза убежала, он же, постояв на крыльце пред утихающим снегопадом, вернулся, взошёл наверх и направился в другое крыло по анфиладе, видя каждую новую пару дверей в более ярком ореоле. За четвёртой он нашёл своё чудо – ель до потолка, увешанную стеклянными шарами с позолотой глаже зеркала, хрустальными бусами, бантами из газа с люрексом, снежинками и звёздами из крашеной соломы. К её крупным веткам крепились подсвечнички на прищепках. Рождественские огни догорели, лишь кое-где из воскового оплывыша торчал фитилёк, а хвоя осыпалась на пол, но этого Эжен не замечал, обходя дерево и шепча в восторге: «Tanne!..». Вдруг что-то прошуршало у полузанавешенного окна. Эжен заставил своё зрение просочиться сквозь плотную ткань, словно прокалывая её миллионом иголок, и увидел маленький девичий силуэт в углу подоконника. Повернулся к выходу, но самого его заметили гораздо раньше.
– Стойте, потойтите сюта!
Вернулся, забрался за портьеру с другой стороны.
– Простите, что потревожил, мадемуазель.
– Афкуста, – представилась девочка лет одиннадати-двенадцати, – А фас как софут?
– Эжен.
На коленях она держала книгу, в руках – деревянный нож. Сероглазая, тёмно-русая, простоликая, она никому бы не показалась миловидной, но эженово сердце провалилось на два ребра: мадемуазель де Нусинген была как никто похожа на своего французского деда. И смотрела так, словно тоже кого-то узнавала в незнакомце.
– А кто фы?
– Ваш покорный слуга.
Девочка улыбнулась:
– Это не отфет.
– Что вы читаете?
Подняла и показал обложу:
Karl L. Immermann.
DAS TAL VON RONCEVAL.
– Это роман?
– Нет, трама, тракётия… Это тавняя хистория. Потщти лекента.
– Плохо.
– Што?
– Что есть трагедии.
Глава CXXX Колодец памяти
У Богородицы не было нимба, но прямо над Её головой на низком потолке мерцал блик, от которого бежали кольца отсветов, как волны по воде – от канувшего камушка. Соскользнув по стенам и вполовину потускнев, они стекались к ногам Пречистой, прятались под край Её бедной, тёмной ризы. Когда Она встала, чтоб подойти ближе к гостье, центр лучей-обручей сместился, сохраняя свою связь с Источником. Проходя сквозь Анну, святой свет подсказал о своём предназначении. Понимая теперь, что говорить ничего не нужно, паломница протянула обеими руками брошь.
– Как он? – тихо спросила Благодатная, бережно беря и с нежностью рассматривая талисман.
– Хочет вырастить дерево… Ему ведь удастся?
– Да, пусть…
– Вы встречались с ним… в Раю?
– Нет. В мире спящих, единственном убежище во время великого бедствия, когда всё небо было красным от пожара двух столкнувшихся планет. Никого не скорбел больше него. Увидев меня, он взмолился, чтоб его вернули туда, в огонь.
– Он считал себя виноватым во всём, но был ли таковым?
– Да, в нём оказалось больше гнева и силы, чем в других людях. Но он не хотел того, что случилось. А между тем тогда, на влажных и мягких долинах, вместивших вдруг всё человечество, прорастало что-то лучшее, чем наше разбитое блаженство. Мы, беженцы Царства Радости, признавались себе, что всегда с печалью и жалостью думали о братьях и сёстрах, брошенных в Царство Боли. И вот мы видим их, изумлённых нежданным, досрочным прекращением их терзаний. Многие мученики потом говорили, что обнимая этих несчастных, потерянных и обретённых, они испытывали не меньший восторг и отраду, чем в миг первого вступления в мир вечного света. Те же, грешники, получили утешение, на которое не смели надеяться. Даже ангелы, безвольные, бесчувственные существа, держали за руки своих отпадших родичей, не так уж и обезображенных, нисколько не свирепых. На всё это я указала ему со словами: «Ты можешь осуждать себя или хулить своих властителей, отгонять смирение, гнушаться покоем, но посмотри, как много любви здесь, вокруг».
– А он?
– Его глаза были черны и глухи, отчаяние – обширно до того, что свет уразумения увиденного и услышанного в тот момент должен несколько веков лететь сквозь пустоту и лишь затем достигнуть сердца его духа… Не показалось ли тебе, что утешение его уже близко?
– Нет, но, может, моя провожатая, Дануше, окажется зорче. Ей как раз нужно встретиться с ним.
– Ты много заботишься о других, но у тебя есть и свои дела.
– Они мне кажутся каким-то тупиком…
– Отчего же? Всё довольно просто. Пойдём.
Они вышли во внутренний дворик, замощённый серо-голубым агатом. Посреди привозделся борт колодца, выложенный булыжниками молочного опала. Внутри Анна увидела прозрачную перегородку, делящую водоём на два отсека в форме изогнутых капель, стремящихся затечь друг в дружку. В одном искрилась лазурь, в другом – тошнотворно чернело. Богоматерь молвила:
– Ко мне приходят только за одним – чтоб избыть свои обиды, уничтожить тёмные воспоминания, – протянула алмазный ковш, – Набери своей рукой, а я выпью, и всё будет прощено.
– … Нет! Так нельзя!.. Это неправильно! Я не могу так поступить!
– Ты говорила, что достойна. Чего же?
– Что… я заслужила?… Если бы вдруг здесь оказался он, мой муж… Пусть он бы зачерпнул,… и мне поднёс… Не думаю, что он действительно, фактически настолько уж несчастен. Ему это внушило его необъятное самолюбие, да…
– А если нет?
– Тогда… он прав, и я не смею больше осуждать его.
– Но что будет с тобой?
– Ну,… если повезёт,… я аннулирую хотя бы часть его печалей.
– Давай так и поступим. Куратор! – справа от Благодатной возник белый Архангел, – Наша гостья хочет видеть Джорджа Байрона, поэта.
Тот, кивая, растаял в воздухе, а через минуту не его месте так же из пустоты проявился тот, кого Анна не видела уже почти восемь лет. Он мало походил на свою копию из её снов, был очень росл, лицом напоминал отца, а ужаснее всего был его красный, вроде турецкого, но укороченный кафтан.
– О Боже! Такая одежда!..
– Не бойся, Джордж, – сказала Богородица особенно ласково.
Вызванный, хромая, бросился к Ней:
– Пресвятая Владычица, позволь мне уйти!
– Джордж, перестань! – крикнула Анна, – Посмотри на меня! Я хочу только попробовать помочь тебе.
Несмело, искоса глянул:
– Ты это говорила сотни раз.
– Ну, значит, я верна себе… и тебе… Пречистая Матушка, дай ему ковшик. Иди сюда, смотри: эта чёрная вода – злопамятность всего человечества; то, что ты почерпнёшь, – будут только твои былые горести. Позволь мне выпить их, растворить в себе.
– Спятила! Ты сама в них растворишься, как в кипятке – крупица соли.
– Какое тебе дело до меня?
– Кем ты меня считаешь!? Кого другого поищи, чтоб согласился в свете Правды стать счастливым, отдав свои страдания другому!
– Ты уже растоптал все мои радости, наполнил болью каждый мой час, так пусть из этого выйдет какой-то толк.
– Я мог тебя обидеть, но не ради же корысти!
– Лучше с нею!
– Ничего подобного! – звякнул ковшом о край колодца и непреклонно скрестил руки.
– Что мне с ним делать!
– Я хочу уйти!
Богоматерь молча приблизилась к колодцу и выложила второй такой же ковш.
– Ах так,… – проговорил Джордж.
– Так, – Анна гордо тряхнула головой, – или мы стоим друг друга,… или ты не стоишь меня, – окунула черпак в черноту, двумя руками подняла и поставила ближе к мужу.
– Растоптанные радости? Боль каждый час?… Заманчиво звучит.
Он принял вызов – прежде, чем поглотить аннин яд и исчезнуть, набрал для неё своего.
Анна подняла к губам, шепчущим без конца: «Господи, помоги!» посудинку с весом взрослого человека, опрокинула в рот что-то безвкусное; оно даже не стекло в пищевод, а как-то исчезло во рту. Через минуту всё вокруг вдруг стало медленно увеличиваться.
Богородица превратилась в леди Ноэл. Анна, в радости не замечая окаменелости её лица, бросилась к матери, протянула к ней руки, но та вдруг со всего размаху ударила своё дитя по щеке, потом схватила за волосы и швырнула в борт колодца лбом…