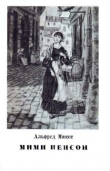Текст книги "Происхождение боли (СИ)"
Автор книги: Ольга Февралева
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 38 страниц)
Проводив глазами угрюмого и надменного молодого человека с чёрной папкой подмышкой, Эжен вдруг спросил:
– А кто такой Сорель?
– Скорей всего, писатель позапрошлого века, автор «Жизнеописания Франсиона» и «Экстравагантного пастуха». Если не кто-то из родни Аньес Сорель, фаворитки Карла VII, знакомой всем в основном по поэме Вольтера.
– Того самого?
– Он такой один…
– Едва ли остальные лучше.
– А он чем плох?
– Пушки уложили около шести тысяч человек с каждой стороны; потом ружейная перестрелка избавила лучший из миров не то от девяти, не то от десяти тысяч бездельников, осквернявших его поверхность. Штык также был достаточной причиной смерти нескольких тысяч человек. Общее число достигало тридцати тысяч душ. Каждую деревню авары спалили согласно законам общественного права. Всюду искалеченные ударами старики смотрели, как умирают их израненные жены, прижимающие детей к окровавленным грудям; девушки со вспоротыми животами, насытив естественные потребности нескольких героев, испускали последние вздохи; полусожженные люди умоляли добить их. Мозги были разбрызганы по земле, усеянной отрубленными руками и ногами.
– Это его философская повесть «Кандид, или Оптимизм».
– Знаю, проходили в седьмом классе. Господин Сен-Пре, учитель, дал нам книжку и вечером в спальне её читали по очереди вслух. После разбрызганных мозгов я попросил её у чтеца, взял и разорвал, объявив сволочной и поганой. На меня накинулись разом десять человек, но остальные девять встали на мою сторону; вышла отменная стенка-на-стенку, в которой от книжонки не осталось целой четверти страницы. Когда надзиратель приказал пропеть Te Deum, у меня были разбиты нос, бровь, губа и сломано плечо, другие пацаны выплёвывали зубы, держались за рёбра и головы; с пола можно было насосать стакан крови. Я сразу назывался зачинщиком, объяснил причину и на сей раз не встретил оппоненции: очевидно, что, если, прочитав две с восьмушкой главы, двадцать мальчишек чуть не поубивали друг друга, – эта повесть исполнена зла. Сен-Пре схлопотал выговор от директора, а я – место в коллежском лазарете. Он, словесник, проведал меня там, стал втирать про прогрессивность Вольтера, про иронию и что-то ещё, но впустую. С тех пор я не читаю художку.
Не дав спутнику набрать в грудь воздуха для нового вопроса, Эжен вдруг начал расспрашивать о катр-ванских подвижниках. Даниэль с энтузиазмом отвечал всю оставшуюся дорогу, забыв смотреть по сторонам и не чувствуя времени. Но, слушая его, неуклонный прагматик только вздыхал украдкой: эти молодые гении не умели создавать ничего, кроме речи; исключение – Жозеф, художник, но что ещё у него за картинки? Даже Рафаэль вроде на пианино играет (музыка – отличнейшая штука!), может поразвлечь насельников Дома Воке, а тут!..
Пришли. Навстречу в окружении встревоженных, полуодетых людей выступил их избранный старшина, сморщенный, но бодрый ветеран Калё.
– Привет, мой генерал! Чего гудите?
– Там к вам того… конкуренты…
В гостиной, сидя верхом на стуле, грозно зыркал по сторонам респектабельный, хоть и недолощёный господин, буржуазно упитанный, рослый, лет пятидесяти с лишком.
По стенам, на лестницах и открытых галереях второго этажа робковато толпились жители.
– С кем имею удовольствие? – спросил Эжен, представившись.
– Дарберу, содержатель приюта для бездомных у моста Турнель, – объявил пришедший, пристукнув об пол тростью, – Человек, которого вы разорили!.. За последний месяц у меня переночевало всего семьдесят четыре остолопа, из которых треть не вязала лыка и заблёвывала мне всё помещение, четверть устраивала дебоши, так что мне приходилось звать жандармов, а за остальными и без приглашения являлась полиция, никогда не забывающая взять штраф со всякого, кто носит цилиндр и часы на цепочке. Сегодня, просмотрев бухгалтерию, я понял, что у меня не найдётся даже сотни-другой, чтоб заплатить паре мордоворотов за урок вашей милости!..
С четырёх вершин на неудачника пошла лавина брани и угроз, но Эжен остановил её разводом рук.
– Действительно плачевно, я вполне сочувствую, – ответил, – и даже признаю свою ответственность. Согласен выкупить остатки вашего предприятия (– Дарберу вскочил – ) по цене, которая устроит нас обоих. Завтра или послезавтра загляну к вам, а сейчас не смею задерживать.
Недружелюбный гомон подтвердил гостю, что ему пора; он умотал, тряся туком.
– Правда что ли купите егонную ночлежку? – спросил Эжена Калё.
– Хотелось бы, но только её надо будет переделать частично в столовую – тогда вы сможете нормально обедать каждый день – частично в баню, благо река рядом. Если у кого найдутся лучшие идеи, я с радостью послушаю минут через десять, а сейчас позвольте показать товарищу здесь кое-что.
Оставив подопечных совещаться внизу, Эжен повёл Даниэля по лестнице:
– Как думаете, сколько спальных мест в этой гостинице?
– Триста? Триста с половиной?
– Затевая всё, я постановил себе костьми лечь, но чтоб не меньше тысячи.
– Но как!?
– Да, это был вопрос.
Вошли в комнату, где селились мальчишки от семи до пятнадцати лет, днём рассекавшие по улицам. Обстановка удивляла сразу: потолков почти не видно из-за сплошного дощатого настила, который поддерживали толстые брусья; простенько сколоченные лесенки вели наверх.
– А вот ответ – polaаti – русская фишка. Пара дней столярной возни – и жилая площадь удвоена.
– Невероятно!.. Неужели в Париже столько бесприютных!?…
Эжен прохаживался, проверяя, все ли форточки открыты.
– Я не говорю, что здесь каждую ночь спит тысяча несчастных. Просто могли бы. При необходимости можно и третий ярус соорудить – развесить между столбами гамаки, как на флоте. Видите крючки? А так в моей картотеке числится 622 лица…
– Тоже немало!
– И день ото дня их на пару-тройку да больше, поэтому и запасаю…
– Как, должно быть, трудно тут поддерживать порядок. Впрочем, вы из тех, кому особенно охотно повинуются…
– Вы представляете себе лес? Ну, или сад? Разве деверья нужно уговаривать расти, плодоносить и осыпаться на зиму? Порядок труден, когда он надуман, навязан ради самого себя, без учёта настоящих нужд. У нас же не казарма, а муравейник, да и то ленивый, с дисциплиной ради развлечения, ведь надо людям чем-то заниматься. Одни топят печки, другие следят за окнами, третьи греют воду; кому хватает сил – выколачивает подстилки, моют или метут полы; многие с утра уходят побираться или подрабатывать, но кто-то, особенно женщины, сидит здесь и рукодельничает; грамотные учат неграмотных… Как они распределяют меж собой дела, я не знаю. Я уж так, послеживаю в целом, даю советы… Ну, пойдёмте что ли.
В прихожем зале тесным, широким каре стояли в ожидании ночлежники, Калё с четырьмя приспешниками – чуть впереди. Даниэль на уровне инстинкта, но очень остро ощутил тревогу в окружении стольких простолюдинов. Да и для Эжена встреча с такой преградой была десертной ложкой адреналина, только ему это и нравилось; не зря он помянул лес.
– Сударь, – начал старшина, – хоть вы никогда не требовали с нас никакой платы, мы уже давно – по честному чтобы – собираем деньжата для вас. Вот, – подтолкнул локтем семнадцатилетнего парня; тот подскочил к Эжену и обеими руками передал увесистый холщёвый мешок, сладкий, звонкий перешелест внутри которого ни с чем нельзя было спутать, – примите с нашей благодарностью. Вклад в предстоящую покупку. Тут ровно триста франков.
– Аэ!.. – подношение чуть не вырвался из пальцев любителя больших масштабов, разочарование высыпало на лице барона с безудержностью диатеза.
– Для вас это, понятно, мало…
– Зато много для вас! – громко и с чувством возразил Даниэль.
– Да, точно, – опомнился Эжен, – Спасибо, это очень трогательно и кстати.
Поклонился, скрежеща зубами, и поспешил прочь.
На ближайшей площади сел на скамейку, грохнул мешок себе на колени ((о, будь там золото, достоинство бы было шестизначным!)), размотал линялый шнур и вытащил пригоршню самых мелких, тусклых, стёртых, гнутых, поседевших медяков.
– Черти полосатые! – горько, болезненно засмеялся, – Куда я это дену!?
– А чего вы ожидали? Сами как-то обмолвились о вдовьей лепте…
– … Вы спрашивали, не сочинял ли я стихов… Хотите, что-нибудь прочту?
– Своё!?
– Ну, да.
– Конечно!
– Только оно детское. Точней, вообще младенческое.
– Ничего! Ничего!
Покраснев, как полагается поэту на дебюте, помолчав, как будто собираясь с духом, глядя под ноги, Эжен негромко произнёс:
Чёрный злой болотный змей,
Малышей кусать не смей!
Кто не любит малышей,
Тех прогоним мы взашей.
Посмотрел за Даниэля. Тот дважды хлопнул веками, сделал какой-то недоуменный жест:
– Но оно же… совсем…
– А на основании чего вы ждали сонета, гимна или этой, как её? – элегии? Я прямо вас предупредил…
– Действительно, – литератор прояснел лицом, улыбнулся, – Порой буквальные значения – самые невероятные. Вы сочинили это, будучи ещё ребёнком?
– Да, для сестрёнок и братьев.
– Помните ещё?
– Конечно. Вот обычай хомяков – пожевал и был таков. Нравится?
– Рядом с вами модный поэт: Гюго, де Вини или тот же Каналис, – как пышный барочный фонтан – на брегу озера, обросшего ивами и камышом…
– А вы могли бы рассказать за час всю историю Франции?
– Прямо здесь? Теперь?
– Бог с вами! Нет. В Доме Воке как-нибудь, для просвещения жильцов.
– Пожалуй…
– Это не горит. Как будете готовы, черкните или устно передайте хоть через Ораса.
– Хорошо.
Эжен зачерпнул грошей: «Не побрезгуете?»; Даниэль подставил пригоршни, потом разделил мелочь по карманам.
– Увидимся, – встав, попрощался с ним эксцентричный южанин.
Потешки-самоделки одна за другой вылезали из памяти; иные были так забавны, что Эжен посмеивался на ходу. В конце концов на каком-то перекрёстке его заметил и остановил жандарм:
– Извольте объясниться, сударь.
– Что не так?
– Смех на улице есть нарушение общественного порядка и признак неблагонадёжных умонастроений. Потрудитесь изложить причину немедленно или пройдёмте в участок.
– Я вспомнил один стишок.
– Соблаговолите зачитать, только не громко.
– Жил да был огромный лось – хорошо ему жилось.
– Дальше.
– Это всё.
– Пройдёмте.
За полтора часа в участке Эжен собрал вокруг себя шестнадцать человек, которым перечитал на овации все свои стишата, выложил историю денежного мешка и Дома Воке.
Его выпустили уже в темноте. Он легко шагал, глядя под ноги; ему казалось, что Земля катится под его ступнями, как бочка – под ступнями трюкача.
Дома затолкал ношу под кровать. Говорят, что и после его смерти это сокровище нашли недоисчерпанным.
На табурете посреди спальни лежал на блюдце гладкий сердцевидный плод чуть крупнее яблока. В него была воткнута зубочистка с флажком: «Ядовито! Не есть ни в коем случае!».
Сперва обиделся: такая дешёвая провокация! Потом благодушно, любознательно и легкомысленно уступил – надкусил. Тотчас тёмная и нетопленная комната воспламенилась самыми жаркими красками. Морёные доски запьянили корицей, с затоптанного ковра вознеслись лучи всех цветов на свете. Обожженный ощущениями, Эжен попытался вскочить, но его ориентацию вывихнуло из обоих ушей, он бессильно упал спиной на пол, в который превратилась стена у кровати; над ним с нового потолка сквозь каминную кладку прорывалось сияние Млечного пути. А плод висел в воздухе; под его кожей клубился огонь; прозрачно-золотые перья излетали от выемки.
Проглотив кусок, Эжен залился теми же слезами, с которыми чуть не вытекли его глаза в день вступления в это жилище. Вокруг стало меркнуть; плод лёг в ладонь, коробка комнаты медленно закренилась обратно. Казалось, нужно на что-то решиться дальше, но никакого выбора не было: можно пересилить боль, наслаждение же неодолимо. Оттого он с таким лихорадочным ужасом и горючим рабским стыдом снова поднял ко рту сосуд соблазна, отчаянно впился всеми зубами, думая: покончу с этим поскорее. Но второй кусок дался легче. Кровь уже в готовности слилась с райским соком. Воздух, став водянисто мягким, обезвесил тело. Однако всё, что сохранялось от сознания, пульсировало страхом и протестом.
Тогда он, сладостный светоч, посланец Эдема, безустно заговорил, укоряя: «Как ты смеешь отвергать любовь к тебе Бога, Отца радости и блаженства?» – «Как же мне иначе!? Скорби матери! труды сестёр! жертвы тёти! – всё впустую! Я не добился успеха!». Ответа не было. И Эжен почувствовал нежданную свободу, ясность понимания удела. Долг, неоплатный всеми деньгами мира, вечная тьма раскаяний – это есть и будет, но если Кому-то нужно, чтоб ты познал и другое, почему бы нет?
В восьмом часу Эмиль спохватился об осиротевшем камине соседа и, поцеловав Беренику, словно уходя от неё в море, спустился на нижний этаж, вошёл в эженову квартиру, и голова у его поплыла от влажного, оранжерейного тепла, смеси густых запахов, в которой чуялись какие-то полыни и тины, мускус и кефир. Все зеркала и окна запотели, занавески – проволгли. Свеча в руке Эмиля загорелась розово с переливом в зелень. Что ещё за чертовщина!?
Эжена он нашёл в спальне – тот лежал ногами на подушке, свесив к полу руку. На стуле рядом валялись объеденное сокрестье чашелистиков и россыпь зёрен – шесть их от света разбежались, оказавшись тараканами.
– Эй, ты живой? – в недоумении Эмиль позабывал все английские слова.
– Да, – сонно отозвался Эжен.
– Что с тобой случилось?
– К тебе вопрос. Что ты мне подсунул за фрукт?
– Это-то? Это хурма. Приехала из Средней Азии и продалась за пять франков в гастрономе на улице Святого Оноре.
– Тебя надули, – Эжен приподнялся, сел, – Это плод райского древа жизни, до которого не добрался Адам.
– Да? – Эмиль успокоился, собрал объедки в ладонь и занял стул, – Ну, соболезную – теперь ты никогда не умрёшь. (– Эжен только засмеялся – )… Знаешь, какой у тебя сейчас вид? Как будто ты с утра огрёб пятимиллионное наследство, к обеду был произведен в герцоги и кавалеры ордена Трёх Золотых Рун, после выиграл в рулетку ещё восемьсот тысяч, принял сватов от алжирской принцессы, закатил пир, рядом с которым тримальхионов – всё равно что перекус на набережной, и предался утехам с десятком отборных красавиц со всех континентов, а на самом деле ты просто умял что-то вроде персика. Я должен в это поверить?
– Ты сам его пробовал?
– Да. Вкусно – спору нет, но!..
– Растиньяк! – кликнул тут из прихожей Рафаэль.
Эмиль вытращил глаза и прижал палец к губам, но Эжен отозвался:
– Заходи!
После семи шагов и трёх споткновений гость появился в спальне.
– Вы тут пытались устроить хамам? – спросил он уныло.
– Не про твою честь, что бы это ни было! – проворчал Эмиль.
– Чего стряслось? – поздоровался по-своему Эжен.
– Я принял решение. Я отрекаюсь от Феодоры – забирай её себе! Пусть отныне моя жизнь тонет в безумном распутстве, сгорает как факел…
Эжен кусал губы, чтоб не спросить: «Так ты за топливом?» и, притворяясь спокойным, выковыривал из зубов хурмяное волокно.
– Фино заплатил мне за первую часть тёткиных мемуаров, только я… Ах! Эта страсть давно, давно тлела в моей душе. Я должен рассказать тебе об одной из ужаснейших радостей моей жизни, о хищной радости, впивающейся в наше сердце, как раскаленное железо в плечо преступника! Я был на балу у герцога де Наваррена, родственника моего отца. Но чтобы ты мог ясно представить себе мое положение, я должен сказать, что на мне был потертый фрак, скверно сшитые туфли, кучерской галстук и поношенные перчатки. Я забился в угол, чтобы вволю полакомиться мороженым и насмотреться на хорошеньких женщин. Отец заметил меня. По причине, которой я так и не угадал – до того поразил меня этот акт доверия, – он отдал мне на хранение свой кошелек и ключи. В десяти шагах от меня…
– Стоял господин де Моленкур, неизлечимый клептоман, – вмешал Эмиль; Рафаэль хотел остановить его, но отвлёкся на Эжена, шарящего по карманам, – при котором дамы прижимают обеими руками колье к груди, а кавалеры прячут в кулаках часы и табакерки. Стоило твоему отцу отвернуться, как этот демон восьмой заповеди ринулся прямиком на тебя, но ты его сразу раскусил и,… – под обрыв этого непрошенного продолжения Эжен извлёк три пятисотки, тех самых, феликсовых: у Фликото он не мог ворочать крупными купюрами. Молодые люди уставились на деньги с примерно одинаковым удивлением.
– И что? – это прозвучало то ли как и что было дальше?, то ли как и что мне с этим делать?. Рафаэлева десница походила на клешню богомола в засаде.
– Едва ли, – отвечал Эмиль, опершись на плечо трагического честолюбца, – имел место врез по морде; скорее всего наш друг срулил домой, либо же пошёл в наступление и загрузил врага ведической философией до съезда крыши.
– Да нет! Нет! – пробудился Рафаэль, – Там… шла карточная игра…
– Ну, ясно, – перебил Эжен, – Ты проиграл гонорар.
– Я был уверен, что, как новичку, мне непременно повезёт!
– Везение – сказка. Выигрывает только тот, кто это умеет.
– Эжен, ты дома? – раздался из-за стены голос Бьяншона.
– Кам хиа! – зычно ответил ему Эмиль, – Нас уже много.
Рафаэль сел на стул в углу и, морщась, слушал, как Орас с приятелями обсуждал влажность воздуха и психоделические возможности фруктов. Когда собеседники наконец коснулись азартных игр, пожаловали Макс и Нази.
Эмиль: Макс, ты знаешь, что такое хамум?
Макс: Хамам (добрый вечер, маркиз) – это турецкая баня.
Орас: И скажите им, что если они не затопят камин немедленно, через час здесь всё будет в инее, а через месяц – в плесени.
Макс: С вашего позволения я скажу то, с чем шёл. Эжен.
Эжен: М?
Макс: Я тут пересчитал мои деньги – их оказалось девятьсот сорок один франк. Не поможешь раздобыть ещё два-три нуля?
Эжен: С удовльствием! Давай сдадим тебя за две тысячи де Люпо как одного из Тринадцати?
Макс: Что!?
Эжен: Всё, обязательно сдадим. Ты должен был спросить, что за Тринадцать…
Макс: Я понимаю, как тебе весло кривляться, потешая твоих прихвостней, но лучше припомни, сколько взял у меня, и постарайся в течение суток раздобыть хотя бы десять тысяч.
Эжен (вставая с кровати): Так. А на потолке что? Сколько всего тебе надо?
Макс: Полмиллиона.
Эжен: Хорошо.
Макс: Где и как?…
Эжен: В рулетку выиграю.
Макс: Не валяй дурака!
Эжен (показывая деньги): Что тебе-то? Я свои поставлю. Эмиль, Рафаэль, пойдёте со мной.
Макс: Ещё соседей пригласи полюбоваться на свой позор, когда!..
Орас (ему, тихо): Да ладно. В самом деле, если обожжётся, то только один…
Пока Эмиль бегал к себе за сумками, Эжен с Рафаэлем не спеша спускались по лестнице.
– Тебе нравится, когда на тебя орут? – спросил маркиз.
– Нет, но Максу можно.
– За что такая привилегия?
– … Ну, он… типа страдает. Из-за меня.
– Я, знаешь ли…
– Это не то.
Поехали в Пале-Рояль с таким разговором:
Эмиль: Кроме шуток, Эжен, а если ты продуешь?
Эжен: Нет. В карты или, там, в лото какое-нибудь – может быть, но рулетка – моя игра.
Эмиль: Если однажды когда-то тебе удалось…
Эжен: Это было не случайно. Потом объясню. Сейчас договоримся о наших действиях…
У стола, исчерченного клетками, расписанного цифрами и засыпанного деньгами, Эжен минут шесть в горестном исступлении восклицал о последней надежде, а спутники наперебой и ещё громче уговаривали его а) не отчаиваться; б) уйти отсюда, в) поставить хотя бы не сразу всё, что досталось ему от покойного скупердяя-деда. Крупье уже запустил колесо и чуть не промахнулся шариком, отвлекаясь на балаганящую троицу. Эжен застыл как бы в раздумье, закрыв рукой половину лица, потом швырнул полторы тысячи на число два. Эмиль покрутил пальцем у виска. Рафаэль кусал губы. Эжен отвернулся.
Через тридцать секунд раздалось многоласное «УУУУ!». Неистовый южанин разжился пятьюдесятью четырьмя тысячами и тут же ринулся ва-банк, но его осадили: больше десяти здесь не ставят. Друзья снова подкатили с увещеваниями. Крупье торопил. Эжен назвал число тридцать – и вот у него четыреста четыре тысячи. Публика взвизжала.
– Гоните этого прохиндея! – призвал старик из завсегдатаев, – Я знаю его, шельмеца! У него есть какой-то секрет! Он всех нас обчистит!
Эмиль наскочил на скандалиста бойцовым петухом; служители всех успокаивали; кто-то из наблюдающих пророчил синеглазому счастливцу скорый провал. «Да, надо уходить», – смирился Эжен, но тут настал черёд Рафаэля. Он слёзно выклянчил у друга три тысячи (начав с пяти), поставил на восемнадцать (Эмиль челночно бегал от товарища к товарищу, поочерёдно вися на каждом) и принёс в общую кассу ещё чуть больше сотни тысяч.
Сколько вокруг было горл, столько комьев в них встало. Некто похожий на управляющего прошептал Эжену, сгребающему богатство в саквояж: «Ради вашей же безопасности умоляю вас покинуть заведение». «Вы видите!? – сипел старик-обличитель, – У них и мешки заготовлены! Это же шайка мошенников! Зовите полицию!».
Но всё ограничилось мысленными проклятиями завистников. Победителям дали уйти. На пороге Эжен всё же вручил вышибалам по луидору, попросив никого не пускать по его следу, и столько же извозчику, чтоб ехал быстрее.
В фиакре:
Эмиль: Вот это было клёво!
Эжен: Да не слишком. Еле уложились…
Рафаэль: Неужели ты отдашь весь куш?
Эжен: Почему весь? У нас девять или восемь кусков сверху.
Эмиль: Не поручусь за себя, но Орас на это сможет прожить двадцать лет.
Эжен (вручая друзьям по тысяче): Спасибо за помощь.
Эмиль: О, биг тэнкс.
Рафаэль: Но как тебе удалось восторжествовать над колесом слепой Фортуны? Что за волшебство тебе подвластно? Ты словно приказывал, а шар – повиновался!
Эжен: Ничего подобного. Я просто предвидел остановку рулетки.
Эмиль: Это как это?
Эжен: Мои глаза могут не только увеличивать или уменьшать, но и ускорять или замедлять, если один из них закрыть, а другим смотреть. Левый торомозит, правый разгоняет картинку. И весь фокус.
Рафаэль: Ты разыгрываешь нас?
Эжен: Я знаю, что это аномалия… Когда я её у себя обнаружил? Лет в восемь. Был июньский вечер. Я шёл по какой-то опушке и заметил назревшие бутоны таких крупных колокольчиков на высоком стебле. Мне стало жаль, что они ещё не распустились; очень хотелось увидеть их прямо сейчас, но что поделать… Я двинулся дальше, повернулся к цветам правым боком; в левый глаз мне засветило низкое, но ещё яркое солнце. Видимо, я машинально подмигнул деревцам и лугу. Тут мне померещилось что-то зыбящееся, меняющее краски. Было не страшно. Я проморгался и уже нарочно ополовинил взгляд – и, надо думать, обалдел: деревья плясали, облака обогнали бы птиц, солнце упало за горизонт, звёзды поплыли своими дуговыми путями; потом рассвет-скачок, и, наконец, обогнав половину суток, я созерцал мои колокольчики во всей красе!
Эмиль: Итс вандефул!
Рафаэль: Ты настоящее чудо природы!.. А на людях это работает? Ты можешь предсказать чужие поступки?
Эжен: Нет, даже тропу муравья мне не предуследить. Заранее удаётся видеть только неизбежное: недолгосрочный рост ветки, движение светил, моменты баллистики…
Эмиль: Удружил же тебе изобретатель рулетки!
Эжен: Вообще так играть нечестно.
Рафаэль: В мире, где так мало справедливости…
Эмиль: Не парься – не в хамаме.
Макс и Орас ждали со свечой в зеркальной гостиной. Граф курил у окна с видом скорее скучающим, нежели взволнованным.
Орас: Анастази уснула…
Макс: Как успехи?
Эжен: Как обещали. Орас (протягивая медику внушительную пачку банкнот), возьми Христа ради, на добрые дела.
Эмиль (хлопая Бьяшнона по спине, как поперхнувшегося): Бери давай! У нас – по-братски. И даже круче. Глянь, что сейчас будет.
Эжен (водружая на стол две крупных дорожных сумки, расходящихся по швам от золота и серебра; обеими руками указывая на них побратиму): Можешь пересчитать.
Макс (отложив окурок, с какой-то английской миной, отодвигая от себя большую часть): Не забывай себя.
Эжен: Ты говорил, что тебе надо…
Макс: Я – это мы с тобой.
Эжен (скорее рассерженный, чем растроганный; почти на ухо графу): Двести тридцать пять тысяч – это я припомнил.
Макс (бессовестно): Нда? Я думал, больше. Впрочем, я не вёл учёта. (мимо) Он действительно выиграл столько в рулетку.
Рафаэль: Да, как ни поразительно!..
Эмиль: И больше бы сорвал, если бы не ограничения в ставке!..
Рафаэль: Трижды подряд угадал число. Верней… (Эжену) Рассказать о твоём даре?
Эжен: Валяй.
Эмиль (после того, как восторженный и витиеватый свидетель потратил почти полчаса на рассказ о чуде в казино; Максу): А ты так сможешь?
Макс: Так – нет. Но слегка сосредоточившись за ломберным столом, я сниму рубашки со всех соседских карт.
Рафаэль: Но как!? За счёт чего!?
Макс: Просто взглянув на них глазами других игроков. Я телепат.
Рафаэль: Вы учились, или с этим непременно надо родиться?
Макс: Когда мне ещё не было десяти лет, Париж голодал, как на третьем году осады. По наущению опекуна я каждый вечер выходил на улицу, останавливал какого-нибудь одинокого прохожего и приказывал ему к рассвету принести на это же место еды и денег, и к утру он уже стоял под нашими окнами со свёртком, обычно весь потрепанный, с пятнами крови повсюду. Я снова спускался, забирал дань и либо освобождал этого человека, либо, если он казался мне ещё на что-то годным, повторял распоряжение. Если же бедняга за ночь пропадал, к полудню приходил запасной посланник, так же завербованный в сумерках. Очевидно, что ими руководила вовсе не жалость к сиротливому белокурому ребёнку.
Впечатлительный Эмиль, бросив за спину: «Я сейчас», выскочил из квартиры и, весь дрожа, вцепившись в перила и свесившись над лестницей, прошипел: «Вот сволочь!». После эженовых цветов рассказ Макса его особенно взбесил, но всего больнее было то, что он уже записал этого психа себе в друзья, а дружба – незыблема…
– Заметьте, – продолжал тем временем Макс, глядя во тьму прихожей, – я никого не принуждал к грабежу и убийству. Те люди вольны были в выборе средств. Ты же, Эжен, не заставил отечески доверяющего тебе господина де Нусингена – с ножом у его горла – открыть главный сейф, не попытался вымочь деньги у своей дамы или снова обольстить банкирскую дочку.
– Эй!.. – гневно прикрикнул Эжен.
– Вы и его… подвергли внушению!? – допытывался Рафаэль, шныряя глазами между побратимами.
– Зачем? – ответил Макс, – С тем, для кого решение чужих проблем – любимая игра, не нужно колдовства и гипноза.
– Вы, Рафаэль, – заговорил Орас, – на мой взгляд, чересчур увлечены иррациональными теориями власти и обогащения. А в этом направлении, по-моему, любые устремления довольно порочны. Кроме честного труда, возможно, но у вас тут… и в этом усомнишься. Я уверен, для самого себя Эжен не сделал бы денег из воздуха, даже не попробовал бы. Макс же, если я правильно понял, выступил со своим удручающим признанием – в назидание, может быть, именно вам, чтоб вы задумались, как страшны иные средства…
Он слегка замялся. Тут вошёл Эмиль с упаковкой чистой бумаги в пятьсот листов:
– Орас, а это от меня твоему Даниэлю.
– Спасибо, но ведь я теперь легко могу ему это купить.
– И где ж ты это купишь – бесплатно? – усмехнулся журналист.
– Макс, – вспомнил Эжен, – у меня к тебе вертится просьба… Один очень порядочный человек решил купить нескольких девочек-подростков в бедных кварталах – спокойно, Орас – чтобы стать их воспитателем, устроить их будущее. Сам он боится и стесняется, ну, и попросил меня, а я, сам знаешь, в таких делах ни ухом, ни рылом…
– Ага! Это под тему чужих нужд и… как оно по-вашему?
– Халявы, сэр, – подсказал Эмиль.
– Сколько же девственниц я должен пригнать тебе и твоему заказчику, не заплатив за них ни ломаного гроша? Не мелочись. Я надеюсь получить незабываемое удовольствие от общения с их родителями.
– Мелочиться я не привык. Сколько сможешь, столько и обойди домов, и, раз уж ты такой мастер и любить говорить с народом, то всем отцам и матерям, готовым продать дочь, залей, пожалуйста, в мозги, чтоб они никогда не смели этого делать, чтоб ценили и берегли детей больше своей жизни.
– Это уж чёртова епитимья, – расстроился Макс, – Как ты отчитаешься перед тем благотворителем?
– Как есть: верну деньги и скажу, что желающих не нашлось. Только ты уж постарайся.
– Ладно. Час уже поздний. Орас, Рафаэль, поедемте вместе. Собирайтесь, спускайтесь и ждите под ближайшим фонарём, а я разбужу графиню. Кстати, приглашаю всех завтра к шести на новоселье. Знаете улицу Облен, что поднимается от Хлебного рынка? Если войти в гору, то по правую руку будет префектура, потом пожарная часть, швейная фабрика, два-три жилых дома, перекрёсток, а там, в строении N30, над лавкой «Бакалея и кондитерская» – наша с Назии квартира. Запомнили? В шесть.
Друзья разошлись, только Эмиль задержался, чтоб выпалить:
– Охота тебе вожжаться со всякими выродками!
Эжен не ответил и через три секунды остался один. Он погасил свет, засел в спальне. В голове хороводили разные мысли: очень кстати Макс с его уловкой и подарком – вот (чуть не забыл!) стартовая сумма для сделки с Дарберу; но что-то он уходит в тень, не попросил помочь с переездом… Улица Облен, она на холме, а у подножия какое-то аббатство… Соврал Дельфине: никакой это не первый раз: во сне или в бреду случалось, правда, это толком не считается, ну, разве для Ораса… Это он растрепал Максу про Викторину? сам я вроде бы о ней не думаю…
Поймал себя стоящим у окна, разглядел внизу унылую фигуру, знакомый белый воротник. Не долго думая и ничего сверх имеющегося не надев, сбежал на снег:
– Эй, граф! Давно тут бродите? Пойдёмте – погреетесь.
– Представите меня всем своим друзьям? – проскрежетал Франкессини.
– Если набегут за ближайшую минуту, придётся…
– Я поднимаюсь первым; вы – за мной, поодаль.
Так и поступили. Не доходя один марш до квартиры, гость вжался в угол и придушенно велел обогнать его, отпереть дверь и зажечь в квартире как можно больше огня. Эжен всё это выполнил, заодно спрятал сумку с деньгами за занавеску. Наконец они с Джоном Греем оказались наедине в зеркальной комнате.
– Вы безумец из безумцев! Зачем вы меня привели?… Ответьте же!
– Что, если я вам рад… Порой вы нравитесь мне больше всех, кого я знаю. Вам не нужно от меня ни денег, ни еды, ни крова, ни любви; вы не заставляете меня ни сводить вас с меценатами, ни читать свежие романы и придумывать сюжеты для статей и повестей, ни покупать малолеток, ни выслеживать таинственных врагов. Вы просто хотите моей смерти.
– Это, по-вашему – просто!?…
– Проще всей той дури, которой я маюсь день за днём, а в вашем исполнении – так, наверное, вообще…
– Не обольщайте!..
– Боже упаси! Уверен, вы уже усвоили, что я такое. Насколько бы ни был труден мой прошедший день и как бы ни хотелось мне сдаться на вашу немилость, в нужный момент что-то внутри скомандует «к обороне», и уж тогда держитесь… Потом наш договор.
– Он давно нарушен вами. Этот странный приют на улице Женевьевы… Более полутысячи людей, подчинённых вам…