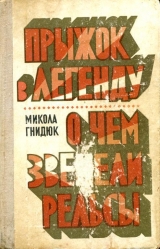
Текст книги "Прыжок в легенду. О чем звенели рельсы"
Автор книги: Николай Гнидюк
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 45 страниц)
ПОСЛЕДНИЙ УРОК
– Так и надо их, – заметил Медведев, когда Красноголовец закончил свой рассказ. – Миной так миной, камнем так камнем. Хитростью так хитростью. Что ж, поздравляю с победой, дорогой тезка. – Он обнял Дмитрия, похлопал по спине и спросил: – А как семья? Устроилась уже? Спать есть на чем? Передайте супруге, пусть извинит, если что не так.
– Не беспокойтесь, Дмитрий Николаевич. Все в порядке. Устроились хорошо. И от меня, и от жены моей, Нади, – великое вам спасибо. Мы знали, что вы нас в беде не оставите. И когда я сидел в камере, я был уверен: вы сделаете все, чтобы выручить и меня и мою семью.
– Ну, положим, из тюрьмы вы сами себя освободили.
– Не совсем так. Если бы здесь, в отряде, вы с Александром Александровичем заблаговременно все не предусмотрели, если бы не проинструктировали меня, как поступать в случае ареста, – кто знает, удалось ли бы мне выйти оттуда живым…
– Главное – все закончилось благополучно. Вы с семьей в отряде, Клименко со своей Надей тоже здесь. Вот жалко, что мы Шмерег и Бойко не забрали. Вы виделись с Шмерегами?
– К сожалению, нет. Возвратясь из Ровно, я не мог обойти квартиры наших товарищей. Боялся, что гитлеровцы будут следить за мной. Но с Бойко советовался о них. Петро говорит: куда им ехать? Их двое, да Настя, да дети… Пускай, говорит, остаются. Взрывчатки и оружия у них в доме уже нет. Кто к ним привяжется? Я и подумал: Петро, пожалуй, прав…
– Возможно, – согласился Медведев. – Тем более что по железной дороге к нам не проедешь и пропуска ваш друг Шкуратов не добудет.
– Его в тот же день, как я вернулся в Здолбунов, забрали. Пришли на кухню и взяли. Даже халат скинуть не дали. Иванов видел, как его впихнули в полицейскую машину.
– Иванова мы тоже решили отозвать в отряд, – сказал командир. – Новый комендант хоть и дубина, но уж слишком подозрительно начал поглядывать на Аврама. Знает, что Иванов был любимцем Вайнера, и придирается к нему на каждом шагу.
Когда через два дня Медведев повторил эти слова Иванову (тот прибыл в отряд с отчетом о движении поездов), Аврам огорченно возразил:
– Жалко, Дмитрий Николаевич, бросать сейчас это дело.
– Понимаю, отлично понимаю, Аврам Владимирович. Но ведь вам нельзя оставаться в Здолбунове. Все равно вы не можете регулярно передавать нам разведданные. Сейчас вы бываете у нас раз в неделю, а то и реже. Чего стоят данные, доставленные с таким запозданием?
– Но, Дмитрий Николаевич…
– Никаких «но» не может быть. Сказано: перебираться к нам, – значит, перебираться. Встретим вместе Новый год, а там – в путь-дорожку дальнюю…
– В путь-дорогу?..
– Да. Партизанам на Ровенщине после Нового года уже нечего будет делать. Сюда придет Советская Армия. А мы пойдем дальше, опять во вражеский тыл. И вам придется переквалифицироваться. Не будет уже бригадира уборщиков железнодорожной станции Здолбунов – партизанского разведчика и связного Иванова. Будет боец-партизан Иванов. Стреляете хорошо? Получитесь. Идти придется с боями. Будут стычки с гитлеровцами. Да и погани всякой немало развелось.
Иванов вынужден был подчиниться приказу командира и остался в отряде. Но позиция лесного жителя никак не устраивала Аврама. Он был уверен, что командование преждевременно отозвало его из города, что опасность ему там не угрожала и что ему там нашлась бы работа. Несколько раз он просил Медведева разрешить ему вернуться в Здолбунов, но командир был неумолим. Тогда Иванов пошел к Лукину: авось тот ему посочувствует и уговорит командира. Но Александр Александрович тоже считал, что в Здолбунов идти Иванову опасно. Обращался к комиссару – и Стехов был такого же мнения.
И от Лени Клименко ни командиру, ни его заместителю, ни комиссару не было покоя. Как переживал он, как обвинял себя за то, что сжег газогенератор и теперь ему не на чем уехать из отряда.
– Будь у меня мой «газон», – говорил Леня, – только бы меня тут и видели! В Здолбунове найдется работа, я себе представляю: на станции полно недобитых фрицев, которые бегут в свой фатерлянд, поезда ходят нерегулярно, составов не хватает, кругом паника… В такое время можно устроить веселый спектакль с фейерверком…
– Что ты задумал? – спросил я как-то Леню, хотя прекрасно понимал, о чем идет речь.
– Как что? Можно подорвать фрицев прямо на станции или поблизости…
– Опомнись, Леня, – успокаивал я его, – это не так легко, как ты себе представляешь. Сейчас доставлять взрывчатку в Здолбунов очень опасно. Да и стоит ли из-за этого рисковать? Не морочь себе голову здолбуновскими делами. Еще несколько дней, и туда придут наши части… Ты лучше подумай, что будешь делать дальше? Ведь мы готовимся к походу в Карпаты…
– В Карпаты пойду с великой охотой… А взрывчатку в Здолбунов доставлять не нужно – хватит двух-трех противотанковых гранат. Впрочем, у меня в Здолбунове есть еще кое-какой запас. Кроме того, остались неподорванные шпалы-мины. Их непременно нужно того… А то когда придет наша армия – поздно будет. Что тогда делать? Их не разрядить, да и добыть их оттуда будет нелегко.
– А много ли таких шпал осталось? Ведь мы с Гроудой уже не один эшелон на них подорвали.
– Много не много, а несколько штук есть. А командир не разрешает мне идти. Говорит: пойдешь, когда освободят Здолбунов, когда наши части будут здесь. Вытащишь тогда свои шпалы – никому они уже не будут нужны. А мне не хочется, чтобы они так и пролежали, без вреда фрицам. Не для того мы их готовили, не для того закладывали. Плохо, что нет «газона», а то бы я за одну ночь справился…
– Что, без разрешения командира?
Молчит.
– Ты, Леня, смотри! У нас дисциплина строгая. Если каждый начнет делать все, что вздумается, – знаешь, что будет? Жаль, не понимаешь ты этого…
– Я понимаю и оттого не иду, подчиняюсь приказу, хоть и нелегко сдержать себя…
С Ивановым у меня тоже состоялся серьезный разговор. Он пришел в надежде на поддержку.
– Скажите, – спросил Иванов, – почему именно в то время, когда наша армия вот-вот подойдет сюда, партизанский разведчик не должен находиться там, где он может еще что-то сделать?
– А помните, Аврам Владимирович, нашу первую, беседу? Тогда вы, кажется, говорили, что бессмысленно жертвовать собой, когда в этом нет нужды, когда человек не уверен, что этим хоть немного приблизит победу над врагом…
– Это я мог говорить тогда, – возразил Иванов, – когда искал свое место в борьбе с врагом. А сегодня, когда уже кое-что сделано, хочется большего…
– Не прибедняйтесь, дорогой друг, вы сделали не так уж мало.
– Это можете сказать вы, потому что вы не в долгу перед Родиной. А я… Сколько бы я ни сделал для Родины, всегда буду считать: можно сделать больше.
– Что же, например, вы сделали бы в Здолбунове? На станции вот так, открыто, появляться вам нельзя. Сразу же спросят: где был? что делал?
– Не обязательно появляться на станции. У меня есть одна идея: в последнее время фашисты организовали при станции склад горючего. Вот бы подорвать этот склад! Если бы командование согласилось отпустить меня, я пошел бы, взорвал и скорехонько вернулся. Замолвите за меня словечко Дмитрию Николаевичу, прошу вас.
– Не замолвлю, Аврам Владимирович. Можете на меня сердиться, но не замолвлю. Да и Дмитрий Николаевич, я уверен, не отпустит вас из отряда.
Ушел он от меня грустный. И мне было в какой-то мере жалко его, жалко, потому что и на меня длительное пребывание в лесу действовало гнетуще. Самого тянуло в город, самому виделось какое-то новое задание, связанное с неожиданностями и риском. Но что поделаешь, если нашу миссию «городских разведчиков» считают законченной и всех нас – и Кузнецова, и Струтинского, и Шевчука – отозвали в отряд?
Каково же было мое удивление, когда через несколько дней я узнал, что командир разрешил Иванову идти в Здолбунов, и не только разрешил, а дал задание! Когда же мне объяснили, в чем дело, я понял: Дмитрий Николаевич изменил свое первоначальное решение не потому, что поддался на уговоры Иванова, а просто возникла в этом острая необходимость. Иванова послали в Здолбунов предупредить наших людей, которые там оставались, об опасности, а кое-кому и помочь переправиться в отряд. Предупредить в первую очередь нужно было Шмерег, потому что из Ровно пришла невеселая, тревожная весть: гитлеровцы начали арестовывать людей, с которыми встречался гауптман Пауль Зиберт. Первым схватили Казимира Домбровского. Бросили в тюрьму Валю Довгер – девушку, которую Пауль называл своей невестой и за которую просил самого рейхскомиссара Коха. Почти одновременно с нею гестапо забрало Юзефа Богана с женой и пятью детьми – в их доме снимал комнату Зиберт. Потом пришли за Надеждой и Леонидом Стукало – хозяевами квартиры, где частым гостем бывал тот же гауптман.
Из Ровно дорожка могла привести гестапо в Здолбунов, на улицу Ивана Франко, 2, в дом братьев Шмерег, где всегда останавливался Пауль Зиберт. Нужно срочно послать кого-то туда, нужно спасти товарищей. И тогда в штаб вызвали Иванова.
– Задание поняли?
– Так точно, товарищ командир!
– На станции не появляться. Не попадайтесь на глаза знакомым. Сами к Шмерегам не ходите. У вас есть где остановиться?
– Есть.
– Свяжитесь с Бойко, а он пусть предупредит Шмерег. Если они могут выехать к кому-нибудь в село – пусть немедленно выезжают. Если же нет – тогда вам придется провести их сюда.
– Понимаю.
– Только мешкать нельзя. Сразу же возвращайтесь.
– Хорошо. А как с бензоскладом?
– Не нужно.
Никто в отряде не знал тогда, что выручать Шмерег уже поздно, что обоих братьев – Михаила и Сергея – гитлеровцы бросили в тюрьму.
В тот же день Иванов ушел в Здолбунов. Ушел и назад уже не вернулся… Что с ним произошло? Мы чувствовали, что случилась беда, но отгоняли от себя зловещие мысли. Мы шли на запад, удаляясь от линии фронта. Леса, где мы жили, дороги и тропы, исхоженные нами вдоль и поперек – из отряда в город, из города в отряд, да и сами эти города – Ровно и Здолбунов – были уже советскими. А мы всё дальше и дальше продвигались в глубь вражеского тыла на запад, шли навстречу победе.
И она пришла, завоеванная в ратной борьбе, добытая тяжкой ценой. Пришла, чтобы утвердить жизнь на земле и пробудить людские силы к творчеству, чтобы на веки вечные вчеканить в память народа имена сынов и дочерей его, прославивших Отчизну. Сколько их? Тысячи? Миллионы?
…Снова Ровно. Снова Здолбунов. Города, с которыми породнила меня война. Но войны уже нет. А потому нет и коммерсанта Яна Богинского. И партизанского разведчика уже нет. Совсем другие нынче у меня дела.
Знакомые улицы, дома, люди…
Встречаемся. Расспрашиваем друг друга, вспоминаем былое.
Красноголовец… Бойко… Жукотинский… Шмереги…
Да, вот они – братья Шмереги. Прошли через гестаповские пытки, выстояли и возвратились в свой родной город. Не успели гитлеровцы замучить их.
А Леня? Где Леня Клименко? Нет его.
Плачет Надя, глядя на дочку Галю, оставшуюся сиротой. И я не нахожу слов, чтобы утешить ее. Да и не ищу этих слов, потому что у самого тяжко на душе.
Леня, Леня! Ты был неугомонный и таким остался до конца. Ведь говорили тебе: погоди немного, приедут саперы – и пойдешь с ними шпалы свои добывать. А ты не послушался. Ты не захотел ждать. Ты решил сам стать сапером. А сапер ошибается только один раз в жизни…
Иванов. Кто скажет, какая участь постигла его? Не о нем ли рассказывают люди? Что будто бы за несколько недель до того, как освободили Здолбунов, полицаи и жандармы окружили забитый домишко на окраине города и начали обстреливать его. А оттуда кто-то отстреливался. Враги долго не могли ворваться внутрь. Кто ни сунется – пуля валит с ног. Когда же того, кто засел в домишке, вытащили наружу и кинули в кузов машины, он был весь в крови и без памяти.
Неужели это был Иванов? А может, нет? Может, он жив? Может, возвратился в Цуманский лес уже после того, как наш отряд ушел на запад? Может, попал в какой-нибудь другой партизанский отряд, а после вместе с советскими войсками гнал фашистов до самой Эльбы? Может быть, теперь он на Урале и в эту самую минуту рассказывает детям о своих здолбуновских друзьях?
Почему же тогда он не дает о себе вестей?
На все эти вопросы, постоянно мучившие меня, нашелся наконец ответ. Дал его Казимир Домбровский – тот самый Домбровский, который первым из наших ровенских подпольщиков попал в гестаповский застенок и которому посчастливилось уйти от смерти.
Вот что он мне рассказал:
– Сидело нас в камере человек тридцать, а то и больше. То и дело открывалась дверь. Или вызывали кого-нибудь, или новичков приводили. Никто никого не спрашивал, за что арестован. Но со слов тех, кто уже успел побывать на допросе, я догадался, что гестаповцы интересуются каким-то обер-лейтенантом или гауптманом, который будто бы был большевистским агентом. У многих арестованных в разное время квартировали немецкие офицеры, и теперь злополучным хозяевам приходилось за это расплачиваться. Я сразу же смекнул, какого офицера имеют в виду гестаповцы, и на допросе заявил, что приходило ко мне в дом много немцев, что своих визитных карточек они мне не оставляли и поэтому я не знаю, был ли среди них тот, о ком спрашивают.
Нас еще не били и не пытали. Только кричали и угрожали. Но однажды вошел в камеру гестаповец и объявил:
«Мы хотим показать вам настоящих партизан и нашу беседу с ними. Увидите, как они будут ползать у наших ног… Надеюсь, после этого до вашего сознания дойдет, что нам нужно говорить только правду…»
Меня и таких, как я, повели в какое-то подземелье. Она напоминало цех бойни. Воздух затхлый, на цементном палу, черном от грязи, стояли и лежали тяжелые дубовые стулья, какие-то колоды, палки, колючая проволока и прочие орудия пыток. В потолке и стенах торчали металлические крючья, от которых свисали до пола стальные тросы.
Ужас охватил меня, когда я очутился в этом застенке.
Нас выстроили вдоль стены, на руки надели наручники, перед нами натянули трос – так, чтобы мы не могли пошевельнуться.
В подвал ввели какого-то юношу в рваной одежде. Тусклый огонек маленькой электрической лампочки осветил его лицо. Оно все было в синяках и ссадинах, заросло рыжеватой щетиной. Глаза запали, налились кровью.
Раздели его догола, обмотали стальным тросом и подтянули к потолку. Слегка опустили и начали бить березовыми палками, колючей проволокой. Бьют, а он молчит. По всему телу кровь проступила, живого места не осталось. Молчит.
Его снова подтянули на тросе, снова били, кололи шпильками, иглами, на наших глазах резали, не спеша, зверски расправляясь с бессильной жертвой…
Боже мой! Как только человек может такое выдержать… И мы ничем не могли помочь.
У Домбровского на глазах выступили слезы, он замолчал, свернул цигарку, затянулся крепким дымом махорки и снова заговорил:
– Палачи перестали издеваться над юношей только тогда, когда он потерял сознание… И не только он. Некоторые из нас не выдержали этого ужаса. Я сам думал, что с ума сойду. В застенок привели еще нескольких. Так же зверствовали над ними у нас на глазах, но никто из пытаемых не проронил ни слова. Мы видели подлинных героев, непобежденных советских людей.
Но больше всего запомнился мне этот паренек. Поздно вечером его втолкнули в нашу камеру. Выглядел он ужасно. Вместо одежды висели какие-то клочья. Один глаз совсем заплыл кровью, губа рассечена; он не мог подняться на ноги.
«Что, хлопцы, – тихо проговорил он, – не узнаете? Видите, как они меня расписали?»
Чувствовалось, что ему трудно говорить, что тело его, на котором не осталось живого места, нестерпимо болит. Но он заставлял себя перебороть боль, хотя это и стоило огромных усилий.
«Они хотят знать про партизан, – тихо говорил он. – Сказали, что убьют меня, если я ничего им не скажу. Как будто моя смерть может облегчить их судьбу, как будто она спасет фашизм от неминуемой гибели… Думают: я испугаюсь угроз и пыток. Ждут, когда стану на колени и попрошу милости. Не дождутся…»
Юноша не мог спать – боль не давала. Он знал, что завтра уже ничего не сможет сказать, что мы – последние его слушатели.
«Вы думаете, мне не хочется жить? Еще и как хочется! Я учитель и всю войну мечтал, как я снова вернусь в школу и буду учить детей. Теперь уже не придется… Среди вас нет учителей?.. Нет? Очень жалко! Как это чудесно – быть учителем!..»
А когда рассвело и за стеной камеры послышались тяжелые шаги кованых солдатских сапог, он поднял, голову, прислушался и проговорил:
«Это за мной, товарищи. Прощайте… И не тужите. Все равно мы победим».
Гестаповский офицер, вошедший вместе с солдатами, приказал им поднять его с пола.
«Я сам», – спокойно проговорил юноша и, собрав силы, поднялся на ноги.
Сделал шаг, пошатнулся. Солдат хотел поддержать его, но он сделал знак рукой: «Нет!», обернулся лицом к гестаповцу и сказал:
«Лучше сразу кончайте. Все равно я не скажу ни слова. Потому что я – комсомолец! Я – русский! Я – Иванов!..»
Офицер что-то крикнул солдатам, и они силой выволокли юношу из камеры.
Назад он так и не возвратился.
…Иванов не дожил до того дня, о котором мечтал, – дня, когда он снова войдет в класс и начнет свой первый послевоенный урок. Но последний урок свой – урок стойкости, мужества и героизма – он провел как настоящий советский учитель, как достойный сын матери своей – Отчизны.
ЭПИЛОГ
Перед здолбуновским вокзалом, в центре широкой площади, стоит монумент: на высоком пьедестале – бюст воина, застывшего в неудержимом порыве, сжав в руке гранату. Волевое, мужественное лицо. Сосредоточенный, устремленный вперед взгляд.
Всякий раз, приезжая в Здолбунов, я подхожу к этому памятнику. Как будто с живым, встречаюсь со своим боевым другом – Николаем Приходько, комсомольцем, Героем Советского Союза. Хоть быстро оборвалась его жизнь, но в те грозные дни он всегда был с нами.
Когда я стою перед памятником Приходько, мне кажется, что это памятник не только ему, а и всем его побратимам, всем, кто ценой жизни добыл себе право на бессмертие.
Знакомой дорогой иду на улицу Ивана Франко, к домику, где по сию пору живет семья Шмерег. Годы наложили печать на все. Лицо Михаила Васильевича избороздили морщины, поредевшие волосы на голове совсем поседели. Но, несмотря на годы, на пенсионный возраст, он все так же бодр и энергичен, как когда-то. Младший Шмерега – Сергей – еще работает, там же, в депо. Завел свою семью, свой дом. Оба брата – известные, уважаемые люди, передовики производства, не один раз получали премии и благодарности, о них пишут в местной прессе.
Нет уже Анастасии Тарасовны – мудрой, сердечной женщины, хозяйки гостеприимного дома…
Гордится Михаил Шмерега своими сыновьями: Алексей живет и работает в Мурманске, Василий служит во флоте, Юрий – помощник машиниста паровоза.
Дмитрий Красноголовец после войны не захотел бросать портняжное дело. Его спрашивали: «Может, Дмитрий Михайлович, вернетесь в железнодорожную милицию?» – «Куда уж мне! – отвечал он. – И годы не те, и здоровье». В дни, когда праздновали двадцатилетие Победы советского народа над гитлеровской Германией, мне было очень приятно поздравить его с высокой правительственной наградой – орденом Красного Знамени.
А Петр Бойко не дожил до этих дней – сердце не выдержало. Дочь его, юная подпольщица Валя, – теперь инженер-геодезист. Она окончила Львовский политехнический институт и выехала на работу в Прибалтику.
Жорж Жукотинский и Владек Пилипчук живут в Польской Народной Республике, в городе Замосць. Они навещают Советский Союз, бывают в Здолбунове, но чаще всего – в Москве. И это не случайно: ведь здесь, в столице нашей Родины, живет Ванда – та самая Ванда, которая сыграла немалую роль в сложной боевой операции по взрыву железнодорожного моста. Только теперь она – нежная и заботливая мать. В партизанском отряде Ванда познакомилась с разведчиком Владимиром Ступиным и после войны стала его женой. Владимир Иванович закончил Московский художественно-архитектурный институт, готовится к защите кандидатской диссертации.
Во Львове я часто встречаюсь и с Венедиктом Кушнеруком. В дни войны нам так и не удалось познакомиться, я знал о нем только из рассказов Петра Бойко. И вот спустя много лет мне случилось побывать в Сокальском районе Львовской области, где велась геологическая разведка залежей каменного угля. Там я услышал знакомую фамилию: Кушнерук. И хотя Кушнеруков на белом свете немало, этот инженер-геолог оказался именно тем, о ком я думал. Познакомились, вспомнили былое… Недавно я поздравил Венедикта Кушнерука с успешной защитой диссертации на степень кандидата геолого-минералогических наук.
Я долго не мог выяснить судьбу Иржи Гроуды и других чешских товарищей. Слышал только, что сразу же после освобождения Здолбунова от гитлеровской оккупации они пошли добровольцами в ряды Советской Армии и погнали фашистов на запад. А позднее? Что сталось с ними?
Май тысяча девятьсот шестьдесят пятого года. Во Львов на торжества по случаю двадцатилетия Победы над гитлеровским фашизмом прибывает делегация Общества чехословацко-советской дружбы. В числе гостей – вдова пламенного чешского писателя-коммуниста Юлиуса Фучика – Густа Фучикова. Она представляет своих коллег – активистов общества.
Подполковник танковых войск Чехословацкой армии протягивает мне руку:
– Владимир Паличка.
Паличка? Может быть, и на этот раз счастливый случай свел меня с бывшим здолбуновским подпольщиком? Мы не были знакомы, условия конспирации не позволяли нам встречаться тогда. Тот Владимир Паличка, который вместе с Гроудой работал в Здолбуновском депо, даже ничего обо мне не знал. Ему было известно, что Иржи получает задания из партизанского отряда, а от кого именно – оставалось тайной. Он знал только одного человека: Леню Клименко.
Спрашиваю подполковника:
– Вы случайно не из Здолбунова?
Смотрит на меня пытливым взглядом и отвечает:
– А что – и вы здолбуновский?
Так больше чем через два десятилетия познакомились двое людей, в годы войны плечом к плечу боровшихся с врагом.
Припомнили мы историю с поворотным кругом, резиновые шланги, шпалы-мины, желтые танки… Вспомнили Колю Приходько, с которым Паличка до войны состоял в одной комсомольской организации, Леню Клименко, который всякий раз, встречаясь с Владимиром, подавал новые идеи, Иржи Гроуду – того самого, который когда-то сказал мне: «Зовите меня просто Юрой».
Где же ты сейчас, соудруг Гроуда?
…Татры, ноябрь тысяча девятьсот сорок четвертого года. Части Первого чехословацкого армейского корпуса ведут борьбу с гитлеровцами, освобождая родную землю. Дуклянское ущелье. Высоты Яруха, Обшар, Кота, Грабив, Безымянная… Овладеть этими высотами и закрепиться на них – значит пробиться на дорогу, которая ведет в глубь Словакии, а дальше – на Прагу.
Враг свирепо обороняется: каждую атаку чехословацких бойцов встречает градом пуль, мин и гранат. Особенно яростный бой шел за высоту Безымянную – последний опорный пункт гитлеровцев на Дуклянском перевале.
На левом крыле батальона в атаку шла ударная группа автоматчиков под командованием поручика Иржи Гроуды. Из вражеского дота, расположенного на высоте, непрерывно строчил пулемет. Гроуда подполз почти вплотную к доту, быстро вскочил и швырнул в бойницу связку гранат. Пулемет замолчал.
– Вперед, ребята! Ура! – закричал Иржи и кинулся на гору. Но внезапно разорвалась мина, и Гроуда упал. Он лежал, истекая кровью, и губы его шептали: «Вперед, ребята!.. Вперед!..»
Тяжело раненного, вынесли его товарищи с поля боя. Высота Безымянная была взята. Части Первого чехословацкого армейского корпуса во взаимодействии с войсками генерал-полковника Москаленко пошли на запад. А поручик Иржи Гроуда навек остался у подножия высоты, названной в его честь Гроудовой высотой.
Иржи Гроуда, Аврам Иванов, Леонтий Клименко, Николай Приходько…
Я стою в Здолбунове на привокзальной площади перед памятником герою Приходько – и мысленно повторяю слова, которые произнес много лег назад, после взрыва моста через реку Горынь, наш командир Дмитрий Николаевич Медведев: «Здолбуновские подпольщики вписали славную страницу в историю великой битвы с фашизмом».
1968
Перевод Б. Турганова.








