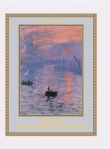Текст книги "Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2"
Автор книги: Михаил Алпатов
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 38 страниц)
Нидерландские мастера любят краски голубые, густомалиновые и ярко алые. Краски эти не только передают цвет представленных предметов, но и выражают то возбужденное, праздничное состояние, которым сопровождается созерцание алтарного образа. Итальянцев занимала не столько поверхность вещей, сколько их структура. Наоборот, нидерландцы при помощи изысканной живописной техники в совершенстве передавали блеск металлических предметов, шероховатость бархата, прозрачность стекла. Нидерландцы питали особенную любовь к драгоценным предметам, ювелирным изделиям, парчевым тканям. Все это превращало нидерландскую картину в своеобразную драгоценность, в изделие ювелирного мастерства, украшенное самоцветами и эмалями. Недаром одна картина близкого к Дирку Боутсу мастера так и была названа Брабантской жемчужиной (Perle de Brabant).
В этом косвенно отразился обычай Бургундского двора хранить картины в сокровищницах рядом с золотыми шкатулками и драгоценными реликвариями. Этому не противоречил взгляд, что картина должна стать верным отражением мира, правда, отражением в иносказательном смысле, подобно готическому собору, который тоже понимался как зеркало. Вместе с тем возможность при помощи кисти поймать и запечатлеть на холсте зрительный образ во всем его красочном богатстве приводила нидерландцев в восхищение. Недаром в картинах ван Эйка так часто встречаются зеркала, – они увлекали художника своим волшебным свойством отражать все предметы реального мира.
Нидерландские, живописцы XV века, равно как и современники их итальянцы, могут быть названы реалистами. Но реализм их носил различный характер. В Италии художники стремились все жизненное и частное приобщить к строю возвышеннотипических, идеальных образов. Данте возносит Беатриче к небу, где она встречает его, окруженная праведниками и святыми. Филиппо Липпи представлял свою возлюбленную восседающей на высоком троне в образе мадонны. Позднейшие флорентинцы, ставя своих современников рядом с священными особами, сообщали им чинность и степенство. Нидерландцы, наоборот, предпочитали низводить Марию и сонм ангелов и святых с неба на землю, вводить их в храмы или в жилые покои, представлять их в царских одеждах и в коронах. Их присутствие делало священным самую землю, деревья, травы, цветы, зверей, мелочи будничного быта. Даже на жестокого канцлера Ролина или безобразного каноника ван де Паль должен был пасть отблеск благодати от восседающей рядом с ними мадонны.
Вопрос о первых мастерах нидерландской живописи до сих пор не может считаться окончательно решенным. Неполнота сохранившихся памятников мешает установлению картины сложения стиля. Ученые восстанавливали историю первых шагов нидерландского искусства, исходя из логики развития, но при отсутствии многих промежуточных звеньев им не всегда удавалось достаточно убедительно вскрыть эту логику. Существует предположение, что первым из зачинателей нового направления был Губерт ван Эйк (ум. 1426), вероятный автор превосходной картины «Жены у гроба» (собрание Кук). Но размежевание картин между ним и его младшим братом Яном до сих пор вызывает разногласия. Несколько яснее фигура Робера де Кампена, так называемого флемальского мастера (около 1378–1444), который в своем «Распятом разбойнике» (Франкфурт) с фигурой, извивающейся на кресте, и причудливым линейным узором контуров еще близок к готическим миниатюрам, но в алтарном образе (Вестерло, собрание Мерод) переносит благовещение и фигуры Иосифа и св. Варвары в уютную обстановку бюргерского дома со множеством любовно выписанных предметов. Впрочем, флемальский мастер еще очень привязан к чисто средневековой символике и несколько сух и жесток в своей живописи.
Самым крупным, гениальнейшим из всех нидерландских живописцев XV века был, бесспорно, Ян ван Эйк (ум. 1441). Его творческий облик ясно выступает в ряде его бесспорных произведений. Крупнейшим памятником ранне-нидерландской живописи, созданием Губерта и Яна ван Эйков, был Гентский алтарь, начатый, видимо, еще Губертом, но законченный через шесть лет после смерти брата Яном.
В будни, когда створки алтаря были закрыты, перед глазами зрителя была лишь его наружная сторона, подобие пролога к мистерии (87). В верхней части створок представлено благовещение: ангел с лилией в руках в светлых широких одеждах вошел в комнату и опустился на колени; богоматерь, не замечая его, со скрещенными на груди руками возводит очи к небу. В картине почти нет ни действия, ни движения, передано всего лишь состояние тихой задумчивости. Фигуры пребывают в низкой просторной комнате; в простенке в стройном резном шкафу виден изумительно тонко выполненный медный умывальник, за окном, через которое пробиваются солнечные лучи, виднеются бюргерские домики. Пейзаж и натюрморт должны свидетельствовать о реальности происходящего. Мирная тишина, едва нарушаемая шопотом ангела, выражает душевную чистоту участников этого события.
Наверху представлены взволнованные предстоящим сивиллы и пророки. По контрасту с простором благовещения они втиснуты в тесные рамки, и свитки их беспокойно извиваются. Внизу сцене благовещения отвечает другая сцена моления: две статуи – Иоанна Богослова и Иоанна Крестителя – и две поставленные в такие же ниши, словно окаменевшие, фигуры донаторов: Иодокус Вейд с отпечатком бессмысленного благочестия на лице и слепо повторяющая его жест жена.
Любовная тщательность выполнения подробностей сочетается в Гентском алтаре с ясной, продуманной композицией. Нижний ярус разбит на четыре равных отвесно вытянутых клейма; во всех них поставлены в нишах застылые фигуры. Во втором ярусе клейма неравные, в них больше пространственной глубины. Наконец, верхние закругленные клейма с пророками и сивиллами носят совсем плоскостный характер. Но верхний ярус связан со вторым ярусом неравенством клейм. С другой стороны, закругленность этих верхних клейм находит себе соответствие в трехлопастных арках нижнего яруса. Таким образом, отдельные части Гентского алтаря носят ясно выраженный картинный характер и вместе с тем в целом в нем сохранена архитектурность, идущая от готического искусства (ср. I, 201) и в частности от резных алтарей. Созерцательному спокойствию этих тем хорошо отвечает красочная сдержанность наружных створок.
В праздничные дни алтарь открывался. Зрелище, которое тогда представало взору людей, было настоящим праздником для глаз. В музыке принято называть словом «tutti» (все) момент, когда сразу звучат все многочисленные инструменты оркестра. Впечатление от Гентского алтаря можно сравнить с музыкой великого нидерландского композитора XV века Дюфе, одного из создателей современного многоголосия, автора хоралов, в которых нежные голоса сливаются в радостно звенящую гармонию. Гентский алтарь ослепляет своими сверкающими красками, блеском золота и драгоценностей. Этому звучанию красок соответствует и пение и игра на органе Гентского алтаря (84).
Представлены традиционные темы: наверху – Деисус (Христос, Мария и Иоанн, ангелы и прародители), внизу – апокалиптическое видение, поклонение агнцу Христу сонма праведников и святых. Но эти мистические в своей основе темы преображены в Гентском алтаре в живописные картины, исполненные чисто поэтического обаяния. Деисус – это не торжественное, чинное предстояние, как у византийцев. Все три главных фигуры представлены восседающими; одежды их сияют и блистают парчой, самоцветными камнями и золотом и контрастно оттеняют трогательно-невзрачную, стыдливую наготу первых людей, присутствующих при этом торжестве.
Сверканию золота и камней в верхних клеймах соответствует красочность природы в сцене поклонения агнцу. Здесь тоже представлены дары земли, редкие породы деревьев, травы, цветы, которыми усеяны лужайки и которые своим блеском соперничают с драгоценными камнями. Крови, проливаемой агнцем, противостоит «колодезь жизни» с его струей воды, орошающей почву. Все умозрительное претворяется в наглядно чувственное: небесный Иерусалим – это Утрехт с его готическими башнями, отшельники, аскеты, праведники – это группы портретных фигур, среди которых, возможно, художник представил и самого себя. Видение Апокалипсиса превращено художником в картину земного рая, в котором сонмы людей находят отраду и поют хвалу творению.
В основе замысла Гентского алтаря лежит стремление к слиянию человека с той таинственной силой мира, которую современники почитали, называя ее богом. Предшественник Яна Кампен, желая передать общечеловеческое значение рождения Христа, изобразил в «Поклонении пастухов» (Дижон) в руке Иосифа свечу, а на фоне сцены – солнце, по народному поверию встающее на рождество раньше срока. Но язык Кампена остается аллегорическим: он пользуется знаками, требующими расшифровки; недаром и фигуры его снабжены длинными свитками, на которых написаны их речи. У ван Эйка идея выражена в самих художественных образах: в величественной картине природы, в медленно движущихся праведниках и женах, в коренастых отшельниках, которые идут, опираясь на клюки, в плавно плывущих мученицах с пальмовыми ветвями в руках, в христовом воинстве, осеняемом знаменами. Плавные линии далеких холмов вторят этому торжественному и неторопливому движению.
Дрезденский триптих Яна ван Эйка – это небольшое по размерам, интимное по своему духу произведение. Богоматерь с младенцем занимает его среднюю часть (88). Фигура ее в широком плаще образует пирамиду. Пирамидальная композиция у итальянцев обычно выделяет фигуру или группу и противополагает ее пространству. Наоборот, у ван Эйка пирамида, образуемая плащом Марии, продолжает линию пестрого ковра, на котором она восседает, и это лишает ее объемности, свойственной всем фигурам итальянцев и даже фра Анжелике, и превращает в составную часть интерьера.
Фигура заключена в светлую готическую капеллу, как в драгоценный ларец. Такого уютного интерьера не знали итальянцы (ср. 48). В фигуре богоматери слабо выделен объем и силуэт, зато вся картина как бы соткана из разноцветных нитей; здесь и парчевый занавес, и узорные ткани за троном Марии, и восточный ковер у ее ног, и цветные мраморные с жилками колонны, и цветное стекло окон. Впрочем, ван Эйк подчиняет все детали главной фигуре богоматери: ее темновишневый плащ и балдахин за ней выделяются сочным пятном и мешают распадению картины.
Мир не потерял для ван Эйка символического смысла, о котором толковали средневековые богословы. Едва ли не каждый предмет сохраняет таинственное, священное значение. Он видит эти предметы ясно, осязательно, во всем богатстве их цвета, но они должны вести взор вдумчивого зрителя к «тайнам мира», скрывающимся за его многокрасочной оболочкой. В старину св. Варвара изображалась с башней в руках: она считалась заступницей от огня и орудий. Ван Эйк, сохраняя этот образ, превращает башню-атрибут в настоящую башню-храм на фоне фигуры святой, крохотные фигурки людей сооружают его в ее память. В луврской мадонне ван Эйка в глубине комнаты за аркадой видны две задумчивые фигуры у балюстрады, извилистая река, мост и дома. Но все люди не случайно идут на запад, туда, где опускается солнце, где восседает небесная царица.
В превосходном портрете купца Арнольфини и его супруги (Лондон, Национальная галерея) мы заглядываем в уютный супружеский покой с любовно выписанной обстановкой, которую внимательно рассмотрел художник, согласно надписи, присутствовавший здесь в качестве свидетеля. Но все предметы исполнены тайного значения: на канделябре при свете дня горит свеча; на окне лежит яблоко – знак райского блаженства; на стене висят четки – знак благочестия; щетка – знак чистоты; вдали виднеется брачная постель. Даже домашняя собачка наводит художника на мысли о супружеской верности. Таким образом, в написанном с живых людей портрете проступают черты средневекового надгробия, сходство о возлежащими на смертном одре фигурами и псом у их ног. Недаром и вещи, хотя и расставлены по своим местам, венком окружают обе фигуры. В изображении’ собачки передан каждый волосок ее густой шерсти, и все же она кажется застывшей, не связанной с другими предметами, существует как знак. Но самое примечательное свойство портрета это то, что сквозь его символический замысел проглядывает такая душевная теплота, такое чувство домашнего уюта, такая нежность и любовь в жестах и в взаимоотношениях обоих супругов, что ван Эйк через голову своих современников и ближайшего потомства предвосхищает лучшие достижения· голландской живописи XVII века.
В большинстве своих портретов ван Эйк целиком отдавался своим непосредственным впечатлениям. Но обыкновение не ограничиваться передачей внешней видимости, придает его портретам особую глубину. Его глаз выработал в себе привычку остерегаться скороспелых обобщений, сближений индивидуального лица с общечеловеческим типом. В этом он шел совсем иным путем, чем тот, о котором говорит Альберти и которому обычно следовали итальянцы. Ван Эйк был одним из самых «объективных портретистов» в истории искусства: его портреты еще меньше похожи друг на друга, чем даже портреты Рембрандта или Веласкеса. Но он был далек, от холодного аналитического бесстрастия, которое стало достоянием портрета нового времени. В каждом его портрете чувствуется, как он самозабвенно и любовно стремился понять человека, повсюду заметно, что всякая форма и в том числе форма человеческого лица служит для него знаком, исполненным глубокого смысла. Перед нами проходят благочестивый, немного ограниченный Вейдт, цинический и сердитый канцлер Ролен, грубо жестокий кавалер Золотого Руна, трогательно невзрачный Тимофей, обаятельно изящный Арнольфини, увековеченный в погрудном портрете в своем алом тюрбане, наконец, умная, уверенная в себе супруга художника.
Особенно обаятелен портрет кардинала Альбергати (11). Художник рисовал его с натуры, как можно судить по сохранившемуся рисунку, и сумел всю свежесть своих впечатлений перенести и в картину. В мелких складочках веером около уголков его глаз и в улыбке на его губах ван Эйк передал едва уловимую стариковскую хитрость и стариковское добродушие. Он пользуется изумительно тонкой, неведомой итальянцам живописной техникой, нежно и прозрачно накладывает краски, избегая резких контуров (ср. 65). И вместе с тем портрет превосходно построен, в нем сильнее подчеркнуты существенные, и слабее выражены второстепенные частности, все они вместе подчинены общему впечатлению. В своем профильном портрете старого герцога Урбинского (Уффици) Пьеро делла Франческа сближает его облик с типом римской медали и этим как бы заносит в определенный разряд людей. Наоборот, портрет ван Эйка поражает полным отсутствием всякой предвзятости. Сходным образом историки бургундского двора, особенно Шастеллен, смотрят на современный мир, не думая о высоких римских образцах и прообразах, которые вдохновляли итальянских гуманистов. Шастеллен «портретирует» речи отдельных лиц, передает интонацию каждой их реплики. Читая его повествование о ссоре Филиппа Доброго с сыном, кажется слышишь их голоса, их любимые словечки и выражения, видишь вспыльчивость отца и непреклонность сына, как будто это пишет не историк, а романист. Перед портретами ван Эйка можно сказать, что это не искусство, а сама, жизнь, не умаляя при этом творческой активности мастера.
Как это часто бывает, ван Эйк, первый взглянувший на мир под новым углом зрения, смог увидать его во всей его цельности, во всем богатстве и разнообразии. Искусство первого нидерландского реалиста более полнокровно и жизненно, чем искусство его ближайших наследников. В этом он разделяет судьбу Мазаччо и Донателло, которые занимают сходное место в истории итальянского искусства.

11. Ян ван Эйк. Портрет кардинала Альбергати. Ок. 1432 г. Вена, Художественный Музей.
Среди нидерландских мастеров XV века только один Петрус Кристус непосредственно примыкает к традиции Яна ван Эйка. Более широкое распространение получает то направление, которое характеризует творчество Кампена. Рогир ван дер Вейден (ум. 1461) полнее всего представляет это направление. В его искусстве нет того умиротворенно-радостного приятия мира, той теплоты и полнокровности, которой так чарует ван Эйк. Искусство Рогира более напряженно, холодно, резко и даже угловато. Он часто изображал сюжеты наставительного значения. В его картине «Семь таинств» (Антверпен) живые бытовые картины подчинены богословской идее. Он посетил Италию, и итальянские впечатления оставили свой след в его творчестве. Но он был склонен к экзальтации, к сильным, резким движениям, особенно в выражении отчаяния и горя. Вместе с тем искусство Рогира с его врезывающимися в памяти типами оказалось более общепонятным, чем глубоко индивидуальное искусство Яна ван Эйка, и потому именно Рогир оставил более глубокий след в Нидерландах и Германии.
Большинство фигур Рогира ван дер Вейдена исполнено порыва, стремительности. В «Мадонне с канцлером Роленом» ван Эйка обе фигуры спокойно сидят друг против друга. В аналогичной композиции Рогира «Мадонна и Лука» (Мюнхен) Лука склоняется перед Марией, движение пронизывает его тело, широкий плащ Марии тянется за ней, будто она куда-то стремится. Линия играет у Рогира большую роль, чем у ван Эйка. Линейный ритм связывает фигуры, проходит сквозь его многофигурные композиции. В «Встрече Марии и Елизаветы» длинная одежда Елизаветы словно продолжается в извивах дороги.
«Снятие со креста» Рогира (89) со множеством рельефно расположенных, почти как в итальянской живописи XV века (ср. 45), фигур является самым зрелым и крупным произведением Рогира. Но и в этой картине бросается в глаза беспокойный ритм, пронизывающий тела и превращающий их в составные части орнаментального узора. Ломаная диагональ обнаженного тела Христа повторяется в фигуре упавшей Марии, его поникшая рука – в древке креста. Заломившая руки женщина справа образует полукруг и как бы замыкает композицию. Ей отвечает слева симметрически склоненная фигура Иоанна. Их связывает друг с другом наверху поднятая рука Христа, внизу – края узорчатой одежды безбородого мужчины и плащ Марии.
В отличие от итальянских композиций, ясно распадающихся на обособленные группы, композиция Рогира образует клубок переплетающихся тел. Разумеется, что линии так выразительны у Рогира, так как соответствуют различным жестам скорбящих о Христе фигур. Плоскостный ритм линий в картинах Рогира сочетается с очень резкой и даже сухой моделировкой словно чеканных складок одежды, которые придают его фигурам несколько статуарный характер и напоминают резные алтарные образы.
Теплый, мягко льющийся свет в берлинской «Мадонне в храме» ван Эйка, залитой золотистыми солнечными лучами, дает жизнь предметам, окружает их воздухом. У Рогира ван дер Вейдена краски холоднее, прозрачнее, красочные пятна то вспыхивают, то угасают, свет словно насквозь пронизывает тела. В берлинском «Поклонении» на Марии бледноголубая рубашка и синий плащ в тон голубому небу. Краска переливается и наливается в свою полную силу, зато слабее чувствуется материальность отдельных предметов.
В женских портретах Рогира (94) знатные дамы обычно представлены в том сложном, причудливом головном уборе, в каком и ван Эйк изображал свою супругу. Если бы женщины в Италии носили подобный наряд, вряд ли итальянские художники стали передавать все его частности в портретах, так как он слишком отвлекает внимание от самой фигуры и лида. Впрочем, ван Эйк в портрете жены сумел сосредоточить внимание на ее умном и проницательно трезвом взгляде. В портретах Рогира чувствуется большая напряженность, но она порождается не движением самого человека, не мимикой его лица. Наоборот, у Рогира лицо подчинено беспокойному плоскостному ритму, образуемому линиями наряда. Само лицо почти лишено лепки. Головной убор и парчевый наряд с их беспокойным узором волнистых и резко пересекающихся контуров сплошь заполняют плоскость картины.
Среди нидерландских художников XV века Гуго ван дер Гус (около 1440–1482) обладал особенно сильно выраженной индивидуальностью. Его страстная, несколько неуравновешенная натура ясно проявилась в его позднем «Успении» (Брюгге) с мятущимися фигурами апостолов вокруг ложа Марии. Напряженность заметна и в венском «Снятии со креста» с одеревянелым телом Христа, над которым в отчаянии склонились, словно повисли в воздухе, фигуры Марии и ее близких. В картине, изображающей коленопреклоненного донатора (Эдинбург, частное собрание), задумчивый ангел исполняет на органе хорал, вдали виднеется край готического свода, под сенью которого замирают звуки. Картина полна глубокого тревожного настроения, и это отличает ее от безмятежно поющих ангелов Гентского алтаря ван Эйка.
По заказу итальянского купца Портинари Гуго ван дер Гус выполнил большой алтарный образ, который по прибытии его во Флоренцию произвел впечатление на итальянских мастеров (90). Его огромные размеры были необычны для нидерландцев. Гуго ван дер Гус тягался с итальянцами, но он говорил языком своих соплеменников, языком своего личного дарования.
В итальянских картинах поклонения пастухов центральную их часть обычно занимает фигура богоматери; ее окружают волхвы, их свита и пастухи. Так торжественно изображали эту тему Ботичелли, Леонардо и др. Гус представил в своем алтаре таинственное зрелище: на голой открытой площадке лежит маленький, жалкий и уродливый младенец. Вокруг него на почтительном расстоянии венком расположилось множество живых существ: Мария с ее мечтательно склоненной головой, могучий, как дуб, старец Иосиф, взволнованно удивленные пастухи с их дико вытаращенными глазами и полуоткрытыми ртами, крылатые юноши в голубых и темномалиновых одеждах; из-за столба выглядывают осел и бык. К этим фигурам примыкают на боковых створках коленопреклоненные донаторы, страшные, словно одичавшие в пустыне отшельники и элегантно разряженные святые жены.
У Гуго ван дер Гуса в его славословии нет той спокойной радости, которой так чарует Гентский алтарь. Здесь больше чудесного или во всяком случае диковинного. В расположении фигур можно заметить симметрию: богоматерь окружена с каждой стороны двумя ангелами в белых одеждах, напротив нее – ангелы в парчевых плащах. Но стрелка композиции как бы передвинута, и поэтому в картине среднюю часть фланкируют разнородные фигуры. В ней нет ни одной спокойной горизонтальной линии; все построено на колких, угловатых контурах. Хотя распластанная композиция у Гуса напоминает средневековую живопись, но большой масштаб его алтаря, жизненность образов пастухов-крестьян и портретов, наконец, смелое нарушение симметрии – все это связывает Гуса с развитием искусства XV века.
Рогир ван дер Вейден и Гуго ван дер Гус были представителями южнонидерландской школы. Одновременно с ней развивается живопись в северных провинциях. Одним из крупных ее центров был Гаарлем. Здесь сильно сказывалось влияние бюргерства, не так чувствовалась близость двора, не было такой роскоши и блеска, проглядывало больше простоты и глубины чувства, порой трезвой прозы. Мастера XV века сохраняют традиции, идущие от ван Эйков, и вместе с тем они предвосхищают дальнейшее развитие голландской живописи.
Главными представителями этой северонидерландской живописи были в XV веке Дирк Боутс (около 1400–1475) и Гертген тот Синт Янс (1465–1495). На портретах Боутса обычно лежит еще очень сильный отпечаток средневекового благочестия. По сравнению с его лицами даже Иодокус Вейдт ван Эйка кажется вполне развитым светским человеком. Люди у Боутса набожно складывают руки, вперяют вдаль остановившийся взор, фигуры неуклюжи, скованы, угловаты, в них мало подвижности. В одном из его наиболее значительных алтарных образов в средней части представлена «Тайная вечеря», на боковом клейме– «Праздник пасхи» (95). Боутс переносит действие в скромный бюргерский дом, тщательно выписывает его обстановку и вместе с тем сообщает композиции характер торжественного обряда. Христос в «Тайной вечере» поднимает опресноки, священник в «Пасхе» разламывает агнца. Фигуры в «Тайной вечере», вытянутые, деревянные, негнущиеся, сидят за столом, но кажется, будто они расставлены как свечи вокруг трапезы. Боутс отказывается от той пространственной глубины, которую сообщал своим интерьерам ван Эйк (ср. 88): пол и архитектура в картинах Боутса выглядят как отвесная плоскость, к которой прислонены мало связанные друг с другом тела, и в этом живопись Боутса примыкает к традиции резных алтарей.
Больше поэзии в произведениях более позднего художника родом из Гаарлема – Гертгена тот Синт Янса. Он одним из первых представил рождество христово происходящим глубокой ночью, когда таинственный свет исходит из яслей, а густой мрак окутывает небо. Его «Иоанн Креститель» (85) с выглядывающими из широкой одежды костлявыми босыми ногами и барашком, как верная собачка, разделяющим одиночество отшельника, умилителен своей задумчивостью и чистосердечием. Пустыня в этой картине – очаровательный цветущий пейзаж. Здесь и зеленые лужайки со скачущим выводком зайчат, и заросшее осокой озерко с болотной птичкой на берегу, и тенистые рощи, и зеленые чащи, из которых выглядывают пугливые олени. На горизонте тянется голубая цепь гор и башни Иерусалима. На первом плане у самого края картины любовно и тонко выписано несколько кустиков цветов, белые полевые маргаритки и чертополох. При всей привязанности к мелочам Гертген превосходно построил свой пейзаж.
В нидерландской архитектуре XV века ясно отразился переломный характер этого времени. Ратуша в Лувене (83) задумана как подобие готического собора или капеллы так называемого пламенеющего стиля. Здесь есть и остроконечная кровля, и топкие шпили, и разбивка стен вертикальными лучками столбов, между которыми скрыты стрельчатые окна. Но в отличие от устремленных кверху готических зданий XIII века в Лувенской ратуше спокойные горизонтали верхней балюстрады и карнизов повторяются и в шпилях, и в ясно выраженном поэтажном расположении окон. Глубокие тени от карниза, колонок и прорезного узора придают всему зданию светотеневую сочность, почти красочность, какой не знали мастера зрелой готики. Все это миниатюрное здание похоже на богато изукрашенное ювелирное произведение. При всем различии характера архитектурных форм и декораций завершенность объема всего здания роднит его с итальянскими дворцами XV века (ср. 51).
В конце XV века Нидерланды входят в состав империи Габсбургов (1477). В своей борьбе с Францией императоры искали опоры в городах, даруя вольности генеральным штатам, но это не могло вернуть городам их былого культурного значения. Впрочем, и бургундский двор теряет свой блеск, и старая знать оказывается оттесненной. Нидерланды все более вовлекаются в круг общеевропейской культуры. Антверпен благодаря возросшей торговле получает международное значение. В это время нидерландская школа живописи постепенно теряет самобытный характер. Падение ее творческой самостоятельности замечается даже у таких выдающихся мастеров, как Мемлинг (около 1433–1494) и Герард Давид (ум. 1523). В портретах Мемлинга исконные нидерландские традиции сочетаются с влиянием итальянских образцов. Портреты эти тщательно выписаны, приятны по своей красочности, более строго построены, чем старонидерландские портреты. При этом благообразные и элегантные горожане в портретах Мемлинга бесхарактерны, вялы, порой чувствительны. На этом искусстве лежит отпечаток угасания культуры Брюгге в конце XV века.
На рубеже XV и XVI веков наперекор этому течению в Нидерландах вновь возникает искусство, уходящее своими корнями в местную традицию. Это не было возрождением рыцарского средневековья, как в творчестве Рогира ван дер Вейдена. Это было обращение к тому средневековью, которое еще жило в песне, в пословице, в народном театре и в резьбе.
В творчестве Иеронима Босха это направление нашло себе наиболее полное выражение (около 1450–1516). По характеру своего живописного мастерства он связан с нидерландскими мастерами XV века. Во многих картинах Босха можно встретить излюбленные темы средневековой церковной скульптуры, только переданы они при помощи живописных средств XV–XVI веков. Это особенно касается его многочисленных картин страшного суда и искушений св. Антония. В них все перепуталось и смешалось: люди, страшилища, звери, огромные птицы и адские орудия пыток; кажется, что гримасничают и кривляются скалы, сучковатые деревья готовы превратиться в страшилищ – Антонию не укрыться от преследующих его врагов. Некоторые из уродов Босха появляются и в евангельских сценах: мучители Христа, воины и фарисеи, горбоносые, с оскаленными зубами, тесно обступили его, как нечисть, которая исчезает при крике петуха.
Северная Европа в течение многих веков жила с сознанием постоянной близости этих дьявольских наваждений (ср. 1, 186). Из этого сознания выросло сказание о докторе Фаусте. Но теперь оно облекалось в иные формы. Чудовища Босха уже не в состоянии устрашать; они смешны и нелепы, как ряженые на карнавале (97). Художник и пугает ими зрителя, и издевается над ним, и забавляет его. В сценах ада у Босха ясно проявилась его неистощимая художественная фантазия. Недаром испанский король Филипп II собирал картины Босха, по выражению современников, для своего «благородного развлечения», и действительно, их хочется рассматривать, читать, как забавные, занимательные рассказы и смешные сказки. Видимо, Босх много заимствовал из фольклора. Вместе с исчадиями ада в нидерландскую живопись ворвалась смачная народная шутка, веселое озорство пословиц и поговорок.
Нидерландское искусство разделилось на рубеже XV–XVI веков на две струи. Народному течению противостояло течение, которое тяготело к Италии. Плодотворность этого ученичества у итальянцев не подлежит сомнению, но она сказалась значительно позднее. В начале XVI века в Нидерландах к этому итальянизирующему течению примыкает ряд одаренных мастеров. Некоторые из них были сверстниками Давида и Гертгена. Среди них выделяется Квинтен Массейс. Он, равно как Клеве и Провост, совершил путешествие в Италию и испытал сильное воздействие итальянских мастеров. Госсарт усердно добивается скульптурной передачи обнаженного тела в живописи. Лука Лейденский сыграл большую роль в развитии бытовой живописи и получает особенную известность своими превосходными гравюрами на меди. Скорель разрабатывает форму группового портрета и в своих наиболее удачных попытках претворения итальянских впечатлений напоминает Дюрера. И все же все эти мастера переходного периода, не исключая даже наиболее одаренного и значительного среди них Массейса, не сумели создать чего-либо действительно яркого, вполне самостоятельного, художественно выразительного и цельного. В середине XVI века за ними следуют Флорис, Ломберт Ломбард. Их тоже занимает изображение обнаженного тела, многофигурные композиции, мифологические темы. Были среди нидерландских мастеров XVI века и исключения: Антонис Мор, покинувший Нидерланды ради Испании, продолжает традицию нидерландского портрета; Артсен и Бейкелар создают жанр из крестьянской жизни, перенося в него некоторые формы итальянской живописи и сообщая своим крестьянам величие классических фигур.