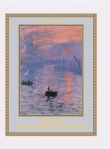Текст книги "Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2"
Автор книги: Михаил Алпатов
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 38 страниц)
В эскизе Рубенса прекрасно видно, как трепетное, волнистое движение пробегает через многолюдную группу. Оно заставляет епископа высоко занести руку с посохом и плавно изгибает край его одежды; оно откидывает назад обнаженное тело Севастьяна к воину Георгию, который ногой попирает дракона. Отголосок этого движения заметен и в изогнутой шее дракона, его продолжение можно видеть в переговаривающихся друг с другом женщинах. Только апостол у края картины более спокоен и стоит, погруженный в раздумья. Ангел что-то протягивает младенцу. Двое других ведут из глубины картины собаку. С неба спускаются ангелы с венками в руках. Мимическому богатству композиции соответствует чередование светлых и темных красочных пятен. Ряса монаха и плащ Марии образуют самые насыщенные пятна в картине; к ним присоединяется тень за епископом, за женщинами и рядом с колонной. Наоборот, тело Севастьяна сияет самым ярким пятном. Все завершается пронизанным светом пространством за колонной. Между этими темными и сверкающими пятнами расположены промежуточные тона, которые все вместе образуют нарядную, красочную гирлянду.
Рубенс играл основоположную роль не только в церковной, но и в исторической живописи своего времени и может рассматриваться как создатель особого рода исторической картины, которая просуществовала в Западной Европе в течение XVII–XVIII веков. Сам Рубенс дал блестящие образцы этого понимания исторической живописи в серии картин из жизни французской королевы Марии Медичи, написанных для украшения галереи Люксембургского дворца.
История понимается Рубенсом прежде всего как похвала гражданской доблести и государственной деятельности его героев. Никогда еще в западноевропейском искусстве общественное призвание, государственная доблесть человека не были прославлены так увлекательно и красноречиво, так пышно и роскошно, как у Рубенса. Он умеет выбрать самые выразительные, самые показные мгновения из жизни своих героев, поставить их на фоне величавой архитектуры, окружить нарядными статистами и сообщить происходящему на земле особенную значительность, сопрягая фигуры исторические с аллегориями или образами древних богов и добродетелей. В своей исторической живописи Рубенс достигает того же возвышенного впечатления, что и Шекспир в своих исторических хрониках. Свидетель сложения абсолютизма в ряде стран Западной Европы, Рубенс еще в начале XVII века воплотил в своей живописи те идеи государственности, которые в конце XVII века, в пору расцвета абсолютизма во Франции, тщетно пытались выразить французские живописцы.
Основой живописной композиции Рубенса служит выразительный узор, выражаясь словами Делакруа, арабеска. Арабеска ясно выступает в картинах Рубенса, даже когда они выполнены его учениками. Красочные пятна располагаются в картине с таким расчетом, что выделяются несколько светлых или ярких пятен, обычно обладающих своим ритмом, нередко обрисованных повторными линиями, и хотя фигуры превосходно включаются в эти узоры, их легко извлечь из них, так как глаз, даже любуясь самим узором, с первого взгляда узнает отдельные представленные предметы и ни на одно мгновенье не теряет их из вида.
В этом понимании композиции Рубенс решительно отступает от итальянцев, которые, начиная с Джотто, даже в сложных сценах (ср. 45) или в картинах, – погруженных в полумрак (ср. 80), стремились прежде всего помочь глазу зрителя уяснить себе объемы тел и их расположение в пространстве. Описать словами арабески Рубенса очень трудно, но их легко обрисовать несколькими линиями и силуэтами. В «Оплакивании» (Вена, 1614) это светлее пятно, расположенное по диагонали. В выполненной помощниками «Венере и Адонисе» (Эрмитаж, 1615) тела образуют поставленную на вершину пирамиду с волнистой верхней гранью. В «Венере рядом с фавном» (Антверпен, 1614) светлое пятно с закругленным краем почти соприкасается с темным.

21. Рубенс. Похищение дочерей Левкиппа. 1619-20 гг. Мюнхен. Старая Пинакотека (до 1941–1945 г г.).
Хотя в «Короновании Христа» Тициана (79) полумрак и оказывает некоторое препятствие, наш глаз без труда улавливает соотношение фигур и их жесты. Наоборот, в «Похищении дочерей Левкиппа» Рубенса (21), несмотря на анатомически безупречную передачу тел обеих женщин, их похитителей и коней, с первого взгляда вся группа, весь этот клубок тел воспринимается как фантастическое многочленное существо. Мы видим ритмический светлый узор на темном фоне и темный силуэт на фоне светлого неба; в пределах этого противопоставления бросается в глаза множество повторных линий и соответствий. Нельзя считать недостатком картины Рубенса, что тела в ней сливаются в единый узор; наоборот, в этом заключается ее особенная выразительность: руки обеих женщин как бы продолжаются во вздыбленных передних ногах коня, нога верхней женщины находит себе отклик в опущенной руке другой женщины; амур сросся с корпусом коня; оба коня сливаются воедино. Силуэт всей группы замыкается слева темным пятном, справа он образует разорванный контур. Невозможно перечесть все линейные соотношения, многообразные, как стихотворные рифмы и аллитерации.
Этот живописный метод Рубенса определяет своеобразие многих его картин, хотя он выявился не сразу и первоначально сдерживался привязанностью мастера к ясной скульптурной форме. Источник метода Рубенса нужно искать в традициях нидерландской живописи XV века – в фантастике Босха и в гротесках Брейгеля (ср. 92, 97). Впрочем, подобные образы Рубенса облекаются в классические формы. Вместе с тем его люди полны такой жизни, страсти и движения, которых не умели передавать ни древние, ни итальянцы, даже когда они брались за аналогичные темы. В картинах Рубенса па глазах у зрителя как бы рождаются из хаоса человекоподобные существа, и вместе с тем они не порывают своей связи с жизнью и движением первичной природной стихии.
Эти черты характеризуют Рубенса не только как живописца, но и все его мировосприятие. Лишь благодаря ему Рубенс сумел так убедительно и полно выразить в своем искусстве представление о неустанной человеческой энергии, о вечном движении жизни, которое его никогда не покидало.
Рубенс рано выработал свой глубоко личный художественный язык. В его картинах яснее, чем у многих других великих живописцев, бросаются в глаза постоянные мотивы и приемы, которые повторяются почти во всех произведениях зрелого периода. Он широко использует выразительный язык жестов человека: раскрытые руки выражают восхищение, возведенные кверху глаза – обращение к высшим силам, протянутая рука сопровождает речь, рука, положенная на грудь, – состояние взволнованности, скрещенные на груди руки – покорное умиление. Плащи и облака своим движением сопровождают и усиливают мимику фигур.
Рубенс в совершенстве владел средствами ораторского искусства и своеобразно преломил его в своей живописи: он любит противопоставлять ослепительно светлое – бархатночерному, красоту – уродству, блистающую наготу женского тела – пушистому меху («Шубка», Вена, 1630–1631). Он знает и силу убеждающих повторений: его мадридская «Вакханалия» (1634–1640) основана на одном чуть назойливо повторяющемся жесте протянутых рук нимф и сатиров.
Рубенс редко может удержаться от гипербол: он преувеличивает до> предела мощь героев, порыв святых, дерзкое сладострастие силенов. Но он знает и силу умолчаний и умеет несколькими клубящимися облаками обозначить небо. Рубенс никогда не говорит короткими, расчлененными фразами: его композиции подобны искусно построенным периодам со множеством придаточных предложений, возникающих одно вслед за другим и захватывающих дух. В произведениях, выполненных учениками, это приводит к пустой и утомительной риторике; там, где творит сам мастер, его язык звучит чистой поэзией. Даже когда Рубенс пользуется обычными аллегориями, он, как Шекспир, умеет их наполнить всей полнотой своего жизнерадостного темперамента.
Рубенс проявляет свой щедрый дар не только в больших замыслах, но и в каждом малейшем художественном произведении и прежде всего в рисунках. Он исполнял их в качестве этюдов с натуры или эскизов для картин и редко стремился придать им законченный характер. Но в них неизменно чувствуется его дыхание, его свободный и широкий жест. В его автопортрете-рисунке (Лувр) еще яснее, чем в самой картине (Вена, 1637), выражено могучее движение пробегающих линий, широких складок плаща и вместе с тем сохранена прозрачность листа. В «Девочке» (146) живо схвачен первый, неуверенный шаг ребенка, стремительность в его протянутых руках и полуоткрытом ротике. В этюде к «Воздвижению» (144) не только превосходно передано обнаженное тело натурщика, но и ухвачен тот выразительный жест героя, который станет доминантой картины.
С особенным блеском проявилось мастерство Рубенса в его небольших собственноручно выполненных картинах. Не нужно думать, что живописные богатства Рубенса всего лишь плод счастливого вдохновения. Рубенс в совершенстве владел техникой классической живописи. Фромантен находит у него «спокойное, исполненное знания господство над неожиданными эффектами». У него была своя система живописного мастерства, последовательная, как система контрапункта.
Он писал, как нидерландцы, по белому или красному грунту, нанося на него рисунок и легко намечая тени. Цвет отдельных предметов передавался плотным красочным слоем, но кое-где грунт просвечивал через краску. Поверх основного слоя так называемых корпусных красок наносился прозрачный слой, так называемая лессировка. Последние удары кисти художника выделяли густыми бликами самые светлые места в картине. Преимущества этой системы живописи заключались в том, что она позволяла передавать не только одни красочные поверхности, но и самую структуру отдельных предметов. При такой предварительной корпусной моделировке предметы получают выпуклость, поверхность картины претворяется в глубину. Вместе с тем световые лучи, пройдя через прозрачные слои краски, отбрасываются от грунта, окрашенные в неясные цвета. В этом сказались традиции витража и живописи ранних нидерландцев, только обогащенные художественным опытом XVII века. Эта живописная техника помогла Рубенсу стать одним из крупнейших колористов мира. «Надо видеть, – пишет о красках Рубенса Фромантен, – как все это живет, движется, дышит, смотрит, действует, окрашивается, рассеивается, переплетается с фоном, отодвигается, расплывается в световых пятнах, смело располагается и завоевывает себе место».
В картине Рубенса «Персей и Андромеда» (Эрмитаж, 1615–1620) кажется, будто обнаженное тело Андромеды, выполненное прозрачными розовыми тонами с голубыми тенями, само излучает свет; свет этот пронизывает и ее золотистые волосы и плащ. Розовые отблески, как искры, падают на окружающих Андромеду амуров, мерцают в блестящих латах Персея, загораются в его красном плаще и глухо отблескивают в красно-рыжих подпалинах коня. Цвет сохраняет здесь символическое значение, поскольку красный цвет – это цвет героя, победы; но в чередовании розовых и голубых пятен есть порядок и ритм, отвечающий естественной потребности глаза в дополнительных цветах. «Вакханалия» (Москва, 1615–1620) с ее упившимися сатирами и сатирисками, шоколадной негритянкой и сосущими материнскую грудь детенышами-уродцами более сдержанна по цвету, но оттенки легко и прозрачно положенных красок и пробегающий через композицию волнистый ритм претворяют отталкивающее уродство самих образов в нечто возвышенно-прекрасное. На розовые тела ложатся голубые тени и красные отсветы, которые мягко переходят в написанную прозрачным лаком красную ткань. Цветовая гармония сообщает этому зрелищу уравновешенный характер.
В картинах Рубенса, как дыхание художника, всегда чувствуется свободное движение руки, местами решительные нажимы, местами удары кистью, и они-то и заставляют трепетать поверхность картины и придают ей несравненную свежесть.
Рубенс был слишком тороплив и стремителен, чтобы спокойно и подолгу всматриваться в свои модели. Он слишком настойчиво пытался воплотить в искусстве свою собственную натуру для того, чтобы долго задерживаться на изучении всех черт своих моделей. Это мешало ему стать портретистом-психологом. В его картинах постоянно мелькает собирательный тип женщины – белокурой красавицы с темными, блестящими глазами, чувственным ртом и пышными формами. Этот образ Рубенс воплотил в многочисленных портретах своей второй жены Елены Фурман. Но он начал складываться в его живописи еще задолго до того, как Елена Фурман вошла в жизнь художника. Излюбленный образ красавицы стоял перед ним, когда он писал своих богинь и нимф, деву Марию и святых. Он искал его черты и в лицах знатных дам, которые позировали ему.
Впрочем, Рубенс был художником настолько жадным до жизни, так привязанным ко всем ее проявлениям, что отказаться от портрета было для него невозможно. В истории живописного портрета Западной Европы он занимает почетное место предшественника Веласкеса. Рубенс первым после маньеристов возвращает портрету полноту жизни, какой обладали портреты Возрождения. В рамках его картин человек чувствует себя снова свободно и непринужденно, он словно расправляет свои члены, живет богатой умственной и чувственной жизнью.
Рубенс обогащает портрет, воссоздавая образ человека во всей сложности его общественных отношений. Он по-новому видел людей, и это позволило ему создать новый тип портрета. Правда, уделом Рубенса оставался портрет знатных людей, главной чертой которых было чувство собственного превосходства. Правда, его основные средства характеристики – это богатый костюм, пышная обстановка, скупо обозначенная колонной или тяжелым бархатным занавесом. Но на этой основе Рубенс создает множество замечательных произведений. В «Автопортрете» (Вена, около 1639) он при помощи одного поворота головы, чуть надменного взгляда, ракурса широкой шляпы и белого воротника характеризует себя как элегантного придворного. В портрете доктора Тульдена (Мюнхен, 1615–1616), несмотря на торжественность его позы, мы находим спокойно-возвышенный и интимный образ гуманиста. Портрет старика епископа Ирселиуса (Копенгаген, около 1630) с его молитвенно сложенными руками исполнен благочестия, как портреты старых нидерландцев.
Один из лучших портретов Рубенса – это «Елена Фурман» (142). Она вырисовывается силуэтом на светлом фоне неба. Низкий горизонт в картине придает ей величавый характер. На ней широкополая шляпа с лентой и пером, кружевной воротник, нарядное платье с пышными рукавами с лентами и тяжелой, похожей на фижмы юбкой. В руках она держит опахало из страусовых перьев. В портрете превосходно переданы пушистые перья, прозрачные кружева, тугой и блестящий шелк ее платья. Но эти внешние признаки костюма претворены в поэтический образ. Рубенс, который в молодости тщательно выписывал каждую подробность костюма как вполне самостоятельный предмет, дает их здесь более слитно: фигура молодой женщины как бы расцветает благодаря своему наряду, пышные формы ее рукавов кажутся порождением ее пышных форм, перья сливаются с пушистыми волосами и находят отзвук в клубящихся облаках на фоне картины, розовые ленты звучат в тон с ее коралловыми устами, шелковая ткань, ниспадая каскадом, придает движение и мощь ее фигуре, хотя она стоит совершенно спокойно. Портрет построен на оттенках синего, лилового и малинового: темное платье выгодно оттеняет нежность розовой кожи, белые кружева и перья создают световой ореол вокруг тела. Сильным темным ударом обозначена черная шляпа, ее нежно-малиновая лента повторяется слабым отзвуком в рукавах.
Рубенс обратился к пейзажу главным образом в последние годы своей жизни (22). Умудренный жизненным опытом, он выразил в нем всю жизнерадостную полноту своего мироощущения. В фигурных композициях он был многим обязан итальянцам; в пейзажах он следовал соотечественникам. Но пейзажи Бриля с их тщательно и сухо выписанными подробностями похожи на гербарии; у Рубенса все растения, словно поставленные в воду, распускаются и наливаются соком. Даже от его пейзажей-идиллий веет могучим духом, как от мифологических картин и портретов. У Рубенса холмы и горы выглядят как порождение скрытых в недрах земли творческих сил природы, как окаменевшее дыхание самой земли. Этому могучему дыханию вторят и вздувшиеся, пухлые облака. Деревья с их пышными ветвями громоздятся по горам. Ветер, набегая, раскачивает их сочную листву. Они, как живые, оказывают ему сопротивление, протягивают во все стороны свои тяжелые ветви; стволы их набухают от земных соков, обнаженные корни змеятся и цепко, как когти, вонзаются в почву. Рубенс строит свои пейзажи широкими красочными массами, крупно намечая объемы и последовательное чередование планов. Такая обобщенность позволяет ему раскрыть в пейзаже первичные природные силы. В пейзажах Рубенса тучные коровы у водопоя выглядят, как священное стадо Аполлона, встреченное Одиссеем и его спутниками.
Рубенс значительно превосходил и широтой, и глубиной всех современных ему фламандских живописцев. Но почти каждый из его сверстников и учеников соприкасался с одной из сторон его многогранного творчества. Иордане (1593–1678) был всего на шестнадцать лет моложе Рубенса; оба они начали учиться у одного мастера. Но судьба их сложилась по-разному: Рубенс стал мастером общеевропейского значения; наоборот, Иордане никогда не покидал Антверпена, не прошел через увлечение итальянским искусством, классическими формами. Караваджизм оставил глубокий след в его искусстве. Нужно удивляться тому, что, работая бок-о-бок с таким мастером, как Рубенс, Иордане не поддался его влиянию и сохранил свое лицо. Впрочем, это произошло ценой того, что Иордане выразил только одну сторону фламандского искусства, его привязанность к грубой, земной плоти.

22. Рубенс. Пейзаж. Ок. 1635-40 гг. Лондон. Национальная галерея.
У Иорданса было две любимых темы, и он повторял их бесконечное число раз: «Праздник бобового короля» и «Сатир в гостях у крестьянина». Иордане подходит в них вплотную к жизни нидерландского народа. Он не восхваляет умеренных и утонченных эпикурейских радостей, как Тициан или Рубенс. «Праздник бобового короля» – это апофеоз обжорства и пьянства. Здесь восхваляется дикое, неумеренное объедение, с которым могли бы поспорить только пиршества героев Гомера или Гаргантюа Рабле. Люди всех возрастов тесно сгрудились за столом: украшенный короной старик с влажными устами поднимает заздравный кубок под дружный рев его хриплых собутыльников. Звенит стекло, гнусавит волынка. Пышная красавица поучает девочку, как нужно пить, между тем как разгулявшийся пьяница запускает руку за ее декольте. Все кричат, перебивая друг друга, не замечая, что ребенок мочится на собаку. Все, что может быть в человеке полнокровного, но и грубого и скотского, собрано Иордансом воедино и претворено в превосходную живопись. Пьяницы Веласкеса в сравнении с пьяницами Иорданса кажутся чинными, рассудительными и лукавыми. Но «Праздник бобового короля» Иорданса не лишен монументальной силы. Эти композиции похожи на его алтарные образы вроде «Поклонения волхвов» или «Сретения», где крестьяне приносят улов рыбы, плоды, где в торжестве участвуют даже животные.
В картине «Сатир в гостях у крестьянина» (140) Иордане ведет нас в крестьянский дом. Здесь за столом собралась вся семья: отец сидит перед чашкой и дует на ложку горячего супа; женщина с ребенком присела рядом с ним; старуха выглядывает из-за его плеча; иногда сюда заглядывает корова или забредают куры в качестве равноправных членов крестьянской семьи. Все слушают рассуждения сатира и никто не удивляется его появлению, потому что он сам в представлении Иорданса из породы крестьян и только его козлиные ноги отличают его от людей. Веласкес противопоставлял белотелого Вакха крестьянам и пастухам; у Иорданса античный образ совершенно срастается с жизнью простонародья. В «Мелеагре и Аталанте» Иорданса (Антверпен) мы видим простую, широколицую девушку и крестьянского парня. Античное в этой картине только ее название. «Евангелисты» Иорданса (Лувр) – это четыре старых крестьянина с морщинистыми, как печеные яблоки, лицами; они обрядились в плащи и, словно помогая причту во время церковной службы, взяли в руки богослужебные книги и с непривычки держат их бережно и неуклюже. По всему своему складу Иордане неспособен был создать возвышенный образ человеческой красоты. Его «Аллегория плодородия» (Брюссель) представляет собой группу раздетых-купающихся женщин, лишенных особенной привлекательности. Поэтическая прелесть наготы, так красноречиво воспетая Рубенсом, была недоступна дарованию Иорданса.
По-видимому, Иордане научился от Рубенса выделять руководящие композиционные линии, преимущественно диагонали, пересекающие его картины. Но в живописи Иорданса не чувствуется такой воздушности и простора, такого движения, как у Рубенса. Картины Иорданса переполнены фигурами до краев, как сундуки, набитые вещами, и сами люди приобретают от этого некоторое сходство с неодушевленными предметами: они неуклюжи, как куски мяса или пузатые глиняные горшки.
Влияние караваджизма сохраняется у Иорданса дольше, чем у Рубенса: его фигуры выступают из темного фона и лепятся могучими объемами. Иордане охотно выбирает очень низкий горизонт, благодаря чему создается впечатление, будто сценки происходят на высоких подмостках, грузные тела получают от этого еще более величественный характер. Будучи превосходным живописцем, Иордане остался чужд тонкому, прозрачному письму Рубенса. Он предпочитал густые, плотные краски, теплые землистые тона; синие, желтые и зеленые ткани в его картинах не связаны общим тоном.
Иордане был младшим современником Рубенса, но держался он обособленно. Снейдерс (1579–1657) выступает в качестве сотрудника великого фламандского мастера. Сам Снейдерс ограничивался преимущественно натюрмортом. Он писал плоды, овощи, дичь, убитых кабанов, раков, битую птицу и оленей; редко когда среди этих предметов мелькнет человеческое лицо. Близость к Рубенсу должна была наложить неизгладимый отпечаток на его искусство: все самые обычные предметы в картинах Снейдерса, сохраняя свою естественную форму, наделяются им необыкновенной силой и одухотворенностью. Они поражают прежде всего своей величиной: капустные кочены превосходят по своим размерам человеческие фигуры, раки нередко ростом с лебедей. Битые лебеди в изнеможении выгибают свои длинные шеи, мертвые олени словно готовы сделать последний прыжок, кабаны угрожающе ощеривают пасть и показывают страшные клыки, собаки и щенята злобно поворачивают голову, когда к грудам предметов приближается человек.
Выполненные в большинстве случаев в ярких и даже крикливых красках, построенные на резких контрастах белоснежного, киноварного и зеленого, натюрморты Снейдерса всегда беспокойны по своему линейному ритму; их жизнерадостность несколько шумлива, движение отличается в них наивысшей степенью напряженности. В просторных фландрских дворцах, где висели натюрморты Снейдерса, их гиперболичность была оправдана тем, что они служили сопровождением той шумной светской жизни, которая протекала в княжеских залах и столовых.
Ван Дейк (1599–1641) был самым значительным учеником Рубенса и вместе с тем ближе всего стоял к учителю. В истории искусства нет второго примера, чтобы одаренный мастер до такой степени усвоил язык своего учителя, как ван Дейк. Трудно представить себе, каким живописцем стал бы ван Дейк, если бы на его пути не стоял Рубенс.
Между тем ван Дейк уже в свои ранние композиции вносит свою нотку даже в тех случаях, когда он берется за темы, которые уже многократно вдохновляли его учителя. Он придает этим композициям больше нервности, остроты, усиливает выразительность фигур. В его «Оплакивании Христа» (Берлин, 1628–1632) больше чувствительности, чем у Рубенса, в «Сусанне со старцами» (Мюнхен, 1618–1620) больше стремительности в мимике преследуемой женщины, его «Иероним» (Дрезден, около 1620) более измучен самоистязанием, чем могучий старец Рубенса (Дрезден, 1606–1608).
Особенно ясно выступает индивидуальность ван Дейка в его портретах. Несомненно, в портрете им было создано лучшее, на что он был способен; в некоторых своих произведениях он даже превосходит учителя.
Он начал с портретов фламандской знати, которую писал и Рубенс, впоследствии долгое время работал в Генуе (1621–1627), где его моделями была местная знать, среди которой особенно хорошо им увековечены чопорные, хрупкие дамы в длинных платьях со шлейфом. Последние десять лет своей жизни он провел в Англии при дворе короля Карла I. Он писал здесь представителей знати, лощеных придворных, томных, бездеятельных, усталых кавалеров, с их взглядом, ушедшим в себя, но бессодержательным и пустым.
Портреты ван Дейка легко отличить от Рубенса по напряженной внутренней жизни, которая светится в глазах моделей младшего художника. В лучших портретах в рост ван Дейка фигуры мужчин при всей своей грации сохраняют подлинное величие. Хрупкие женщины выступают как всевластные повелительницы. Юноши в шелковых камзолах с их горделивой осанкой выглядят как беззаботные баловни счастья. Нередко в портретах ван Дейка все внимание сосредоточено на лицах с тонкими чертами, чуть нахмуренными бровями, холодным и даже жестоким взглядом. Ван Дейк превосходно ухватил в облике кардинала Бонтиволио (палаццо Питти) его заносчивость; он передал напряженную сосредоточенность в канонике Тассисе (Вена), вкрадчивость заметна в облике ряда вельмож. В своих многочисленных автопортретах он обрисовал тип светского, чуть легкомысленного человека, болезненно томного, пресыщенного художника – баловня заказчиков. Этому образу усердно подражало потомство даже в манере носить бархатный берет.
В первой половине XVII века, никто, кроме ван Дейка, не был способен создать образ утонченно-интеллектуального человека, уверенного в себе, спокойного, воспитанного, какой мы находим в лучших его портретах и особенно в рисунках (143). Но как ни много изящества и внутреннего благородства в этих портретах ван Дейка, им не хватает силы, темперамента, полнокровности, жизненности, то есть качеств, присущих портретам его учителя. Ван Дейк всегда сохраняет почтительное расстояние, отделяющее модель от зрителя, и это глубоко отличает его от портретного стиля и Гальса и Рембрандта.
При английском дворе ван Дейк имел огромный успех. От него требовалось быстрое производство портретов во вкусе заказчиков. Перед этими искушениями трудно было устоять. Художник начинает изготовление своих многочисленных портретов с помощью учеников, пользуется манекенами, на которые набрасывает ткани. В его виртуозной технике некоторое время теплится искра подлинного искусства. Уменье найти нежные оттенки красок и эффектно расположить ткани, чувство изысканного долго не покидает его. Особенно хороши его портреты чуть хрупких, благовоспитанных и степенных детей. Но все же в этих портретах ван Дейка усиливается манерность, пустота, поиски внешних эффектов, им не хватает настоящей творческой силы величайших мастеров портрета XVII века.
Несколько обособленное место в фламандском искусстве занимает Броувер (1605–1638). Он учился в Голландии и в Гарлеме, испытал на себе влияние Гальса, но молодым человеком перебрался в Антверпен. Его заметил и ободрил Рубенс, хранивший в своей коллекции целую серию его картин. Ранняя смерть помешала развиться таланту художника, но, несомненно, он был большим живописцем, хотя никогда не брался за высоко ценившуюся в то время религиозную, мифологическую и портретную живопись. Броувер писал только небольшие картинки из крестьянской жизни и пейзажи. Но в своих сценках, которые с первого взгляда кажутся всего лишь смешными и забавными, он достигает высокого совершенства. В Антверпене Броувер, конечно, мог познакомиться с наследием Брейгеля. От него он научился подмечать значительное в невзрачно-уродливой повседневности (ср. 92).
Любимые темы Броувера – это попойки в кабачках, развалившиеся курильщики, игры в карты и кости и потасовка пьяных. Броувер часто изображал деревенские операции с корчащимися от боли пациентами под ножом у доморощенных хирургов, срезающих мозоли, но в скрюченных, гримасничающих и дерущихся фигурах Броувер подмечает что-то остро характерное, почти нечеловеческое (139). Сходным образом впоследствии Домье в повседневности видит страшное и жуткое (ср. стр. 329, внизу). Вместе с тем в этих кривляющихся, пляшущих, фигурках Броувера, почти как в вакханалиях и баталиях Рубенса, проглядывает и огромная жизненная сила.
Все, что запечатлено в холстах Броувера, передано кистью большого живописца, наделенного чувством тона и пониманием ритма. Он не вдается в излишние подробности, его никогда не покидает понимание существенного. Из своих полукарикатурных фигурок он строит композиции, живые, подвижные и вместе с тем пирамидальные и по своей пластической ясности более классические, чем композиции романистов – слепых подражателей итальянцев. Погруженные в полумрак картины Броувера обычно пронизаны теплым золотисто-коричневым тоном; их кое-где оживляют вспыхивающие пятна красного. Некоторые из пейзажей Броувера написаны таким широким и размашистым мазком, каким в XVII веке позволяли себе пользоваться только Гальс и Веласкес.
По характеру своих излюбленных тем Броувер с первого взгляда похож на сверстников– голландца Остаде и фламандца Тенирса Младшего. Но Остаде в своих бытовых картинах обычно благодушен, немного многоречив, порой впадает в чувствительность и никогда не достигает остроты выражения Броувера. Тенирс, который пережил Броувера и стал придворным живописцем, переносит в свои крестьянские сценки академические типы композиции и отдельных фигур и этим убивает свежесть и жизненность этого жанра. Броувер превосходит Остаде и Тенирса и как наблюдатель жизни и как живописец.
Поражение освободительного движения в Южных Нидерландах не смогло остановить роста городской культуры и хозяйственного развития страны. Но это поражение вызвало то, что Фландрия в большей степени, чем другие страны средней Европы, сохранила свои связи с Италией. Во Фландрии в XVII веке строятся иезуитские храмы по образцу римского храма Джезу. Пересаженное на почву Фландрии барокко Италии ясно проявило свой космополитический характер. Правда, вся фламандская школа не приобрела бы такого значения, если бы не существовало Рубенса; но Рубенс не стал бы Рубенсом, если бы не вкусил классической культуры Италии. Гармоническая форма, которая в самой Италии в XVII веке приобретала все более оцепенелый характер, наполнилась новой силой, когда ее оплодотворило фламандское чувство клокочущей жизни, движения, света и цвета. Образы древней мифологии наполнились новым, жизненным содержанием, неведомым художникам итальянского Возрождения, когда Рубенс в образе греческих богов и богинь стал изображать своих соотечественников. Северная и южная школы, которые поколению Микельанджело еще казались непримиримо враждебными, слились во Фландрии в XVII веке в нераздельное единство. В отличие от испанского реализма XVII века, с его противопоставлением крайностей, фламандский реализм бурному движению находил ясную форму выражения, в жизненном усматривал красоту, в плоти – духовное.