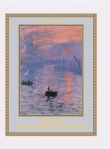Текст книги "Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2"
Автор книги: Михаил Алпатов
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 38 страниц)
Работами Мане, Дега, Моне, Писсаро, Сислея, Ренуара при всем их различии утверждался новый художественный метод – импрессионизм.
В картинах импрессионистов с первого взгляда бросаются в глаза их своеобразные красочные приемы. Но эти красочные приемы были порождением нового мировосприятия. Импрессионисты «открыли» такую сторону мира, которую до них почти не замечали художники, и это естественным образом переполняло их энтузиазмом открывателей. Предшественники импрессионистов воспроизводили предметы, тела, объемы как нечто постоянное и устойчивое. Наоборот, импрессионисты обратили внимание на изменчивость солнечного света, красочный покров предметов, мерцание воздушной среды, едва уловимые краски, которым язык не находит обозначения, но которые кисть может запечатлеть на холсте. Это была новая сторона действительности, и через эту новую сторону они искали путь к пониманию реального мира, к его поэтическому воссозданию. Вряд ли целесообразно спрашивать, кто был более прав – прежние художники, которые передавали листву деревьев всегда одной и той же зеленой краской, или импрессионисты, которые писали их в бесконечном разнообразии тонко подмеченных оттенков, меняющихся в зависимости от освещения в различное время дня.
Обращение к изменчивому и преходящему в окружающем мире сочеталось с потребностью художника выражать в своем произведении свои личные впечатления и настроения, ценность неповторяемых мгновений, когда солнце выглядывает из-за туч и бросает яркий луч на природу или вечером приближается к горизонту и озаряет предметы розовым сиянием. Импрессионисты довели до высокого совершенства искусство закрепления мимолетного, которое до них нередко ускользало от внимания художников.
За долгие годы развития европейского искусства в нем постепенно сложились графические и цветовые формулы для передачи отдельных явлений. Импрессионисты решительно с ними порвали. Метод импрессионистов позволил им разложить зрительные представления о хорошо всем знакомых предметах вроде солнца, неба, деревьев на их составные части, на первичные молекулы, красочные пятна с тем, чтобы самое художественное восприятие картины их вновь воссоздавало, сам зритель вовлекался бы в создание художественного образа.
Картины импрессионистов требуют от зрителя «узнавания». В картине Писсаро «Вид Лувра» (238) бросаются в глаза прежде всего очертания голых ветвей деревьев, светлое пятно круглого бассейна, «выражение» облачного неба, и лишь затем мы отгадываем, что высокая башня вдали с трубами – это всем хорошо знакомый парижский Лувр, поэтически преображенный необычной точкой зрения и редким освещением. Если на близком расстоянии рассматривать картины импрессионистов, можно заметить в них всего лишь небрежные блики, беспорядочно разбросанные на поверхности холста. В отличие от Тициана или Веласкеса (ср. 78, 137), знавших широкое письмо, мазки нередко положены не «по форме», а случайно и беспорядочно. Но достаточно отойти на некоторое расстояние, и из холста, о который художник словно вытирал свои кисти, выступают легко узнаваемые картины природы, очертания живых лиц, жизненные формы.
Импрессионисты воспринимали видимый мир в тесной сопряженности всех его проявлений. Они выражали мир, метафорически уподобляя его краскам солнечного спектра, лепесткам яркого цветка. Они следили за тем, как солнечные лучи отражаются и дрожат в облаках и в воде, в цветах и в пестрых тканях, в лицах и в нежной женской коже. Всю эту световую и цветовую жизнь природы они воспринимали в ее нераздельности. Недаром Ренуар нередко принимался сначала за цветы, случайно стоявшие в мастерской, и натурщице приходилось долго ждать, пока художник находил цветовой тон, чтобы красочно передать на холсте ее тело.
Непосредственное зрительное восприятие служило импрессионистам исходным пунктом при построении живописного образа. Впоследствии о Моне говорили: «Моне это только глаз, но какой глаз!» Природа зрительных восприятий человека была внимательно изучена импрессионистами. Это можно заметить даже по бескрасочным воспроизведениям. Когда Курбе пишет обнаженную фигуру, он стремится прежде всего передать структуру тела, постепенное нарастание могучих объемов; все световые блики, положенные им, служат этой задаче (229). В своей картине на сходную тему Ренуар (241) располагает мазки так, что они утрируют известную еще древним грекам естественную склонность человеческого глаза воспринимать прямую линию как дугу, и поэтому у него сильнее выявлен ритм круглящихся контуров и взаимоотношение цветовых пятен. Само собой разумеется, что это еще нагляднее сказывается при передаче цвета. Подобно тому как ухо человека в раковине слышит шум, глаз после цветового раздражения видит дополнительный цвет даже на белой плоскости. Импрессионисты знали, какие именно цвета требует сетчатка, и нередко характеристику отдельных образов приноравливали к ее потребностям. В цветовой инструментовке холста импрессионисты достигли большой изощренности. С этими поисками колорита связаны и другие живописные приемы импрессионистов: нарушение традиционной уравновешенности, непривычные точки зрения, фрагментарность, незаконченность, пристрастие к этюдам с натуры, которые в конце концов вытеснили выполненные в мастерской на основании этюдов картины.
В ряде своих живописных приемов импрессионисты имели предшественников. Еще Делакруа внимательно всматривался в цветовые соотношения пятен, в действие солнечных лучей на цвет и разлагал цвет на холсте на его слагаемые. Его сверстник романтик Гис почти как Дега стремился передать свободным штрихом мимолетность Своих впечатлений из жизни парижского полусвета. Передача солнечного освещения занимала Тернера и Констебла. Живопись мелким, дробным мазком встречается у Вермеера и Шардена. Леонардо говорил о голубых тенях, арабы называют своих серых коней синими, потому что они выглядят синими под южным небом среди желтых песков. Византийские мозаисты рассчитывали на слияние отдельных цветных кубиков в зрительном восприятии. В японских ксилографиях подчеркнута их фрагментарность и впечатление мимолетности.

42. Ренуар. Девушка с веером. 1881 г. Ленинград, Эрмитаж.
Все эти примеры показывают, что отдельные живописные приемы импрессионистов применялись за много веков до них. Но импрессионизм как живописное направление был порождением XIX века. Импрессионисты пытались подкрепить свои искания авторитетом науки: они ссылались на труды Шеврейля и Гельмгольца, в которых находили научное обоснование своего живописного метода, после того как применили его в искусстве. По мере того, как у поздних импрессионистов интерес к личным впечатлениям вытеснял понимание объективной действительности, они все больше приближались к философским позициям эмпириокритицизма. В этом сказались признаки того оскудения буржуазного искусства, которое наступило в конце XIX века в связи с его отходом от реализма.
Импрессионизм был далеко не единственным направлением в искусстве конца XIX века. Салоны продолжали быть оплотами официального искусства, нередко изысканного по своему мастерству, но неспособного к творческим дерзаниям. Здесь продолжали царить фальшивая красивость, внешняя эффектность в портретах и занимательная повествовательность в жанре. Из этого лагеря велась ожесточенная борьба против новаторства в искусстве. Наоборот, Золя горячо вступался в защиту импрессионистов.
Во многих европейских странах отдельные художники, то опережая французских импрессионистов, то выступая одновременно с ними, трудились над решением сходных задач. В Англии это был замечательный мастер цветовых гармоний Уистлер и более поверхностный портретист Сарджент, в Италии – Сегантини, в Германии – Либерман, Коринт и Слефогт, в России – Коровин, в Швеции – Цорн, в Голландии – Ионгкинд, в Бельгии – ван Риссельберг. Все они говорили живописным языком импрессионистов. Конечно, этим не исключалось, что каждая из школ, откликнувшихся на это направление, имела свой самостоятельный облик, следовала своим традициям: в английских портретах больше представительности и сдержанности, в немецких – мимолетной экспрессии, в русских – выражения характера человека.
Импрессионисты намеревались расширить рамки своего искусства, уделяя много внимания картинам природы, пейзажу, но другие жанры постепенно стали отмирать, образ человека потерял то почетное место, которое он искони занимал в европейском искусстве. Недаром еще современный импрессионистам критик Бюргер-Торе упрекал Мане в пантеизме, в том, что его одинаково занимает букет цветов или выражение лица. Самая чуткость импрессионистов ко всему случайному и неуловимому таила в себе опасность безмерного развития субъективизма в искусстве, у эпигонов импрессионизма она приводила к настоящей подмене самого предмета впечатлением от него. В связи с этим стоит то, что в живописи конца XIX века постепенно утрачивается интерес к человеческой жизни, протекающей в картине, интерес, которым жили предшествующие поколения художников Западной Европы. Это вело к тому, что сначала отмерла историческая живопись, потом стала отмирать бытовая живопись, утратилось понимание композиции, постепенно терялась нравственная, идейная основа искусства, которая искони питала художественное творчество. Особенно крупной потерей было то, что импрессионисты утратили интерес к картине, как к синтетическому образу мира, и ограничивались писанием этюдов с натуры.
Импрессионисты не могли создать большого, монументального искусства, хотя Мане к нему неустанно стремился. У великих мастеров XVII века можно найти «куски живописи», вроде букетов или натюрмортов в портретах Веласкеса, выполненные почти как картины Мане и Ренуара. Но то, что было в классических картинах частью большого целого, выдавалось импрессионистами за картину. Импрессионисты гордились прежде всего своими чисто живописными красочными достижениями. Но отказ от классической системы живописи и победа письма «a la prima» (красками, положенными в один слой) вели к огрубению художественного языка. Картины лучших импрессионистов с их высветленными красками в сравнении с картинами XVII века выглядят, как пышные и яркие садовые цветы в сравнении с более скромными естественными по краскам полевыми цветами.
Импрессионизм зародился в живописи. Но на выставках импрессионистов появлялись скульптурные произведения Родена (1840–1917). Его объединяло с ними отвращение к холодному, фальшивому, официальному искусству Франции, к Салонам. Ему приходилось особенно трудно отстаивать свою самостоятельность и художественную самобытность, потому что в скульптуре XIX века почти не было независимых. Даже такой одаренный скульптор, как Карпо, которого с лучшей стороны характеризуют его портреты и небольшие статуи, при исполнении декоративных рельефов для Парижской оперы (1869), особенно эффектного горельефа «Танец», отдает дань вкусам Салонов и обнаруживает забвенье пластической формы. Роден долго и упорно пробивал себе путь. Прежде чем стать скульптором, он чувствовал себя поэтом, художником. Его вдохновляли Данге, Бодлер, Делакруа. Он учился скульптуре у древних, Микельанджело, Гуд она, Рюда.
В скульптуре по самому ее характеру всегда главное внимание привлекал к себе человек. Это помогло и Родену отдать все свои творческие усилия теме, которая в живописи конца XIX века отступала на второй план. Роден посвящает себя образу, который, начиная с древности, привлекал великих мастеров скульптуры, образу человека-героя. Правда, его искусство не могло стать таким же полнокровным и цельным, каким было искусство великих ваятелей древности. В художественном языке Родена много нервности, взволнованности, преувеличений. Но все же Роден свидетельствует о тех гуманитарных началах, которые не умирали в искусстве Западной Европы XIX века.
Ранние произведения Родена поражали своей неприкрашенной правдой. «Человек со сломанным носом» (1864) и «Бронзовый век» (1877) после лощеных статуй академических скульпторов казались современникам грубыми слепками с натуры. «Человек со сломанным носом» Родена открывает собой серию его замечательных портретов: Лоранса и Пювис де Шаванна, Бальзака и Гюго (43). Его занимают люди внутренне значительные, со следами переживаний и страстей, с лицами, изборожденными морщинами, отмеченными печатью раздумий. В портрете Виктора Гюго все черты лица содействуют сильной характеристике модели: наклоненная, словно под бременем глубоких раздумий, голова, высокий и открытый лоб, беспорядочно брошенные пряди волос, нахмуренные брови, настойчивый взгляд человека, увлеченного одной идеей, плотно сжатые губы, усы и борода, передающие скорбную мимику губ, могучие мускулы на груди. Нужно сравнить этот образ с «Вольтером» Гу дона (ср. 185), чтобы понять, что в каждой из этих двух голов отразилось целое столетие. В противовес образу насмешливого скептика XVIII века Роден создает образ поэта-мыслителя, пророка, страдальца. В портрете Родена Бальзак (1889–1894) с его толстой шеей, торчащими усами, пухлыми губами похож на сладострастного силена, но искра вдохновения озаряет его взгляд и претворяет его безобразие в выражение трагической греческой маски.
Фигурой юноши с закинутой головой и рукой – «Бронзовый век» – открывается ряд статуй, в которых Роден стремится вернуть человеческому телу в скульптуре его жизнь и одухотворенность. За «Бронзовым веком» последовал огромный, широко шагающий, как египетские статуи, «Иоанн Креститель», согбенный «Мыслитель», скрывающая лицо со скорбной стыдливостью «Ева», наконец группа «Граждане Кале» (1895).
В этих произведениях сложился тип человека, который неизменно проглядывает во всем творчестве Родена. Ему не дано было создать счастливые, спокойные и радостные образы; люди Родена – это не столько люди действия, естественных порывов, сколько люди переживаний, томлений. Словно движимые высшей силой, они живут в вечной тревоге, всегда чего-то ждут, о чем-то вопрошают, исполнены мучительных раздумий. Им знакомы сильные страсти, большие чувства. Таких людей почти не знало ни французское искусство, ни литература XIX века. Только у знаменитого норвежского драматурга Ибсена можно найти такие же сильно очерченные образы, такие же героические личности, такое же высокое чувство трагизма.
«Граждане Кале» Родена – одно из значительных произведений монументальной скульптуры конца XIX века. В памятнике увековечена группа патриотов, которые ради родного города жертвуют собой и направляются заложниками к врагу. Одно и то же переживание, как рок, тяготеющий над людьми, проглядывает сквозь темперамент отдельных людей. Старик выражает спокойную готовность человека, покончившего все счеты с жизнью. Безбородый мужчина с ключом в руках с выражением дантова Фаринаты как бы с презрением взирает на предстоящие испытания. Третий с протянутой рукой с горьким сомнением обращается к спутнику, словно вопрошает о смысле происходящего. Последний обнял руками голову – на грани полного отчаяния. В руках Родена скульптура, которая стала в XIX веке изнеженной и бесхарактерной, заговорила величавым языком Данте и Микельанджело.
Впрочем, в отличие от великих мастеров Возрождения, Роден всегда склонен к некоторому преувеличению. Современники говорили, что это и в жизни накладывало на Родена отпечаток некоторой напыщенности и ложного пафоса. Он редко мог ограничиться просто образом женщины: его влечет к себе тема «вечной женственности». Если в скульптуре представлено, как мужчина целует молодую женщину, то это воплощение «вечной любви». Даже в «Гражданах Кале» чувствуется тщетное усилие придать исторической трагедии характер извечной непримиримости человека с миром. Соответственно этому замысел многих скульптурных произведений Родена носит отвлеченно-символический характер, как «Любовь», «Призыв», «Стыд», «Страдание», «Отчаяние» (242). Роден не может изображать человека, не сопрягая его непременно с представлением о вечности, не ставя его на краю бездны, не вкладывая в него чувств и раздумий всего человечества. В этом сказалось воздействие на Родена пережитков романтической риторики Виктора Гюго. Эта риторичность портит многие замыслы Родена. В ряде его произведений заметны усилия сказать больше, чем можно сказать средствами искусства.
Огромной заслугой Родена было возрождение скульптуры. Родену помог в этом пример великих скульпторов прошлого, как импрессионистам помогал опыт колористов XVII века. Правда, он полностью так и не овладел пониманием скульптурного материала: он лепил свои статуи из глины, предоставляя мастерам-каменотесам высекать их в мраморе. Мрамор, который сам по себе обладает большой сопротивляемостью, выглядит у Родена податливым, как воск, порой мягким, как вата. Пользуясь белизной мрамора, Роден создает вокруг фигур как бы светящееся облако, сияние; в этом ощущении воздушной среды как чего-то окутывающего фигуры Роден соприкасается с импрессионистами и отличается от античных мастеров. Это сделало его неспособным включить скульптуру в архитектуру и предопределило неудачу его монументального замысла «Врат ада» (1380–1917), для которых им был выполнен ряд превосходных отдельных статуй. Между тем, несмотря на шероховатость поверхности и порой мягкость форм статуй Родена, в них стихийно проявляется могучая, как в античной скульптуре, лепка, мышцы вздуваются, планы ритмично следуют друг за другом, контуры фигур полны живого трепета (242), совсем как контуры в его изумительно свободно выполненных рисунках. Роден в числе немногих скульпторов после Микельанджело строил круглую статую с расчетом на то, чтобы она вырисовывалась с разных точек зрения во всем богатстве и многообразии своего движения. Всеми этими чертами Роден заслуживает быть причисленным к великим художникам правды.
Превосходный живописец, рисовальщик и литограф Тулуз Лотрек (1864–1902) в своих картинах из жизни парижской богемы и театра идет по стопам Дега. Но в отличие от сдержанного и внутренне уравновешенного Дега Тулуз Лотрек вносит в свое искусство больше возбуждения – то безмерной веселости, то усталости, тоски, горечи, опустошенности. В изображении мужчины в котелке, сидящего в кабачке за столиком рядом с отвернувшейся от него и скучающей падшей женщиной («Со своей милой», Париж, частное собрание, 1891), с захватывающей искренностью обрисована трагедия буржуазной каждодневности. И в живописи и особенно в графике Тулуза Лотрека подчеркнуты нервно-выразительные, беспокойные линии.

43. Роден. Портрет Виктора Гюго. Бронза. 1887. Париж, Музей Родена.
В другом направлении развивается творчество Сейра (1859–1891). Беря обычные жанровые сюжеты («Воскресенье на пляже Гранд Жатт», Чикаго), он стремился претворить мимолетные этюды в строгую классическую композицию, одновременно с этим разлагая каждое цветовое пятно на его составные части. Еще более последовательным был в этом Синьяк, живопись которого, как мозаика, или, точнее, как цветные репродукции, распадается на множество разноцветных, но однородных по форме точек (отсюда название этого направления «пуантелизм»), которые лишь в восприятии зрителя должны сливаться воедино. Внося педантическую систему в живописное письмо, Синьяк изгоняет из своих картин свободное вдохновение, которым дышат лучшие пейзажи импрессионистов.
Импрессионизм сложился как художественное направление в 70-х годах XIX века. В эти годы были созданы лучшие произведения Клода Моне, Ренуара и ряда других мастеров. Однако в течение последующих десятилетий под влиянием усиливающегося кризиса буржуазной культуры в импрессионизме становятся все более заметными признаки вырождения. В эти годы на первое место выдвигаются чисто декоративные задачи и на второй план отступает изобразительная, образная природа станковой живописи. Ослабляется зоркость художников к окружающему миру, усиливается роль зыбких, неуловимых и субъективных переживаний и состояний художника, и это приводит к сближению с символизмом. Этот отход от первоначальных задач ясно замечается в творчестве ряда мастеров, выступивших еще в 70—80-х годах, но развившихся лишь в последние годы XIX века. Среди этих художников самостоятельными путями пошли ван Гог и Гоген.
Ван Гог (1853–1890) был в жизни человеком неуравновешенным, не знавшим меры, сумасбродом вроде талантливого и рано исчерпавшего себя поэта Артюра Рембо. В общении с людьми он был невыносим своей подозрительностью, по внешности отталкивающе невзрачен, но он обладал страстной душой и глубокой искренностью. Он болел за всех страдальцев, один из немногих среди художников конца XIX века не забывал об общественном неравенстве и помнил заветы французской революции. В противоположность Родену, он был очень скромного мнения о себе, всегда чувствовал себя маленьким, приниженным человеком; он был глубоко несчастен в жизни и умер, рассорившись с другом, потеряв душевное равновесие.
Всю жизнь ван Гог горел страстной любовью к искусству. Его переписка с братом – это настоящая исповедь художника. Только один Делакруа говорил об искусстве с таким же волнением, с такой же настойчивостью стремясь проникнуть в сокровенные вопросы художественного творчества. Ван Гог был тесно связан с французской школой, но, голландец по происхождению и воспитанию, он постоянно нарушал то строгое чувство меры, которое давно стало национальной традицией французского искусства.
Как живописец ван Гог не сразу нашел свой язык. Вначале он следует голландским жанристам XIX века; его занимают картины труда, жизнь бедняков. Милле был в числе его любимых мастеров. Он был многим обязан народным картинам с их наивной наглядностью образов. Знакомство с японскими ксилографиями, особенно встреча с импрессионистами в Париже пробудили колористическое дарование ван Гога; он быстро выработал свей живописный почерк. Его самостоятельное творчество длилось всего несколько лет. Лучшие среди его многочисленных холстов были написаны летом 1888 г. во время пребывания на юге Франции, в Арле.
Картины ван Гога с первого взгляда легко отличить от картин его современников: каждый штрих его, каждое красочное пятно исполнены особенной выразительности и силы, несут печать его индивидуальности. Он писал все, что его окружало: улицу города, тускло освещенные газовой лампой кабаки, окрестные поля, маленькие домики с черепичными кровлями, свою комнату с деревянной кроватью и развешанными по стене картинками, простой соломенный стул или грубые стоптанные башмаки. Он писал своих друзей и соседей. Попавши в психиатрическую больницу, он запечатлел ее садик, ее обитателей и доктора. Все, что он видит и изображает, неизменно исполняется болезненно-исступленной взволнованности.
В картине ван Гога «После дождя» (Москва) представлены далеко раскинувшиеся поля с их полосками грядок, залитая водой дорога, несколько домов с красными кровлями, вдали пыхтящий паровоз и множество вагонов. В сравнении с любым импрессионистом ван Гог оставляет неизмеримо более беспокойное впечатление. Он видит природу словно из окна быстрого экспресса: борозды полей, как морские волны несутся навстречу зрителю, расходятся веером, складываются вместе, почва то поднимается, то опускается; в природе нет решительно ничего, что не участвовало бы в этой беспокойной жизни целого; облака, клубы дыма, ветвистые деревья, даже плоские крыши – все включается в это движение. Только у одного Греко можно встретить подобное болезненно-страстное внедрение человеческого «я» в образы мира.
В своих картинах ван Гог свободно, почти произвольно обращается с перспективой; усиливая сокращение линий, он пытается создать впечатление стремительного движения: полоски полей извиваются, волны курчавятся, словно гримасничают, кипарисы гнутся, подсолнечники с их желтыми лепестками трепещут, как окруженный лучами солнечный диск, самое небо и солнце свиваются в причудливый узор. В этом движении нашел себе выражение глубоко личный взгляд ван Гога на мир, его сопереживание ритма и дыхания всей природы, живущей одной нераздельной жизнью. Впрочем, в поисках этой одухотворенности ван Гог вкладывал в картины слишком много своего болезненного возбуждения, и поэтому «душа мира» оказывается в его истолковании проявлением его личной воли и его собственного волнения. Сам ван Гог признавался, что передать свое впечатление – это всего лишь первая задача художника; вторая и главная его задача – вложить в него свое чувство, и ради этого он допускает такие преувеличения, которые искажают действительность. Это разграничение отличает ван Гога от реалистов, для которых художественное воспроизведение действительности тождественно выражению своего чувства.
В своих портретах ван Гог, как и в пейзажах, стремится создать впечатление повышенной болезненно напряженной выразительности. Он настойчиво подчеркивает мимику лица., выделяет морщины, складки одежды извиваются в его портретах, как пенистые волны в его пейзажах. В ряде портретов и автопортретов ван Гога проглядывает та страстность, та трагическая правда, которая после него вовсе исчезает из портрета Западной Европы.
Образ мира ван Гога проявляется в неповторимости его живописного почерка: пишет ли он картину или делает зарисовку пером, он никогда не терпит спокойной, ясной плоскости; он должен разложить ее на пятна, пятна на линии и штрихи, они ложатся параллельно, бороздят всю поверхность картины, образуют причудливые завитки. В его картинах и рисунках штрихи находятся в состоянии вечной погони: одни линии настигают другие линии, перебивают их и наполняют плоскость напряженным движением.
Беспокойному линейному ритму отвечают и краски ван Гога. Он хорошо усвоил от импрессионистов разложение цвета и искусство пленэра, но, опираясь на японскую гравюру, широко использует чистые тона. Но чистые краски ван Гога не столько характеризуют самый цвет предметов, сколько выражают взволнованное состояние художника. В этом ван Гог примыкает к Рембо, который пытался сделать цвет языком своей поэзии: «Куски желтого золота, рассеянные среди агата, столбы из красного дерева, поддерживающие изумрудный купол, букеты из белого шелка и тонких рубиновых веток окружают водяную розу» («Цветы»). В картинах ван Гога тревожно-возбужденные черепичные крыши вспыхивают краснотой в контрасте с режущей зеленью полей; зеленое небо осеняет желтую дорогу; ослепительно красный костюм зуава придает его образу безудержную энергию; желтый свет газовой лампы в ночном кабачке в сочетании с яркозеленым биллиардным столом сообщает всей сцене настроение тревожной опустошенности. Сам художник советовал пользоваться чистым и ярким светом там, где глаз видит полутона и оттенки. Он нередко прямо выдавливает на холст краску из тюбика.
В сравнении с картинами импрессионистов живопись ван Гога с ее грубо очерченными предметами кажется примитивной. Но ван Гог подкупает своей впечатлительностью, своим страстным желанием сохранить и передать всю красочность природы. «Вчера вечером, – рассказывет он в одном письме, – я работал над слегка возвышенной лесной опушкой, покрытой сухими сгнившими буковыми листьями… Тут не придет на ум ни один ковер, так великолепен был в этот осенний вечер темный коричнево-красный цвет в солнечном пламени, слегка ослабленном деревьями. Из зелени тянутся юные побеги бука, с одной стороны они ловят солнечный свет, сверкают зеленью, с теневой стороны – темный, густой черно-зеленый цвет. За деревцами, за коричнево-красной землей – воздух нежнейшего теплого сине-серого цвета… Порой на фоне темной коричнево-красной земли блеснет белый чепец женщины, наклонившейся за сухим сучком… Фигуры, массивные, полные поэзии, кажутся среди темных, сумеречных теней огромными терракотами».
Жизнь Гогена (1848–1903) была так же неспокойна, как и жизнь его друга ван Гога. Будучи по матери креолом, он детство провел в Перу среди китайцев и негров, но получил воспитание во Франции. Он долгое время занимался живописью как любитель-коллекционер, подружился с импрессионистами, изучал Пювис де Шаванна, работал в Арле с ван Гогом. Потом по странной прихоти бросил все и отправился на остров Таити (1891), где нашел вторую отчизну, проникся духом его пышной, красочной природы, полюбил местное население, которое защищал от колонистов. За исключением недолгого пребывания в Париже, он провел остаток жизни на тихоокеанских островах. Он сам во взволнованном тоне рассказал о Таити в дневнике «Ноа-Ноа».
Мир рисуется Гогену как многоцветный восточный ковер с пахучими ядовитыми цветами. Эту одуряющую, как опиум, красочность Гоген искал еще в Арле, но вполне обрел среди пышной природы Таити. В его пейзажах с их огромными пестрыми деревьями, важно разгуливающими птицами, животными и страшными идолами есть влекущая, но жестокая красота, и человек чувствует себя среди них потерянным. Пейзажи Гогена то пробуждают сладкую негу, то внушают безотчетный страх. В картинах Гогена редко что-нибудь происходит. Художник признавался, что хотел всего лишь передать «согласие жизни человеческой с жизнью животной и растительной» и «предоставить большое место голосу земли». Действительно, люди и животные, деревья и травы стелются по его холстам, все они в равной мере ведут чисто растительное существование. Гоген располагает предметы в нескольких планах, передает отдельные фигуры в ракурсе, но избегает пересечений, поднимает горизонт, и потому картины его носят плоскостной ковровый характер. В отличие от ван Гога, который раздроблял плоскость мелкими мазками, Гоген предпочитает широкие гладкие пятна, и только контуры этих пятен, мягко изгибаясь, сплетаются в своеобразный узор.
Краски Гогена вспыхивают не так ярко, как у ван Гога; они скорее тлеют, словно разливая сладкий ядовитый аромат. Импрессионисты придавали листве деревьев оранжевый оттенок, так как она казалась оранжевой при вечернем освещении. У Гогена преходящие красочные оттенки вещей превращаются в их постоянные признаки: у него можно видеть оранжевую собаку, розовый песок, зеленых коней. Краски Гогена оправданы не потребностью глаза в дополнительных тонах, как у импрессионистов, они выражают смутный строй переживаний художника. Он сам говорит об одном из своих замыслов: «Простыня из материи должна быть желтой, потому что этот цвет возбуждает в зрителе предчувствие чего-то неожиданного и создает впечатление света лампы… Нужен несколько пугающий фон, и для этого вполне подходит фиолетовый цвет».
Влечение к первобытной жизни испытывали многие европейцы еще до Гогена. Это влечение было продиктовано жаждой вернуть культуре ее утраченную чистоту. Но Гогена привлекает вместе с тем и самая дикость и неразвитость таитян; он поддается их суеверию, их страху, их чувству тайны. Недаром еще до поездки на Восток его вдохновляла романская скульптура в ее наиболее примитивном выражении. На Таити он не только изображал природу и людей этих краев, но и сам пытался говорить языком таитянского первобытного искусства, проникнуться мировосприятием дикаря. Неудовлетворенный средствами живописи, он прибегает к помощи длинных пояснительных надписей.