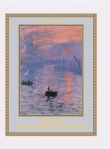Текст книги "Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2"
Автор книги: Михаил Алпатов
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 38 страниц)
Хотя Рубенс усвоил и развил многие черты искусства барокко, нужно признать, что из всех школ европейского искусства XVII века фламандская больше других была хранительницей заветов Возрождения. Рубенс был одним из последних западноевропейских художников-гуманистов, живших полной, счастливой и гармонической жизнью. Его искусство радует, как занимательное зрелище, как беззаботный праздник. В XVII веке такого полнокровно-радостного искусства мы не находим ни в Испании, ни в Голландии, ни во Франции, ни даже в самой Италии.
Влияние фламандской школы и особенно Рубенса было очень велико, хотя, естественно, что наследники находили в нем лишь то, что каждому из них было нужно: в Испании в XVII веке заметно влияние портрета Рубенса; в Голландии отразились религиозные композиции Рубенса; в Италии нашел отклик тип живописного алтаря. В XVIII веке Ватто привлекает в Рубенсе его колоризм; пример Рубенса помогал Ватто создать галантный жанр. В Англии на основе традиций Рубенса и ван Дейка развивается портрет. В XIX веке влияние голландцев было значительнее, чем влияние фламандцев. Только один Делакруа страстно увлекался Рубенсом, его монументальными композициями, охотами на львов и с болью сознавал неосуществимость заветов великого фламандца в новое время.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
…Но гнал ее я с сердца прочь.
она была банкрота дочь…
Кате, Автобиография
Я не нахожу в природе ни красоты,
ни безобразия, ни порядка, ни смятения,
так как предметы только в зависимости
от наших представлений кажутся
прекрасными и безобразными.
Спиноза, Письмо к Ольденбургу
XVII веке, когда в Европе повсюду побеждал абсолютизм в разных его формах и домогался руководства всей хозяйственной и умственной жизнью страны, голландские города стремились сохранить старые коммунальные свободы, о которых помнили деды и прадеды, о которых говорилось в хрониках, как о счастливой поре. Им пришлось выдержать упорную, трудную борьбу с внешними врагами: голландские торговцы и ремесленники имели мало склонности к военному делу, но на их стороне была уверенность в своей правоте, готовность на крайние жертвы. Путем напряжения всех национальных сил северные провинции завоевали себе независимость и образовали федеративную республику. Государство почти не вмешивалось в частную жизнь людей и ограничивалось преимущественно делами внешней политики. Маленький голландский народ в борьбе с Испанией выказал большое мужество. В своей жизни он проявлял трудолюбие, усердие, любовь к порядку и чистоте. Коммунальные нравы долгое время сохранялись в этом уголке Европы. Путешественников из других стран неизменно удивляло, что голландские министры по облику своему мало отличались от простонародья. Галантные французы ядовито замечали, что от них пахло селедкой.
Голландцы сражались за восстановление свобод старого коммунального строя, но они не могли остановить бурного капиталистического развития страны. В XVII веке Голландия становится, по выражению Маркса, образцовой капиталистической страной Европы: здесь выдвигаются крупные центры торговли; биржевая игра приобретает огромные масштабы. В XVII веке голландский капитал проникает во все страны Европы; голландские колонии на Востоке служат основой его могущества. По мере капиталистического роста Голландии перед ней возникали новые жизненные вопросы, новые сложности и трудности, и они уводили ее передовых людей XVII века далеко от задач, ради которых началось национальное движение.
Это движение поднялось в свое время под лозунгом завоевания свободы. Слово «свобода» не сходит с уст голландцев XVII века. «Без свободы разума и свободы мысли, – говорит Спиноза, – не могут развиваться науки и искусства, ибо последние разрабатываются с счастливым успехом только теми людьми, которые имеют свободу и непредвзятое суждение». Конечно, Голландия была далека от осуществления этого идеала, но значительные успехи на этом пути были все же достигнуты.
Европа XVII века дымилась от костров инквизиции, между тем в Голландии того времени не имело места ни одного процесса против ведьм. Духовенство не было влиятельным в этой стране, здесь вовсе не существовало монастырей. Голландские университеты пользовались независимостью, какой не знали в то время другие страны. Не удивительно, что в Голландии искали приюта многие передовые мыслители XVII века: здесь долго жил Декарт; сюда звали Галилея после его осуждения папской курией.
Все это не исключало напряженной идейной борьбы. Протестантизм после победы распался на отдельные направления. Господствующее положение занимали кальвинисты с их суровой религией предопределения, жизненно необходимой бюргерству в период первоначального накопления. Патрицианские слои и образованные круги тяготели к учению арминиан (ремонстрантов), которые восставали против предопределения. В стороне от обоих направлений держались меннониты, которые отстаивали личную свободу человека и отрицали всякие догматы. В Голландии в XVII веке Гуго Гроций развивал мысль о свойственной человеку от природы потребности в разумном устроении общества и права, а Спиноза признавал естественным состоянием людей равенство. Учение Спинозы получило широкое признание значительно позднее. Примечательно, что именно в Голландии возникла попытка Спинозы объяснить мир из него самого без вмешательства сверхъестественного. Многие мыслители стремились к этому и в более раннее время, однако лишь у Спинозы эта идея, согретая глубокой любовью к миру, вылилась в стройную форму философской системы.
До XVII века голландская школа живописи занимала скромное место в Нидерландах: она не отличалась особым совершенством своего формального выражения, скорее лишь чистотой настроения и тонким поэтическим отношением к каждодневности. В XVII веке голландскому искусству выпала на долю почетная роль: голландское искусство стало первым искусством в истории Западной Европы, которое, не опираясь на помощь церкви и авторитет государственной власти, сумело приобрести черты большого стиля. Голландское искусство XVII века должно было украшать каждодневность человека, находить поэтическую красоту в жизни частного лица, гражданина.
Первые крупные успехи голландской живописи лежат в области портрета. Выдающимся голландским живописцем начала XVII века был Франс Гальс (около 1580–1666). Мы мало знаем о его жизни; видимо, это был человек, который при всем своем огромном таланте охотнее всего предавался незатейливым утехам в гарлемских кабачках. Впоследствии передавали, что у него были нелады с супругой, почему его постоянно вызывали в суд, и что ученики после попоек приводили его под руки домой. Но ему прощали его бесшабашность. Сограждане охотно заказывали ему портреты и водили к нему в мастерскую именитых гостей – ван Дейка и Рубенса. Видимо, весь Гарлем гордился своим художником. Франс Гальс принадлежал поколению, которое на своих плечах вынесло тяжесть освободительной борьбы. Люди в ранних портретах Франса Гальса подкупают своей жизненной силой, здоровьем, веселостью, порой некоторой самоуверенностью и даже кичливостью, правда, смягченной значительной долей добродушия.
Франс Гальс был современником Иорданса. Здоровая жизнерадостность роднит их искусство. Но Иордане даже в «Сатире в гостях у крестьянина» пользавался иносказанием, он не может обойтись без мифологических персонажей или без младенца Христа, чтобы найти повод для изображения фламандских крестьян и бюргеров. Гальс называет вещи своими именами. Неспособный к мифологическим вымыслам, чуждый религиозному благочестию, он был по призванию портретистом, часто писал на заказ, но писал также близких ему людей, нередко своих собутыльников, которым нечем было заплатить не только за картину, но и за лишнюю кружку вина. Франсу Гальсу было чуждо понимание портрета как обособленного жанра: для него не было граней между портретом, бытовым жанром и характерными типами – пьяницы, урода или кавалера. В этом смешении жанров было условие необыкновенной жизненности искусства Гальса.
Перед его глазами прошло множество различных людей; он охватил своим взглядом целую социальную лестницу типов со всеми их отличительными признаками, но ступени этой лестницы не были отделены друг от друга и непереходимы. Он бывал в обществе бравых стрелков, которые в шумной беседе, поднимая кубки, вспоминали боевые подвиги освободительной войны, видел кичливых офицеров с закрученными усами, зажиревших от спокойной жизни на готовых хлебах. Перед его мольбертом сидели различные типы купцов, начиная с уличных торговцев с их вульгарными манерами. и кончая представителями чопорной бюргерской знати, домогавшейся почестей, настоящими мещанами во дворянстве с их важными супругами в тугих парчовых робах.
Ему было особенно по душе, когда позировали веселые завсегдатаи гарлемских кабачков вроде задорного гитариста, наигрывающего серенаду (Париж, Ротшильд), лукаво улыбающейся цыганской девушки (Лувр) или старухи Малле Боббе (23), вцепившейся в кружку, с улыбкой-гримасой на устах и совой на плече, делающей ее похожей на ведьму.
Он умел с редкой непредвзятостью смотреть на свои модели, но был неспособен к их вдумчивому, пристальному изучению. Единственный раз перед его мольбертом сидел человек богатой внутренней жизни – Декарт, но Гальс увидал в нем только чудака, похожего на ночную птицу (Лувр).

23. Франс Галь с. Малле Боббе, гарлемская колдунья. 1635-40 гг. Берлин, Музей Фридриха (до 1941-45 гг.).
Подобно Веласкесу, Гальс умел с первого взгляда уловить в лице модели то, что действительно можно уловить с одного взгляда, и он торопился это передать на холсте. Особенной чуткостью он отличался к быстрым движениям, к мимике человека, к его переходящим в ужимки жестам и улыбкам – ко всем тем состояниям, при которых человек как бы на мгновенье перестает играть комедию жизни. Он схватывал на лету гримасы певца серенады, самоуверенный жест подбоченившегося жирного купца (Мюнхен), торжественную и немного смешную поступь и осанку вообразившего себя знатным кавалером купца Гейтхейзена (Вена), развязность, с которой тот же Гейтхейзен с хлыстиком в руках покачнулся на кресле (Брюссель). Если это только было возможно, он позволял своим моделям держаться непринужденно, и действительно в большинстве случаев они сидят, как попало, облокотившись удобно в кресле, точно сползая с него.
В портрете Малде Боббе (23) Гальс так метко схватил ее мимолетное движение и поворот головы, что портрет перерастает в небольшую жанровую сценку. Пьяная старуха словно разговаривает с умной совой, сидящей на ее плече, и поскольку сама старуха похожа на сову, а сова – на кружку, в картине наглядно выражена внутренняя связь старой ведьмы, совы и кружки, как трех персонажей единого драматического действия.
Малле Боббе сдвинута несколько книзу, так что над ней остается много свободного пространства. Модель редко находится в центре холстов Гальса; рама обычно срезает ее (в частности в «Гитаристе» закрывает ее с обеих сторон). Срезанность фигур рождает впечатление о портрете как о части большого целого. Это не мешает Гальсу заботиться о строгом построении своей композиции: в портрете Малле Боббе кружка слева, птица и край спины старухи справа дают ей строгую устойчивость. Наоборот, в «Цыганке» через фон картины наискось проносятся облака, и это увеличивает движение и в фигуре.
Гальс любил свободные, непринужденные и даже порывистые жесты моделей. В согласии с ними и сам он выполнял свои картины, не стесняя движения руки никакими условностями. Сам художник держался так же свободно, как и его модели, и в этом заключалось условие гармонии его творчества. Гальс был одним из первых мастеров свободного мазка, легко положенного на холст; в этом он предваряет и даже превосходит Веласкеса. У него был свой живописный почерк, по которому узнаешь каждый кусок его подлинной живописи. Он не любит вести свою кисть «легато», так чтобы один мазок сливался с другим, переходил в другой. Он бросал мазки, по выражению одного критика, словно кистью стегал свой холст. Ему доставляло особенное наслаждение мускульное усилие, которого требует от человека самый процесс писания картины. Он не желал скрывать от зрителя, что картины делаются рукой человека, склонной к своеобразного рода движениям, к особому ритму, и поэтому свободная фактура Гальса должна рассматриваться как победа творческой личности в искусстве.
Возможно, что картины Гальса казались многим незаконченными эскизами, этюдами. Но замечательно, что в его как бы небрежно положенных на холст мазках сразу узнаешь изображенные предметы: и лица, и фигуры, и позументы галуна, и ломкое кружево. Он не любил плавно гнущиеся формы, круглящиеся линии и предпочитал покосившиеся шляпы, угловатые складки, вихрастые волосы: все эти предметы было легко передать его любимым порывистым мазком. В более позднее время, когда ему стали изменять силы, он допускает, чтобы красочный мазок не вполне совпадал с контуром предмета: мазок словно нечаянно сдвинут со своего места, и хотя это не мешает угадать, что изображено, красочность пятен приобретает особенную силу.
Гальс в совершенстве владел искусством валеров, умел объединить картину общим тоном, но он не боялся положить черное пятно рядом с белоснежным, так как располагал вокруг них множество промежуточных тонов и составлял из них нечто целое. Черный звучит у Гальса как самый благородный, насыщенный цвет.
В зрелые годы Гальс многократно показывал свои силы в области группового портрета: он умел охватить одним взглядом шумные, многолюдные собрания стрелков с пробегающей сквозь них волной движения, с веселым чадом пирушек (стрелки св. Георгия, 1616; стрелки св. Адриана, 1623–1624).
Этот новый вид живописи – групповой портрет – был порождением демократического строя Голландии, выражением того крепкого чувства товарищества, которое требовало наглядного увековечения в картине. В групповых портретах предшественников Гальса фигуры нарочито расставлены, мало связаны друг с другом, картины производят впечатление сшитых из отдельных кусков. Быстрый взгляд Гальса, его несравненное уменье на лету улавливать движение и передавать мгновенное, позволили ему стать самым замечательным мастером групповых портретов.
Незадолго до смерти художник впал в нужду; у него было мало заказов. Город вынужден был выплачивать ему скромную пенсию.
Долгие годы расточительной, бесшабашной жизни должны были подточить силы художника. Может быть, находились недоброжелатели, которые считали, что он разучился рисовать, что кисть не слушается его руки. Но он сохранил всю остроту своего живописного мировосприятия: теперь ему раскрылись такие стороны в людях, которых он раньше не замечал. В эти годы ему были заказаны портреты попечителей (147) и попечительниц гарлемской богадельни.
Эти поздние портреты Гальса полны внутренней тревоги. Куда девалась живая, темпераментная мимика его людей, смелый, решительный удар его кисти (ср. 23)? Перед нами не люди, а бледные тени. Группы распадаются на части; каждая фигура распадается на красочные пятна, резкие и угловатые. Черные шляпы, которые когда-то так удальски заламывали кавалеры, по выражению одного критика, стали похожи теперь на огромных черных птиц и словно отделились от фигур. Белые манжеты и воротники образуют беспокойные треугольники. Мы видим усталые осовелые лица. Кажется, с человека спадает последний покров; чувствуется дыхание смерти. Художник, который так много ждал от жизни, испытывает теперь глубокое разочарование. Веселый праздник жизни сменяется жутким предчувствием конца.
Дожив до восьмидесяти четырех лет, Гальс чувствовал себя одиноким и непонятым. Успевшие подрасти за это время молодые поколения художников были чужды ему, имели другие вкусы, поклонялись другим кумирам. Гальс был художником героической поры Голландии, первых десятилетий после ее освободительной войны. Он был не единственным представителем этого поколения; он только острее, чем другие, чувствовал и выразил в искусстве свое время. Сверстниками Гальса были скромный, но сильный мастер бюргерского портрета Томас Кейзер, автор сочных бытовых картин в духе Караваджо Тербрюгген, создатель широких, спокойно-величавых равнинных пейзажей Зегерс. Был еще Гойен – одновременно и лирик и повествователь в пейзаже. Некоторые из художников этого поколения вроде Кейзера должны были в поисках признания приноровиться к новым вкусам; другие рано сошли со сцены; третьи остались непонятыми, как Гальс.
В середине XVII века нравы и художественные представления голландского общества заметно изменяются. В архитектуре перелом этот особенно ясен. В XVI и начале XVII веков в строительстве домов в Голландии сохранялась еще местная художественная традиция. Выходившие на улицу дома имели фасад с пирамидальным фронтоном и люкарнами, похожими на кровли и люкарны поздне-готической поры (ср. 83, 102). Такие высокие кровли были оправданы тем, что они мешали залеживаться снегу, и вместе с тем стремлением придать сходство гражданской архитектуре с церковной, хотя церковное искусство в Голландии не играло большой роли. Во всяком случае даже мясной рынок в Гарлеме (157) не имеет ничего общего с геометрической правильностью современной ему итальянской архитектуры (ср. 114). Несмотря на то что боковые стены обработаны так же, как и главная стена, все здание не образует вполне законченного и целостного архитектурного объема и воспринимается скорее как сумма плоских стен-щитов. Стены эти разделены по горизонтали многочисленными карнизами, но этажность последовательно не проведена, так как отрезки, отделенные карнизами, постепенно сокращаются кверху, и им неполностью соответствуют окна; карнизы служат всего лишь средством разбивки плоскости стены. И все же от этих зданий веет новым духом: чередование красного кирпича и белого камня делает их пестрыми, нарядными, радостными.
Со времени построения Гарлемского рынка прошло всего около полстолетия, когда в середине XVII века голландский архитектор ван Кампен возводит Амстердамскую ратушу. Он незадолго до этого совершил путешествие в Италию. Его язык приобрел классический характер: он пользуется ордером, исходит из целого объема здания, выделяет ризалиты, расчленяет стену пилястрами. Голландская архитектура после ван Кампена приобрела чинность, торжественность; она отвечала представительному характеру жизни голландского бюргерства. В середине столетия только в интерьерах частных домов еще сохранялись старые, самобытные традиции (ср. 154). Впрочем, в тщедушном классицизме Голландии нет полнокровности, жизненности итальянского и французского классицизма. Это был ложный, неплодотворный путь; следуя ему, голландские архитекторы не создали, больших ценностей.
Архитектура и скульптура не играли большой роли в развитии голландского искусства XVII века. В согласии со всем складом голландской жизни, далекой от больших, монументальных начинаний, лучшие художественные достижения Голландии лежали в области станковой живописи. Правда, в этом искусстве влияние Италии не имело такого значения, как в архитектуре, но перелом во вкусах в середине XVII века был заметен и здесь. Рембрандт (1606–1669) был художником, который испытал этот перелом сильнее других мастеров. Его несравненная глубина сделала для него невозможными уступки, на которые шли многие его современники. Ему пришлось испытать много горьких разочарований. Но ничто не могло сломить его привязанности к жизни, веры в свои творческие силы. Рембрандт – это лучшее из всего того, что было создано голландской культурой XVII века.
Еще в молодости его учитель Ластман пробудил в нем любовь к драматическим эффектным сценам, ярким экзотическим костюмам. Через него он приобщился к наследию Италии. На него произвел впечатление Зегерс своими просторными, равнинными пейзажами. Возможно, что он видел картины Эльсгеймера, его поэтичные ночные сцены. В многофигурных композициях Рембрандт охотно следовал примеру Рубенса. Хотя молодой Рембрандт не сразу выработал свой собственный живописный язык, а живопись его долгое время была несколько суха по выполнению, его огромное дарование не ускользнуло от современников. Ухе в первые годы пребывания в Амстердаме (с 1631 года) он пользуется успехом, в первую очередь благодаря своим портретам, в которых следует укоренившимся вкусам. Его засыпают заказами. Хотя он сам еще молод, у него много учеников. Скоро он становится самым популярным портретистом города. Женитьба на Саскии ван Эйленборг, происходившей из богатой амстердамской семьи (1634), сближает его с состоятельными кругами. Рембрандт имеет большие доходы и отдается своей страсти коллекционера.
Он пишет религиозные композиции, исполненные драматизма, среди них для принца Оранского серию «Страстей» (Мюнхен, Дрезден, Ленинград 1633–1639). Большинство сцен погружено в глубокий мрак, предметы выступают, словно вырванные из тьмы ярким лучом, упавшим на тело распятого или потерявшую сознание Марию. Рембрандт мысленно переносится в библейские времена: его привлекают восточные костюмы, необычные люди, усыпанные золотом и камнями ткани. Ему помогает воссоздать эту обстановку его коллекция древностей, костюмов; он обряжает в них свои модели. Он воссоздает шумные сцены молодости Самсона («Ослепление Самсона», 1636, Франкфурт; «Свадьба Самсона», 1638. Дрезден). Он часто изображает чудеса, поражающие людей изумлением («Неверие Фомы», 1634, Эрмитаж; «Воскрешение Лазаря», около 1630, Нью-Йорк), и переносит действие в темные просторные храмы, полные таинственного величия.
Главные успехи молодого Рембрандта лежали в области портрета. Перед ним прошли те же люди, что и перед Гальсом, но у Рембрандта все они выглядят более сосредоточенными, серьезными, они смотрят проникновенным взглядом, словно желают о чем-то поведать людям. Разве только в ранних портретах ван Дейка можно найти такой сосредоточенный взгляд; но лица у Рембрандта более открытые, чем лица ван Дейка, в них нет такой горделивой замкнутости, себялюбия. Родство всех этих молодых и старых лиц между собой заставляет думать, что мастер многое привносил от себя. В таком групповом портрете, как «Анатомия доктора Тулпа» (Гаага, 1632), Рембрандт достигает единства в построении многофигурной группы тем, что молодые врачи внимают объяснениям своего профессора. Такого единства не умел сообщать своим групповым портретам даже Гальс.
Полнее всего проявляет себя молодой Рембрандт в маленьких библейских картинках и автопортретах, написанных, видимо, для себя, равно как и в своих рисунках и гравюрах. В своем «Слепом» и «Продавце крысиного яда» (1632) он возвращается к старой теме Брейгеля – к изображению уличных типов, человеческого убожества, отталкивающих мотивов вроде крысы на плече старика. Но в «Слепых» Брейгеля уродливое в человеке остро выхвачено, запечатлено и противопоставлено окружающей жизни и потому пугает и отталкивает. Наоборот, Рембрандт рисует своих уродцев в их живой сопряженности со всей жизнью, в движении, и поскольку это пробуждает к ним интерес, уродливость их облика смягчается. В ряде мелких картин, так называемых «Философах» (около 1633, Лувр), Рембрандт затрагивает тему, которая впоследствии заняла большое место в его творчестве: он пишет одинокого мудреца, погруженного в размышления. Обычно старик сидит в полутемной комнате у светлого окна; во всем его облике и в его обстановке нет ничего ни преднамеренного, ни иносказательного; с трудом различая предметы, винтовую лестницу, каменные плиты и маленькую фигуру старика перед полураскрытой книгой, с усилием как бы раздвигая напирающую отовсюду тьму, зритель чувствует себя как бы участником воссоздания картины. Простой жанровый мотив приобретает наводящую на раздумья значительность; с вещей словно спадает пелена, в них раскрывается глубокий внутренний смысл.
Сделанная еще в отцовском доме гравюра старухи – матери Рембрандта (стр. 207) образует запутанное сплетение как бы случайных, беспорядочных линий; они набегают друг на друга, пересекаются, сливаются, но в них заключена сама жизнь, все богатство мимики человека. Лицо морщится, глаза жмурятся, губы плотно сжаты, фигура овеяна воздухом и светом. Мать Дюрера кажется застылой маской в сравнении с этим лицом (ср. 96), а голова Малле Боббе– напряженной гримасой (ср. 23). В этих своих ранних произведениях, в бытовых зарисовках, в картинах, созданных по воображению, равно как и в портретах, Рембрандт предвосхищает свои искания последующих лет.
В 1642 году Рембрандт пишет групповой портрет стрелковой роты, известный под названием «Ночной дозор» (Амстердам). Рембрандт подвергает решительному изменению установившийся в Голландии тип парадного группового портрета; он пытается решить его как жанрово-историческую картину. Для этого он выбирает момент, когда капитан Баннинг Кок отдает приказ стрелковой роте к походу и сам во главе ее выступает рядом с офицером. Приказ застает стрелков врасплох: они беспорядочно столпились, некоторые из них готовят оружие, барабанщик бьет в барабан. Впечатление беспорядка усиливается тем, что почти вся картина погружена в полумрак. Лишь у переднего края ее выделено светом несколько фигур. Большинство фигур второго плана остается в тени. Зато девочка, случайно оказавшаяся среди стрелков и освещенная боковым лучом, привлекает к себе внимание; кажется, будто она сама излучает свет. От современников не ускользнуло, что это решение было совершенно новым в истории группового портрета. Рембрандт пытался применить в огромном холсте опыт своей работы над небольшими картинами. Но смелое воображение мастера не пришлось по вкусу заказчикам. Многие были недовольны тем, что лица их оказались в тени или на втором плане.
Дело дошло до судебной тяжбы. Картина получила широкое признание значительно позднее, но в силу своего несколько вялого и сухого выполнения она не может быть причислена к лучшим созданиям мастера.
Столкновение художника с вкусами амстердамского общества имело важные последствия в жизни Рембрандта. Он постепенно теряет свою известность, которую в молодости так быстро завоевал. К тому же смерть жены Саскии (1642) была не только тяжелым личным ударом, но и содействовала тому, что связи его с амстердамской знатью ослабели. В конце концов художник оказывается почти один, с годами его забывают, он никому не нужен. Его дела идут далеко не блестяще: у него была судебная тяжба с домоправительницей; в городе осуждали его за внебрачную связь со служанкой Гендрикой. Незадолго до смерти его дом и имущество, все его любовно собранные коллекции были проданы с молотка (1656).
Автопортреты Рембрандта позволяют себе представить перелом в его жизни. В автопортрете 1640 года (Лондон) художник еще представил себя в «вандейковском» берете, полным достоинства и уверенности. В автопортрете-гравюре 1648 года на нас смотрит лицо, изборожденное складками, с отпечатком глубоких раздумий и тревог.
Впрочем, испытания не поколебали уверенности Рембрандта в правильности его пути; их можно считать благотворными для его искусства: в тесном кругу близких друзей и ценителей он чувствовал независимость от вкусов современного буржуазного общества и мог полностью отдаваться своим исканиям правды. Он перестал быть модным портретистом, но круг его наблюдений от этого только расширился: его занимала природа и люди, общество и индивидуальность, он искал человеческое повсюду, прежде всего в задавленных нуждой амстердамских бедняках, и в обитателях амстердамского гетто. Ему раскрылась красота каждодневности. Он серьезнее и глубже взглянул на задачи искусства.
К числу самых распространенных и почитаемых книг в протестантской Голландии XVII века принадлежала Библия. Рембрандт заново «прочел» эту книгу, равно как и по-новому понял римскую историю, знакомую ему по театру, и древние мифы, рассказанные Овидием. Это пристрастие к истории и легенде отличает его от голландских мастеров XVII века, которые ограничивались преимущественно бытовой живописью и портретом и в своем подавляющем большинстве не испытывали влечения ни к истории, ни к библейскому жанру. Темы, которые изображались в Голландии в больших декоративных холстах или, как исключенье, в алтарных образах, были разработаны Рембрандтом в мелких станковых картинах и офортах. Он передавал мифические и библейские истории так, точно они происходили перед его глазами.
Все это нередко вело к снижению возвышенного, подобно тому как у Шекспира в «Троиле и Крессиде» прославленные троянские герои превращены в сварливых и драчливых солдат. «Ганимед» Рембрандта (Дрезден, 1635) – это всего лишь голозадый бутуз-воришка, который мочится со страху, но не выпускает украденных вишен, пока орел возносит его на Олимп. Рембрандт, как замечали уже его современники, писал Венеру с «прачки или работницы». Его святое семейство – это скромное и добропорядочное семейство ремесленника-столяра.

Рембрандт. Портрет матери. Офорт. 1628.
Во всем этом Рембрандт находит себе предшественников в караваджистах. Но почти никогда проза, будничность, грубость, вульгарность не выставлены у него напоказ. Сила Рембрандта была в том, что, несмотря на невзрачность его образов, на бедность обстановки, порой на приглушенность красок, все представленное исполняется в его холстах внутренней красоты и благородства. И в этом заключается глубокое различие между многочисленными картинами Рембрандта на тему «Святое семейство» (Лувр, 1640; Эрмитаж, 1645; Кассель, 1646) и семейными сценами голландцев, в частности одной отмеченной Гёте гравюрой Остаде «Добрый муж и добрая жена», представляющей собой наивное прославление мещанского благополучия.
В картинах Рембрандта все выглядит так, словно сказочная фея неслышной стопой вступила в его полутемные комнаты, где у огонька греются люди, озарила предметы таинственным светом, пробудила к ним любовь, и заставила зрителя глубоко переживать происходящее. Как ни у одного другого художника XVII века, у Рембрандта красота определяется не ценностью самого предмета, а отношением к нему, тем душевным волнением, которое старая, закопченная горница или простой сарай вызывают в человеке. Этими своими сторонами Рембрандт пошел далеко вперед по сравнению с реалистами Возрождения.
Перечитывая библию, вспоминая старинные предания, Рембрандт находил среди них положения, особенно близкие его сердцу, и настойчиво и многократно к ним возвращался. С годами у него все меньше встречаются сцены открытых драматических столкновений, похищений, проявлений гнева и жестокости божества, которыми изобилует библия. Его привлекали преимущественно картины патриархальной жизни, и он представлял их себе так, будто все происходило в его время. Возможно, на это наталкивал его распространенный в протестантской Голландии взгляд на голландский народ как на подобие того избранного народа, о котором повествует библия. Но в предпочтении к определенному кругу легендарных сцен могли проявляться и личные склонности великого мастера, его отвращение к той порче нравов, которая в его годы побеждала в зажиточной Голландии, мечта о тех нравственных идеалах, под знаменем которых в свое время поднялись Нидерланды.