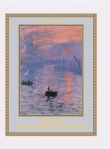Текст книги "Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2"
Автор книги: Михаил Алпатов
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 38 страниц)
Французский архитектор Лабруст (1801–1875) один из первых перекрывает огромный читальный зал библиотеки св. Женевьевы высоким сводом, опирающимся на железный каркас (скелет) с тонкими колонками посередине. Правда, Лабруст, пользуясь новым материалом, повторяет старые формы арки. Но все же благодаря этому материалу он мог свободнее других архитекторов осуществлять требование разумности.
В фасаде библиотеки (231) ясная, логическая конструкция сочетается с заимствованными «историческими формами»; цокольный этаж украшен типично французскими гирляндами, придающими ему нарядность, полуциркульные окна, обрамленные пилястрами, образуют подобие открытой галереи. Вся архитектурная композиция библиотечного фасада отличается редкой в XIX веке благородной простотой; она выдерживает сравнение с находящимся рядом Пантеоном Суффло.
В другой постройке этих лет, в Северном вокзале в Париже (1862), Гитторф выявляет в фасаде здания широкое среднее перекрытие перрона и два меньших боковых и умело сочетает железную конструкцию с элементами классического ордера. Чисто утилитарные сооружения, как крытый рынок в Париже Бальтарда (1853) и выставочное помещение, Хрустальный дворец Пекстона близ Лондона (1852—54), привлекали к себе внимание прежде всего своей огромностью, смелым решением строительных задач из железа и стекла, но композиция их лишена единства и архитектурной выразительности.
Значение железа для архитектуры было не сразу оценено по достоинству. Одним из пионеров в деле его широкого использования выступил не архитектор-художник, а инженер Эйфель (1843–1923). В огромном универсальном магазине «О бон маршэ» (1876) железные конструкции позволили ему создать красивые застекленные крыши, прозрачные, как паутинки. Незадолго до этого Виолле ле Дюк пытался истолковать готический собор вплоть до мельчайших деталей как строго логическую конструкцию. Покрытие зала «О бон маршэ» задумано в подражание готической розе, хотя узор его беднее и суше, чем в средневековых постройках. Нужно сравнить такую постройку со зданиями эклектиков, излишне обремененными материалом, украшениями и позолотой, чтобы оценить перелом, который знаменовал возникновение нового типа архитектурного мышления. Уверенность в победе человека над природой, которой было полно поколение реалистов, нашла себе яркое выражение в этих смелых конструкциях, хотя далеко не все в них сказано языком искусства.
Особенно прославившая Эйфеля его башня (232) была выполнена им несколько позднее. Искание разумной конструкции, отвечающей назначению здания, уступает в ней место задаче показа мощи новой техники, и задача эта рассматривается почти как самоцель. Недаром башня, задуманная всего лишь как украшение всемирной выставки, получила оправдание только позднее, когда ее стали использовать как радиомачту. Она достигает 300 м высоты, сложена из 12 000 металлических частей. Новый материал в руках талантливого конструктора нашел себе здесь художественное выражение. Широкая арка у ее основания, сквозь которую открывается вид на Военную школу и Иенский мост, постепенно переходит в стройное тело башни и завершается плавным движением, какого не знала ни каменная, ни деревянная архитектура более раннего времени. Хотя постройка эта вызывала возмущение в современниках, теперь, по прошествии многих лет, Эйфелева башня должна быть признана достойным украшением такого прекрасного города, как Париж.
Искусство третьей четверти XIX века, эпоха реализма, занимает особое место в художественном наследии: это искусство не умерло и до сих пор, оно входит как нечто живое и в нашу действительность. Для советских художников, стоящих на путях социалистического реализма, произведения реалистов XIX века представляют особенный интерес. Реалисты XIX века горячо отстаивали мысль, что искусство должно охватывать действительность в различных ее проявлениях, должно быть связано с жизнью, обращено лицом к широкому кругу людей. В условиях буржуазного общества XIX века многие художники уходили из жизни, разочарованные в своей возможности участвовать в ней, или с горькой усмешкой признавали себя способными только на роль акробата (Готье). Наоборот, идейные реалисты (и среди них особенно Курбе) были уверены в том, что художник как глашатай правды может стать деятельным борцом в искусстве за справедливый жизненный порядок. Реалисты видели уродство современной им жизни, они прямодушно признавались, что в мире не все так прекрасно, как об этом мечтало человечество, они бесстрашно смотрели в глаза неприкрашенной правде и не теряли уверенности, что любая тема может быть превращена в искусство («Сахар добывается всюду», – говорил в этой связи Флобер). В своем призыве к жизни реалисты решительнее, чем романтики, готовы были порвать с художественной традицией. Они открывали и раскрепощали в человеке силу его первичных творческих порывов.
Но реализм XIX века был в значительной степени ответом на романтизм, он слагался в борьбе с Салонами и академиями. Вот почему в реализме XIX века была известного рода односторонность. В своих поисках объективности реализм XIX века нередко путал искусство и науку. Реалисты не доверяли своему воображению. Курбе утверждал, что предметом искусства может быть только непосредственно увиденное. Золя безуспешно пытался в своих романах опереться на теорию наследственности, что вызвало справедливое предложение Тэна заменить роман медицинским исследованием. В своем стремлении к научности искусство замечало в человеке лишь биологическое начало и порой теряло гуманность романтиков.
В своей заботе сделать искусство содержательным реалисты XIX века впадали в крайность и иногда грешили забвением художественного языка. Шанфлери, чтобы доказать, что язык в искусстве, в частности в поэзии, не играет большой роли, ссылался на то, что поэтический замысел сохраняется и в иностранном переводе. В живописи XIX века это сказалось в обеднении палитры некоторых живописцев, в понижении культуры композиции. Особенно заметно проявилось забвение пластической формы в скульптуре даже у таких даровитых мастеров XIX века, как Карпо. В своем стремлении к независимости от традиции новаторы нередко недооценивали значение наследия: Курбе восставал против классиков, Золя издевался над «великими столетиями». Этими своими сторонами XIX век подготовил нигилизм некоторых художественных течений начала XX века.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
А эти женщины, быть может, порожденье
в тебе обманчивого ощущенья…
Малларме, Послеполуденный час фавна
О боже мой, ведь рядом жизнь совсем простая…
Верлен, Мудрость
Призыв к реализму долго не терял своей притягательной силы во Франции. Но после разгрома Парижской коммуны в изменившейся в последней четверти XIX века исторической обстановке этот призыв утратил свой первоначальный смысл. Искусство не играло теперь той боевой роли в борьбе политических и общественных группировок Франции, как это было в середине XIX века. Даже Курбе в 60—70-х годах отходит от социальных тем и ограничивается пейзажем, охотничьими сценами и натюрмортами. Это не значит, что во Франции в эпоху третьей республики ослабла борьба классовых интересов, борьба эта отражалась в искусстве в столкновении старых и новых творческих методов. Это время особенно отличалось всякого рода нововведениями и новшествами в искусстве.
В 60-х годах выступают два мастера французской школы, принадлежавших к поколению, которое в молодости видело выступления Курбе, читало романы Флобера и «Цветы зла» Бодлера. Эдуард Мане (1832–1883) происходил из семьи среднего достатка, он был привязан к радостям беззаботной, хорошей жизни. В нем не было горячей идейности Домье, непримиримости Флобера, ни тем более прямоты Курбе. Желая быть, по его словам, человеком своего времени, он стремился к новаторству в искусстве. Его учитель салонно-академический мастер Кутюр, увидав в нем склонность к исканию новых путей, отрекся от него.
Как и многие его современники, писатели и художники буржуазного общества, Мане испытывал неутолимую жажду новизны, остроты ощущений, потребность в возбуждении чувства. Эти стороны Мане сказались уже в его ранних произведениях. В одном из них, выставленном еще в 1863 году, он представил на зеленой лужайке под тенью деревьев двух элегантно одетых, беседующих друг с другом мужчин, среди них обнаженную женщину, вдали у ручейка другую женщину в рубашке, рядом смятое голубое платье женщины и превосходно написанную корзинку с фруктами. «Что означал этот завтрак на траве?» – спрашивали себя посетители так называемого Салона отверженных, где обычно выставлялись художники, не принятые в Салон. Они привыкли к картинам наготы, так называемым «nues», которые составляли непременную принадлежность каждого Салона, но мифологические названия этих картин («Наяда» или «Помона») служили как бы покровом стыдливости, традиционные позы этих раскинувшихся голых богинь лишали их жизненности и умаляли их бесстыдство.
На холсте Мане поражало соседство по-современному одетых мужчин с наготой. Сам художник вряд ли смог бы исчерпывающим образом объяснить ее в своей картине, как Бодлер вряд ли сумел бы объяснить некоторые странности своих «Стихотворений в прозе». Самое большее он мог бы сказать, что провозглашал свободу художника, его право без особой мотивировки сопрягать такие далекие вещи, как наготу, этот символ классической красоты, и черные сюртуки – принадлежность современности. Художник мог бы оправдаться и тем, что· следовал в композиции Рафаэлю, поскольку расположение фигур скопировано с гравюры Марк Антонио Раймонди; он мог бы сказать, что черные сюртуки и зеленая листва хорошо оттеняют розоватость обнаженного тела. Картина Мане «Завтрак на траве» (Лувр) вызвала возмущение двора и светского общества, но стала знаменем нового безыдейного направления в искусстве буржуазной Франции.
В другом его полотне «Олимпия» (Лувр, 1863) представлена лежащая раздетая женщина, рядом с ней чернокожая служанка с пышным букетом в руках и черный кот. В этой картине особенно поражало, что вульгарная, некрасивая женщина возлежала на пышном ложе, как на алтаре, и что ее неприглядность претворялась в совершенную красочную гармонию. Это были цветы искусства, пахучие и ядовитые, как цветы зла.
В «Завтраке на траве» и «Олимпии» Мане провозглашает и с наибольшей заостренностью выражает новые художественные идеалы. Главные его силы были посвящены бездумному изображению быта современного общества. В Западной Европе XIX века не было другого художника, который бы, как Мане, умел превратить все увиденное в каждодневности буржуазного быта в игру красок.
Он показывает праздник в парке Тюильри с развешанными на деревьях фонариками и весело отплясывающими парами в пестрых полосатых платьях (Лондон, 1860–1863); кафе, где толстощекая служанка торопливо разносит стопки, пока на сцене кривляются певички (Лондон, 1877); бар, где за стойкой, уставленной ликерами, миловидная продавщица выслушивает заказ посетителя (Лондон, 1880–1882); шумные парижские бульвары и ярко освещенную пристань с суетливой толпой и пускающим дым пароходом (сценку, напоминающую начало «Сентиментального воспитания» Флобера); пишет среди речной глади на лодке молодую пару: она в соломенной шляпе, он в рубашке с засученными рукавами; пишет многолюдное общество за игрой в крокет и в тенистом саду – объяснение элегантной дамы с мужчиной (Берлин, 1876–1879).

41. Эдуард Мане. У отца Латюиля.1879 г. Турнэ, Музей.
К числу подобных бытовых картин Мане, рисующих буржуазный быт, принадлежит и «У отца Латюиля» (41). Действие происходит в ресторанчике. За столиком, накрытым белой скатертью, сидит молодая дама вполоборота к зрителю. Юноша-брюнет с только что пробившимися усиками вопросительно· заглядывает ей в глаза. Вдали, на почтительном расстоянии, официант с салфеткой подмышкой словно ожидает заказа. В картине нет ничего такого, что требовалось бы пересказывать или досказывать словами; показано столько, сколько нужно, чтобы догадаться о том, какое объяснение происходит; взгляд наклонившегося молодого человека и осанка женщины достаточно красноречивы. При Луи Филиппе французская буржуазия была охвачена лихорадкой приобретательства, и в ответ на это явилась беспощадная насмешливость Домье. После Наполеона III в буржуазии проснулось «беззаботно-потребительское» отношение к жизни, оно сказалось и в творчестве Мане. Все усилия его были направлены на то, чтобы кусок повседневной жизни, как бы случайно оказавшийся перед глазами, был претворен в своеобразный, живописный образ. Главная привлекательная сила искусства Мане – в живости его зрительных восприятий.
Мане видел самых различных людей, но у него были любимые модели, по которым его всегда легко узнать: это люди здоровые, уравновешенные, упитанные, не такие возбужденные, как люди Домье, не такие суровые, как люди Курбе. Женщины Мане привлекательны своим цветущим здоровьем, пышной красотой. Редко когда среди этих беззаботно-самоуверенных людей промелькнет задумчивое лицо («На балконе», Лувр, 1869–1870). Его мужчины в меру элегантны и сильны, привязаны к успеху, жадны до жизненных радостей. В жанровых сценах в них подчеркнуто внешне-типическое и потому они похожи друг на друга, в портретах Мане остро схватывает их индивидуальные черты. «Любитель абсента» Мане – выступающий из мрака человек в черном плаще и в цилиндре (Копенгаген, 1858), равно как портрет «Джорджа Мура» (Берлин, 1878–1879) со спутанными волосами и мутным взором алкоголика, похожи на некоторые шаржи Домье (233, ср. 36). В портрете Малларме остро схвачено его худое лицо, высокий лоб, длинные свисающие усы и умный взгляд (Лувр, 1876). В портрете политического деятеля Рошфора (235) Мане дает образ волевой личности, человека деятельного, властного, уверенного в себе, почти жестокого.
Мане был прирожденным живописцем. Все то, что Домье выражал энергичным штрихом, Коро тонкой градацией тонов, Курбе своей могучей лепкой, Мане выражал через соотношение красочных пятен.
Цвет приобрел в картинах Мане значение одного из главных средств выражения. Он сообщал цвету силу, яркость и чистоту, какой не знали другие художники XIX века. Его красочные сопоставления разнообразны: ему хорошо знакомо искусство нежных полутонов, постепенные переходы от розового к сизоголубому; но рядом с этим он бросает глубокие синие, иссиня-черные или темнокоричневые пятна, и эти цветовые удары сообщают его картинам силу и напряженность. В большинстве своих холстов Мане избегает бокового освещения: его картины так залиты светом, что их сравнивали с передержанными фотографиями. Он стремился передать окутывающий предметы свет, покончить с впечатлением искусственного освещения в мастерской, которое заметно еще у Курбе (41, ср. 229). Следуя заветам классических мастеров живописи, он заботится о равновесии в картине, но уравновешивает не предметы, а цветовые пятна, разбросанные на плоскости холста.
Впечатлению жизненной свободы отвечает свободное письмо Мане, то широкое и размашистое, то более сдержанное. Он любит такое расположение красочных пятен на холсте, которое своим обобщенным узором остро действует на глаз и легко запоминается.
Даже в небольших набросках тушью бросается в глаза умение Мане при помощи нескольких пятен передать живой образ, и это искусство пятна у Мане отличается от искусства беспокойного контура у Домье и находит себе прототипы в рисунках японцев.
Когда Домье в своих литографиях ядовито высмеивал парижские нравы, никто не видел в них ничего, кроме карикатуры. Мане воссоздавал в своем искусстве современную ему жизнь буржуазного общества, даже в «Завтраке на траве» он был далек от сатиры. Но его искусство выводило зрителей из себя, перед его картинами устраивали настоящие скандалы, разъяренные посетители выставки бросали гнилые апельсины, хотели зонтами проткнуть его холсты. Его живописное восприятие мира было таким непосредственным, что казалось дерзким ниспровержением художественных авторитетов и буржуазных устоев. На самом же деле в нем следует видеть начало упадка буржуазного искусства, которое переставало быть выразителем передовых общественных идей своего времени.
Дега (1834–1917) был сверстником Мане, но человеком иного склада характера, другого художественного воспитания. Мане по своему мировосприятию несколько напоминает Мопассана, только по натуре своей был более уравновешен и наделен душевным здоровьем. Дега был скорее похож на Анатоля Франса: тонкий вкус сочетался в нем с ясностью аналитического ума, готовностью все подвергнуть сомнению для того, чтобы, играя и шутя, снова утверждать низвергнутое. Искусство Мане было радостно, чувственно, безмятежно. Искусство Дега умнее, острее, интенсивнее, но холоднее. Мане учился у великих мастеров цвета и пятна. Дега прошел школу рисунка у последователя Энгра и копировал Пуссена. Это определило его главные средства выражения.
Круг тем Дега более ограничен, чем у Мане. Он пишет бытовые сценки из жизни парижской богемы и бедноты и примыкает в этом к традициям Домье, хотя он и не обладал такой силой и глубиной сочувствия к трудовому люду. К числу этих картин принадлежат: «Модистка» (Нью-Йорк, 1882), «Две прачки», «Гладильщицы» (Лувр, 1884), из которых одна перегнулась всем корпусом над утюгом, другая сладко зевает. Он показывает в кафе кусочек мраморного стола, зеркала, любителей абсента, погруженную в безотрадные раздумья женщину и не замечающего ее мужчину, потягивающего трубку (Лувр, 1876–1877). Дега рано овладел искусством передавать сложную сценку несколькими штрихами.
Почти все свое дарование Дега посвятил миру театра, главным образом балета. Он отвлекался от театра только ради скачек. Это, конечно, означало еще большее сужение тематических рамок, чем у Мане, Дега не стал художником современности во всех ее проявлениях; существенные стороны жизни выпали из его внимания. В людях он замечал движение, главным образом физическое, и мало интересовался их внутренним миром и переживаниями. Балет стал для Дега как бы магическим кристаллом, через который он видел весь мир, всю жизнь человека. Рисуя эти сцены театра, он сохранял такую же зоркость, какую проявлял и в своих бытовых зарисовках. При этом он никогда не ограничивался только одной показной стороной театра.
Дега изображает мир балета с самых различных точек зрения, и они позволяют ему дать о нем многообразное, всестороннее представление, хотя целое и распадается на разрозненные куски. Дега рисует сцену не такой, какой она выглядит из зрительного зала; он предпочитает такие ее куски, которые мешают поддаться сценическому обману. Он показывает на переднем плане головы людей из первых рядов партера или музыкальные инструменты оркестра, передает, как свет рампы падает снизу на лица певиц и уродует их, как они сами смешно разевают рот, выполняя арии. Он любит заглядывать на сцену сбоку, из директорской ложи, откуда видно, как балерины, дожидаясь своего номера, завязывают ленты туфель, как среди них появляется человек в цилиндре – балетмейстер – и своим черным сюртуком подчеркивает, как в «Завтраке» Мане, нежность обнаженных рук и белизну пачек порхающих балерин. Дега ведет нас в залы, где происходят репетиции, где вовсе отсутствуют декорации и поэзия особенно резко сталкивается с прозой жизни артиста. Он показывает приемную балетной школы, где бедные родители с трепетом ждут судьбы отдаваемых в школу детей, откуда они следят за их успехами. Привязанность художника к красоте проходит через суровое испытание. Балет, который рисуется из зрительного зала как прекрасная феерия красок и движения, как мелькание пятен, приобретает у Дега особый человеческий смысл: он открывает в нем упорный труд, усилие, напряжение тела, испытание воли. В этом родство картин балета. Дега с его трудовыми сценками.
Обыкновенно Дега выбирает точку зрения на балетную сцену откуда-нибудь с угла, так что сразу нельзя догадаться о смысле происходящего. В «Уроке танца» (236) мы видим учителя с палкой в руке, вдали балерину перед зеркалом, с краю рояль и перед ним других балерин, ожидающих своей очереди. Первое впечатление – это впечатление случайности, впечатление бессвязных клочков. Но при сопоставлении их мы догадываемся, что происходит урок, фигура в черном – воплощение дисциплинирующего начала танца, порхающие светлые пятна – воплощение ритма, движения, свободы, и, только преодолев эти трудности понимания, мы раскрываем внутренний смысл происходящего.
Этому постепенному распутыванию сюжетного клубка зрителем отвечает и замысел композиции: в ней много случайного и вместе с тем ясно заметно равновесие пятен (темного сюртука и рояля у краев картины). Здесь создается пространственная глубина, особенно благодаря зеркалу, и вместе с тем соблюдена плоскость: фигуры представлены в сложных и причудливых ракурсах, но образуют линейный узор, вплетаются в ткань всей картины. Как ни смело нарушает Дега все традиционные формы построения картины, он все же остается верен традициям классической композиции, которой он овладел еще в ранние годы («Спартанцы», Лувр, 1860).
Дега был замечательным мастером движения. В отличие от художников раннего времени, которые стремились объединить в одной фигуре различные моменты движения и дать целостный образ человека (ср. I, 78), Дега привлекает в движении наиболее мимолетное (на передачу чего его отчасти наталкивала фотография). Отдельная фигура не обладает у него законченностью, тем более что рама нередко срезает ее. В «Цирке Фернандо» (Лондон, 1879) Дега дает не только смелый ракурс поднимающейся к куполу цирка акробатки, но так смещает перспективу, что делает как бы ощутимым легкое головокружение у зрителя, который следит за ее движениями.
В ряде поздних картин Дега передает сцены интимной жизни женщин, вдохновляясь примером японских ксилографий: он рисует их вставание, умывание, одевание, причесывание. В них можно видеть своеобразное развенчание мифа о женской красоте. Женщины сидят спиной, на корточках в самых «невыгодных» поворотах. Художник словно экспериментирует, заставляя модели поворачиваться, подглядывая разные телодвижения.
В своих портретах Дега пишет людей, знающих себе цену, сдержанных, спокойных, уверенных, немного скептиков; они холодны, почти бездушны, держатся с достоинством, высокомерно (234). Новым была у Дега попытка слияния портрета с бытовым жанром. Граф Лепик представлен на прогулке с двумя девочками и борзой словно выходящим с площади Согласия за пределы картины.
Особенно необычен по замыслу портрет г-жи Жанто (237). То, что она смотрится в зеркало, оправдывает некоторую натянутость ее позы; она как бы изображает портрет (ср. 36). Ее лицо можно хорошо рассмотреть только в зеркальном отражении. Портрет задуман как случайно схваченная жанровая сценка… Обостряя портретный образ, Дега вместе с тем сообщает ему искусственность кокетливой игры со зрителем, и это особенно ясно в сравнении с естественностью портрета XVII века.
Новое художественное направление в живописи получило свое наиболее полное выражение в творчестве ряда более молодых мастеров. Подобно барбизонцам, эти художники образовали товарищество, обычно встречались в кафе Гербуа в Париже и выступали вместе на выставках. Многие из них были связаны узами дружбы, но это не мешало им спорить друг с другом и отстаивать каждому свой творческий метод. В 1874 году на выставке картина Клода Моне, названная «Впечатление: Восход солнца» (Impression: Soleil levant), дала повод назвать всю группу мастеров импрессионистами. Мане, который к этому времени уже пользовался известностью, возглавил новое направление; молодые его представители со своей стороны оказали на Мане некоторое влияние, что отразилось в его поздних произведениях.
Состав группы импрессионистов был довольно пестрый: в ней были люди различных национальностей, но развитие этого направления происходило в основном на почве французской школы живописи.
Автор картины «Впечатление» Клод Моне (1840–1926) был самым последовательным представителем этого направления. Он не сразу нашел свое призвание пейзажиста, испытал на себе влияние многих художников, в частности Мане. В природе его привлекало в первую очередь солнце, трепет его лучей, пронизывающих воздух, многообразие оттенков, которые они придают небу, облакам, деревьям и цветам.
Свои лучшие произведения Моне создал в 70-х годах в местечке Аржентейль, неподалеку от Парижа, где он неутомимо и вдохновенно писал этюды, легко и как бы небрежно бросал на холст мазки, но с безупречной точностью передавал лимонно-желтые рассветы, небо с пробивающимся сквозь облачный покров солнцем, оранжевые закаты, отраженные в зелено-голубой поверхности реки (239). В Париже Моне заметил красоту бульваров с их мелькающей толпой и фиакрами и запечатлел их на своих холстах. В Лондоне он «открыл» синеву туманов, окутывающих Вестминстерское аббатство и Темзу. Он упорно приходил на одно и то ясе место с этюдником, изучая оттенки освещения в различное время на стогах сена или на стенах Руанского собора – утром, днем и вечером.
В одной из лучших картин Моне «Поле маков» (Москва) розовые пятна цветов, голубая даль и пронизывающий все золотистый свет сливаются в радостную гармонию и делают как бы ощутимым самое благоухание цветущего поля.
Передача солнечного света в природе занимала еще барбизонцев, но рядом с любым произведением Моне картины барбизонцев кажутся коричневыми, одноцветными, темными; коричневый тон заметен и в «Завтраке на траве» Эдуарда Мане. Лишь у Моне свет насквозь пронизывает холсты, краски даются им очищенными от всякой примеси, сияют во всю свою силу, и кажется, что сама картина приобретает ту способность излучать свет, о которой мечтали художники.
В своих поздних «Кувшинках» (1899–1900) Моне пытался передать неуловимое мерцание полутонов; вместе с тем он вступил на путь декоративной живописи и утратил значительную долю своей первоначальной поэтической свежести и живого ощущения природы. Его не привлекает в природе, как раньше, ее изменчивость, неустанное движение, трепетная жизнь; его восприятие становится пассивно-созерцательным; он смотрит на мир откуда-то издалека.
Из двух других пейзажистов– Сислея (1839–1899) и Писсаро (1830–1903) – первый по примеру Коро сообщал своим пейзажам тонкое настроение, задумчивость, чувствовал прелесть различных мотивов природы – заросшего пруда с заброшенными лодками, пустой деревенской улицы, озаренной вечерними лучами солнца, или осеннего желтого парка; второй, в отличие от большинства импрессионистов, и в частности Моне, у которого очертания предметов обыкновенно теряются в тумане или световой среде, выпукло выявляет костяк композиции и стремится сочетать с передачей световых впечатлений передачу форм предметов (238).
Самым крупным художником-импрессионистом, одним из выдающихся живописцев XIX века был Ренуар (1841–1919). Подобно своим сотоварищам, он долгое время не получал признания, и лишь его портреты постепенно завоевали ему известность и дали средства для путешествия в Италию. На него произвел впечатление Рафаэль и помпеянская живопись. Под впечатлением классического искусства он в поисках четкой формы чуть было не отказался от своей полнокровной живописности, но после недолгих колебаний снова нашел себя. Последние тридцать лет жизни Ренуар провел на юге Франции, целиком отдаваясь живописи, как он говорил, «для своего удовлетворения». Страдая ревматизмом, прикованный к креслу, с кистью, привязанной к скрюченным пальцам, он продолжал создавать свои картины.
Среди других импрессионистов Ренуар занимает особое положение: пейзаж но стоял в центре его внимания. Его любимыми темами были женщины, дети, цветы; к ним он возвращался многократно, каждый раз находя в них источник нового вдохновения. Было бы напрасно искать в искусстве Ренуара глубоких и сложных переживаний, плодов творческих раздумий мастера. «Когда я пишу, я хочу быть, как животное», – говорил он с некоторым преувеличением о себе, отдаваясь беззаботной радости любоваться миром красок и гармонических форм.
Это бездумное отношение художника к миру обедняло его искусство: портреты Ренуара порой банальны, слащавы, характеристики моделей нередко поверхностны и несут на себе отпечаток салонных вкусов. В поздние годы Ренуар вырабатывает определенную живописную манеру, пишет обнаженные тела в назойливо-розовых тонах. Эта манера мешала ему так внимательно всматриваться в реальный мир, как это он делал в молодости.
В античности дети не привлекали к себе особенного внимания: амуры служили лишь спутниками богини (ср. I, 8). На Востоке дети – это милые, но смешные уродцы (ср. I, 172). Впоследствии детям долгое время придавали черты взрослых: византийцы и еще Рафаэль наделяли младенца Христа недетской серьезностью (ср. I, 12); Веласкес писал маленьких инфант затянутыми в фижмы, позирующими; даже в английских портретах детей XVIII века – чувствуются следы некоторой чопорности. Прошло около ста лет после призыва Руссо вникнуть в детский мир и понять его, прежде чем образ ребенка со всем его очарованием, нежностью и чистотой вошел в искусство Ренуара (240). В его картинах дети обычно милы, наивны и обаятельны; у них задорно поблескивают глазки, кожа их мягко сияет, золотистые кудри блестят; у девочек в косы вплетены цветные ленты. Образы детей Ренуара хорошо гармонируют со всем любовным отношением к миру художника.
Ренуар создал свой любимый тип женщины с пухлыми губами, вздернутым носиком, непокорной челкой и неизменной улыбкой и повторял его во всех своих произведениях (42, ср. 241). Он должен был довольствоваться в качестве моделей бедными, но изящными парижскими мастерицами, прежде чем стал получать заказы в высшем обществе.
Свои портреты Ренуар понимал не как исповедание, разоблачение или прославление; он хотел лишь удовлетворить потребность людей в праздничном и радостном и умел сообщать своим портретам нарядный облик, извлекая чистые красочные созвучия ив самых скромных мотивов вроде оттеняющего белизну кожи темного веера или удачно подобранной ленты (42).
Ренуар хорошо использовал опыт своих товарищей-пейзажистов в изучении цвета, но пользовался своей особой манерой письма, своими любимыми красочными сочетаниями. Он писал маслом прозрачно, как акварелью, так что один мазок незаметно переходит в другой. Предметы словно тают в окружающей их атмосфере. Нередко его живопись маслом похожа на пастель. Его красочная гамма была теплой: он любил розовые, красноватые оттенки тела.