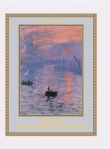Текст книги "Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2"
Автор книги: Михаил Алпатов
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 38 страниц)
Греко брался за разные сюжеты, но повсюду искал своей темы. Он нередко изображал события евангельской истории и страсти Христа, но в его картинах на эти сюжеты нет выражения драматического столкновения человеческих характеров, возвышенного страдания Тициана или страстного порыва Тинторетто. Он пишет всегда людей, которые, испытывая страдания, вкушают радость, встречая препятствия, не борются, людей, которые обретают близость к высшему благу в сладком самозабвении. В раннем «Взятии под стражу» (Мюнхен, 1564–1567) Христос, окруженный воинами, возводит очи к небу; это мученик, покорно отдающийся страданию. В «Сновидении Филиппа II» (Эскуриал, 1580) представлены сонмы небесных сил, ангелы и толпы праведников в таинственном озарении. В «Похоронах графа Оргаса» (Толедо, 1586) св. Стефан и св. Августин, сойдя с небес и склонившись над телом усопшего, собираются положить его в саркофаг; их окружают его близкие, сами бледные, как мертвецы; наверху раскрывается небо и виднеются праведники с Христом во главе. В «Лаокооне» (около 1606–1612) старец с его сыновьями, не оказывая сопротивления посланным на него змеям, лежит, закинув голову, с устремленным к небу взором христианского мученика.
Одно из поздних произведений Греко «Открытие пятой печати» (128) исполнено особенно глубокого волнения: юный евангелист широким жестом, как Саваоф Микельанджело в «Отделении света от тьмы», вздымает руки к небу, движение его словно пробуждает людей. Обнаженные праведники, полные стремительного порыва, встают и, как колеблемое ветром пламя, тянутся к небу; они взывают к справедливости, с них спадают покровы, духовность человека предстоит во всей ее обнаженности. Силой своей страстности Греко превосходит даже Тинторетто (ср. 15).
Свои причудливые, болезненные мечты Греко ярко и образно выразил на языке живописи. Ясновидцы в живописи были и до него. Но Грюневальд как современник Возрождения представляет свои видения как нечто сущее (ср. 100). Греко рисует их как глубоко личные впечатления взволнованной души, как нечто кажущееся, мимолетное, мгновенное. Его фигуры вытянуты почти как готические статуи, они словно вырастают на глазах, исступленно тянутся к небу. В картинах Греко спутаны планы, нарушены законы перспективы, которым следовали мастера Возрождения, близкое кажется далеким, далекое – близким, пространство увлекает в себя, как в бездну. Все становится невесомым, исполненным трепетного ритма.
Главным средством выражения Греко были свет и цвет. «Денной свет мешает моему внутреннему свету», – будто бы сказал мастер, работая днем со спущенными шторами. Свет в картинах Греко – это не ровный, спокойный свет, который в те годы помогал Караваджо передать в живописи предметность вещей реального мира. Свет Греко, то колеблющийся, то вспыхивающий, то скользящий, исполнен внутреннего трепета в согласии со всем ритмическим строем композиции. Он заставляет загораться красочные пятна, претворяет ядовитую зелень в желтое, малиновые тона – в киноварь; иногда он, как окись, разъедает краску. В сравнении с глухими, но теплыми тонами Тинторетто живопись Греко с ее режущими цветовыми вспышками кажется особенно возбужденной и беспокойной.
Хотя Греко был обычно погружен в себя, в мир своих видений, он сохранял чуткость и к окружающему миру. Об этом говорят его портреты и пейзажи. Он был одним из лучших портретистов второй половины XVI века. Никто другой не запечатлел, как он, испанских гидальго с их широко раскрытыми, как бы невидящими глазами и отпечатком томной бледности на лице; эти вытянутые лица, похожие на византийские иконописные лики, норой оцепенелы, но они способны и к решимости, их снедает внутренний огонь. В портрете монаха-поэта фра Паллавичино (129) Греко достигает силы, почти предвосхищающей «Иннокентия» Веласкеса (ср. 137). В его фигуре есть и мужество, и сдержанность, и вместе с тем в нем схвачен мимолетный жест, которого не знал портрет XVI века (ср. 66). Самая свобода письма, световые контрасты вносят в портрет то напряженное беспокойство, которое никогда не оставляло Греко.
В своей картине «Толедо» (135) Греко рисует портрет города, ставшего его второй родиной. Хотя гроза делает все трудно узнаваемым, в картине точно переданы старинные здания города. Небо сливается с землей, клубящиеся облака – с пышными деревьями; цепь зданий и извилистые дороги похожи на пробегающую по небу молнию. Гроза, которую Леонардо наблюдал с горы, внушала ему гордое чувство превосходства человека над природой. Наоборот, Греко, как и его современника испанского поэта Франсиско де Медрено, природа наводит на мысли о ничтожности человека. Впоследствии Кальдерон называл м» лнию «огненными языками небес, глаголящих земле». В пейзаже Греко здания на фоне разбушевавшейся стихии кажутся игрушечными, предметы бесплотными. И все же в этом пейзаже много жизни, в богатом светотеневом ритме с пробегающими диагоналями, в чередовании планов, в тональности много движения, какого не знала пейзажная живопись до Греко.

18. Сурбаран. Чудо св. Гюго. Ок. 1629 г. Севилья, Областной Музей.
Греко был великим живописцем, несправедливо забытым последующими столетиями. Но его жизнь среди вырождавшегося дворянства и монахов Толедо наложила свой отпечаток на его искусство. Его мистическое исступление нередко принимает характер ложной патетики и позы. Бесконечные чувствительно возведенные, блестящие от слез глаза его святых и монахов порой отдают невыносимой фальшью и приторной слащавостью. Изломанность его форм, деланность его образов вызывает к себе такое же отвращение, как проявления современного формализма.
В XVII веке в Испании поднимается могучая волна реализма. Здесь были особенно благоприятны условия для его пышного расцвета. Испания почти не знала сильного среднего сословия, умеренного в своих вкусах, сглаживающего противоречия между вкусами верхов и низов. В Испании была монархия, чопорный двор, знать, монашество и духовенство и было простонародье, далекое от условностей и традиций, требовавшее в искусстве языка понятного, сочного, жизненного, порой грубоватого. Нигде социальные противоречия не были в то время так сильны, как в Испании. Вот почему именно здесь рядом с искусством Греко могло развиться искусство, от которого пахло землей. Такого могучего реализма, как в Испании, не найти во многих других странах Европы XVII века.
Расцвет реализма в литературе начинается еще в XV веке романом-драмой «Селестина». Ничто не останавливает его автора в изображении жизни общественных низов. Героиня его, сводница, обрисована сочными, яркими красками, с намеренным цинизмом. В XVI веке в Испании возникает плутовской роман («Жизнь Ласарильо с Тормеса», 1554; «Вускон» Кеведо, 1607). Весь мир рисуется здесь с точки зрения бродяги, пикаро, который вынужден думать только о своем пропитании, стремится пробиться в жизни путем обмана, ловкости и увертливости, но встречает всюду суровый отпор и сталкивается с жестоким эгоизмом людей. Весь мир для него – это сумма материальных благ. Подобного безжалостно прозаического отношения к жизни не встречается и в итальянских новеллах Возрождения.
В XVI–XVII веках расцветает испанский театр, народный по своей природе, театр, какого не знала даже Англия при Елизавете. Самыми крупными его представителями были Тирсо да Молина и Лопе де Вега. Они рисуют нравы и типы самых различных слоев общества. Лопе де Вега не решается выступать против монархии, но в своей пьесе «Овечий источник» он изобразил народное восстание с живым сочувствием к угнетенному крестьянству. Испанские комедии искрятся весельем, блещут яркой, живой речью, захватывают умело построенной интригой.
Но, конечно, самым гениальным представителем испанского реализма был Сервантес. Его «Дон Кихот» – это настоящая энциклопедия испанской жизни эпохи Филиппа II. Его герой, обедневший гидальго, воплощение гибнущего испанского рыцарства; его верный спутник Санчо Панса – воплощение народной мудрости, мужицкой сметливости и простодушия, один из самых замечательных образов крестьянина в мировой литературе. Путешествие приводит рыцаря и его оруженосца в княжеские замки, на постоялые дворы, в деревни, в городишки, где они ведут беседы с трактирщиками, брадобреями, цырюльниками и погонщиками мулов. Испанский реализм находит себе в лице Сервантеса создателя образов такого же общечеловеческого значения, как образы Данте или Шекспира. Дон Кихот, этот безумец и фантаст, выступает как искатель правды, справедливости и красоты. Печальная действительность Испании того времени поворачивается к нему своим невзрачным лицом, он постоянно оказывается в смешном положении чудака, и все же его безумство раскрывает глубокие пласты самой жизни; многое в ней оказывается призрачным и обманчивым, ложным и отталкивающим, и тем не менее герой Сервантеса ни на минуту не теряет привязанности к жизни, к людям. Особенно удивительно в романе Сервантеса, что каждая словно списанная с натуры картина, каждый анекдотический эпизод, каждая меткая реплика Санчо Пансы связана с основной идеей романа, полна многозначительного смысла, образный язык искрится множеством намеков.
В XVI–XVII веках в Испании даже в религиозную литературу вливаются широким потоком реалистические мотивы. В молитвах и песнопениях сказывается простонародный язык и жизненные образы: в них заметна привязанность к бытовым предметам, окружающим человека. В одной драме говорится о портном, взятом на небо вместе со своими ножницами; в другой – как Христос, спустившись с неба, безуспешно пытался вступить в священный орден.
В Испании XVI–XVII веков вошло в обыкновение представлять самое возвышенное в жизненных, прозаических образах. Но это не могло остановить смелого полета поэтической фантазии. Недаром младшим современником Сервантеса был поэт Гонгора – глава целого движения, которое стремилось изысканную словесную форму, порой несколько искусственную игру слов, сделать проводником философских раздумий, каких не в силах уразуметь непосвященные.
Одним из главных оплотов реализма в испанском искусстве XVI–XVII веков была школа Валенсии. Ее связь с возглавлявшимся Караваджо движением в Италии до сих пор не выяснена. В Испании были все условия для самостоятельного возникновения и, пожалуй, даже для более полнокровного, чем в Италии, развития этого направления. Недаром уже в 1579 году в «Бальзамировании тела св. Лаврентия» художника Новарете, по прозвищу «иль Мудо», заметна такая суровая правда образов, которая предвосхищает римские работы Караваджо.
Представителями валенсийской школы были Рибальта (1551–1628) и его ученик Рибера (около 1588–1652). Рибальта учился в Италии, был в Риме, копировал итальянских мастеров, но сохранял исконно испанскую важность, серьезность и даже суровость. Его занимала светотень, которую усердно разрабатывали итальянцы. Но круг его тем уже, чем у Караваджо; ему незнаком приподнятый пафос итальянского мастера. Зато в неуклюжих фигурах Рибальты много грубоватой силы, пылкости. В одной картине бородатый монах Франциск приближается к распятию, обнимает грузное тело пригвожденного к кресту, тот венчает его венком. Матфей Рибальты не так вызывающе вульгарен, как Матфей Караваджо. Но и он – простой человек, которого юноша-ангел убеждает что-то написать. Падающий сзади свет подчеркивает объемность обоих фигур. Лука погружен в писание евангелия; рядом с ним бродит, словно пасется, бык, который искони считался его атрибутом.
Ученик Рибальты Рибера молодым человеком покидает Испанию (1615) и поселяется в Неаполе., Он получает здесь признание среди итальянских мастеров, но не перестает быть испанцем: его называли «ло спаньолетто». Веласкес посещал его во время своих путешествий в Италию. В своих многочисленных картинах Рибера изображает мученичества, как сцены жестокости, лишенные того приподнятого пафоса, которого редко когда избегали итальянцы (126). Его так называемый «Архимед» – беззубый, лысый старик с торчащими ушами, замеченный художником на улицах Неаполя; Рибера опровергает здесь традиционное представление об античности, как о чем-то возвышенном и неизменно прекрасном. Его «Кривоножка» – это настоящий тип испанского пикаро, плута, лукаво и даже нагло улыбающегося зрителю. Наоборот, более возвышенный образ увековечен в «св. Агнесе» Риберы (Дрезден), полуобнаженной молящейся девушке, доверчиво взирающей на пухлого херувима. Рибера никогда не смягчает резкость и уродливость черт, как это делал Караваджо в своих бытовых зарисовках. Его фигуры переданы резкими пятнами, сильными ударами кисти, которых избегали итальянцы даже в XVI–XVII веках.
Главным очагом реализма в Испании была в XVII веке Севилья. Этот город вел торговлю международного значения. По Гвадалквивиру ходили большие галеоны, отправляясь в заморские плавания. В Севилье даже гидальго втягивались в коммерческую жизнь. «Трудно найти в Мадриде женщину не нищую, в Севилье– дворянина не торговца», – говорит старинная испанская поговорка. Этот город рано становится оплотом гуманизма и вольнодумства, проводником итальянского влияния в Испании. Из Севильи происходят крупнейшие испанские реалисты XVII века.
В Севилье сложилось дарование испанского скульптора XVII века Монтаньеса (1582–1649), особенно много создавшего в области скульптуры из дерева, которая в Испании имела распространение в самых широких народных кругах. Отличительная черта испанской скульптуры этого времени – это ее раскраска. Правда, и древние греки и мастера поздней готики пользовались раскраской, но в древности она имела лишь вспомогательное значение, выявляя форму или смягчая тени, и лишь готические мастера стали пользоваться более плотными красками. Испанские резчики научились при помощи цвета придавать своим статуям крайнюю степень сходства с живыми фигурами. Многие испанские мастера XVII века не могли устоять перед искушением добиться настоящего обмана зрения. Их толкало к этому желание наделить воображаемые образы святых признаками живых людей, позволить людям обращаться к ним как к одушевленным существам; потребность в этом настоятельно испытывало церковное искусство.
Многие мастера решали эти задачи с большой изощренностью: слезы Марии делались из стекла, кровь распятого окрашивалась в красный цвет и казалась настоящей кровью. Статуи, так называемые «pasos», носили в процессиях над толпой. Некоторые из них при помощи хитрого механизма приводились в движение. В более позднее время перед выполненными в натуральный рост и рассаженными вокруг стола фигурами «Тайной вечери» Зарсилло накрывали на стол, как перед актерами на сцене. На этом пути испанская цветная скульптура нередко выходит за пределы искусства, хотя она и достигает этими способами большой силы воздействия. Но в лучших произведениях испанской скульптуры и в том числе в статуях Монтаньеса, вроде его «Распятия» в Севилье или «Св. Бруно» в Кадиксе, несмотря на раскраску, есть большая чисто скульптурная выразительность, хорошо выделено главное, формы отличаются той мужественной простотой, которой не хватало итальянским скульпторам барокко. Скульптура Монтаньеса близка к современной ему живописи и особенно к Сурбарану.
Франсиско Сурбаран (1598–1662) был, наряду с Веласкесом, самым крупным испанским художником XVII века, но в отличие от своего великого собрата по искусству не покидал родины. Передают, что даже Севилья казалась ему слишком шумной, и он стремился уйти из нее в тишину окрестных городков и деревень. Он работал главным образом для монастырей, писал сцены из монашеской жизни, монахов, мучеников и святых. Его картины исполнены благочестия, но его религиозность не похожа на исступление и волнение Греко. В картинах Сурбарана неизменно царит спокойствие и порядок; люди отличаются здоровьем, важностью, степенством. Религиозные картины Сурбарана проникнуты более мирским духом, чем картины Греко на мифологические темы вроде «Лаокоона». Многие даже сложные по замыслу композиции Сурбарана составлялись им из этюдов с натуры. Сурбаран всегда испытывал непреодолимую привязанность к вещам, к предметам осязательно материальным. Вот почему даже таинственные предметы представлены у него так, будто к ним можно прикоснуться рукой. Но Сурбарану был незнаком напряженный драматизм и страстность образов Караваджо; его картины овеяны душевной чистотой и сельской простотой.
В ряде картин Сурбарана (Лувр, Берлин, Дрезден) представлен патриархальный уклад монастыря, неторопливый ход его жизни, степенные и неповоротливые фигуры монахов. Они то торжественно восседают под главенством Фомы Аквинского, то Бонавентура открывает Фоме источник своего богословского глубокомыслия– распятие, висящее над его столом, заваленным книгами; к коленопреклоненному Бонавентуре в окно заглядывает крылатый юноша – ангел. В «Похоронах Бруно»» вокруг мертвого тела собрались простые монахи, важные иерархи и знатные люди, составляющие целую галерею портретов современников Сурбарана.
В картине «Чудо св. Гюго» представлено превращение в пепел мяса, которое, вопреки уставу, вкушали монахи (18). Впрочем, в картине нет ничего чудесного: монахи в белых рясах, некоторые с надвинутыми капюшонами чинно сидят за длинным столом; перед каждым из них стоит по прибору; служка встречает согбенного святого, который всем своим обликом выражает неодобрение поведению паствы, словно произносит суровое осуждение. Легенда рассказана Сурбараном так незамысловато, как умели рассказывать разве только мастера XV века (ср. 95). Здесь нет того столкновения характеров, которое составляет основу всякого драматизма (ср. 61). Каждый человек свершает свое жизненное дело как участник важного обряда.
Этому характеру замысла отвечает у Сурбарана ясная, несложная композиция. Сурбаран располагает источник света сбоку, и, как у караваджистов, это повышает осязательность предметов. В своих многофигурных композициях он рассаживает персонажи, словно расставляет в порядке предметы. Он всегда стремится к выявлению основных линий в картине; в частности в «Чуде св. Гюго» сильно подчеркнута спокойная горизонталь стола, ей вторит горизонталь картины с двумя фигурами Марии и Иоанна, как бы повторяющими соотношения фигур служки и святого. Картина Сурбарана залита ровным, спокойным светом, краски насквозь пронизаны им.
В изображении отдельных фигур Сурбарана стирается грань между земным и небесным: его «Святая Касильда» (Мадрид) с корзиной цветов в руках, вполоборота повернувшая голову к зрителю, – это знатная севильянка в шелковом платье, переданном так, словно мы слышим его шуршание, когда она проходит перед нами. «Лаврентий» Сурбарана (Эрмитаж), огромный и грузный диакон в роскошной парчовой ризе, высится на фоне пейзажа, и трудно поверить, что любовно выписанная решетка рядом с ним может стать орудием его пыток. Маленькая Мария Сурбарана (134) – это некрасивая девочка в простеньком платьице и с шитьем на коленях, с худеньким личиком, с черными, как вишни глазами и трогательно-доверчивым взглядом.
Сурбаран благоговейно и простодушно, как нидерландские мастера XV века, относится к простейшим предметам каждодневности. Отпечаток этого мироощущения лежит и на натюрмортах Сурбарана (132). В них прежде всего бросается в глаза строгий порядок, в котором расставлены предметы: в отличие от современных им голландских натюрмортов ни один предмет не закрывает другого. Уже это одно вносит в них умиротворенность и аскетическую суровость. Из соотношений простейших объемов художник извлекает настоящую музыкальную гармонию. Отражения предметов любовно подмечены на блестящей поверхности стола в на металлических блюдах.
К сожалению, Сурбаран не всегда мог удержаться в пределах подлинной живописи. Многие свои произведения, вроде «Прославления Фомы Аквинского» (Севилья), он в угоду заказчикам-монастырям должен был перегрузить атрибута-. ми, фигурами и богословскими измышленьями, и в подобных случаях это мешало ему видеть мир глазами живописца-реалиста.
Сверстник Сурбарана, выходец из Севильи, Веласкес (1599–1660) был, бесспорно, величайшим среди всех испанских живописцев. Когда говорят об испанской школе, вспоминают прежде всего это славное имя. Между тем Веласкес во многих отношениях составляет исключение из общего правила: в искусстве Испании главное место занимали религиозные сюжеты, но Веласкес их почти не касался и проявил себя почти исключительно в портрете, хотя ведущий испанский теоретик эпохи Кардучо портреты не высоко ценил. Единственный среди своих соотечественников, Веласкес писал Вакха и – неслыханное дело в Испании! – обнаженную Венеру.
Он провел свою жизнь при чопорном дворе, где царили условности, этикет и ложь, но он был свободен от предрассудков, всегда сохранял внутреннюю свободу, был художником правды. Его заказчиками были кичливые испанские аристократы, которых больше всего занимали вопросы родовой чести, но Веласкес питал уважение к труду, влечение к простонародью, интерес к жизни во всех ее проявлениях. Он был многим обязан своему происхождению из Севильи. Его учитель Пачеко, несмотря на умеренность своих воззрений, понимал, что такой гений не может подчиняться слишком строгим правилам. Для потомства не подлежит сомнению, что именно в отступлениях от них лежит источник силы Веласкеса.
Жизнь Веласкеса сравнительно мало известна: его письма почти не сохранились; мы не знаем ни его воззрений на искусство, ни подробностей его личной жизни. Он выразил себя целиком в своих произведениях. В Севилье он получил свое первоначальное художественное образование и совсем молодым человеком в поисках счастья был отправлен в Мадрид. Испанский двор все еще казался заманчивой ареной для деятельности художника. Дарование молодого Веласкеса сразу нашло себе здесь высокое признание. Передают, что инфант, будущий Филипп IV, заявил, что не желает, чтобы его портреты писал кто-нибудь другой, кроме Веласкеса. Это определило его жизненную судьбу. В качестве придворного портретиста он всю свою жизнь бессменно состоял при особе короля. Это положение далеко не обеспечивало художника; оно лишь стесняло его творческий рост и подчиняло его прихотям коронованных покровителей. Художник удостоился знака отличия только за несколько лет до смерти, после унизительных розысков о знатности его рода. Но, видимо, Веласкес мужественно сносил тягости придворной жизни и всегда сохранял внутреннее достоинство художника.
Своими первыми успехами в Севилье он обязан влиянию испанского караваджизма. Он учился у Пачеко, защитника старины и золотой середины, робкого, мало самостоятельного мастера. Но уже ранние произведения Веласкеса отличаются сочностью и силой своих образов. Он увлекается излюбленной в Испании так называемой «кухонной живописью» (bodegones). Возможно, что у него были постоянные натурщики, старики, женщины, парни и небольшой круг предметов – глиняные сосуды, корзинки, кувшины, стаканы; из них он составлял свои натюрморты и бытовые сцены. Его картины крепко построены, предметы ясно вылеплены. Порой он переносит свой опыт на более возвышенные темы и пишет с натурщика Иоанна Богослова, с простой крестьянки – богоматерь в «Поклонении волхвов». Его картина «Непорочное зачатие» (около 1618) изображает девушку, похожую на Марию в картине Сурбарана: она спокойно стоит на высоком постаменте на фоне облаков, чуждая всему чудесному и таинственному.
Веласкес сохранил привязанность к сценам из повседневной жизни и после переезда в Мадрид (1623), но его «Вакх» (Прадо, около 1628) и «Кузница Вулкана»
(Прадо, 1630) более зрелы по композиции и выполнению, чем бытовые картины, написанные в Севилье. Возможно, что самая тема Вакха была навеяна фламандскими образами, на которые Веласкес мог насмотреться в обширных королевских собраниях картин, но контраст между возвышенным и низменно-повседневным, которого добивался мастер, отвечал исконному духу испанского искусства. В обеих картинах боги спускаются в самую гущу будничной жизни: белотелый Вакх окружен состязающимися в искусстве пить вино пьяницами, Аполлон является среди полуголых, удивленно его встречающих кузнецов. Мы видим в «Вакхе» загорелых пьяниц в грубых плащах, испитое лицо какого-то пастуха, ухмыляющегося крестьянина в войлочной шляпе; замечаем в кузнице кудрявого парня с полураскрытым от удивления ртом; у старого кузнеца Вулкана гневно блестят глаза при вести о том, что он обманут женой.
Таких сочных простонародных типов почти не знало мировое искусство в начале XVII века. Брейгель Мужицкий смотрит на своих крестьян с горькой усмешкой, со своей стороны и они немного дичатся; наоборот, у Веласкеса люди из простонародья ведут себя вполне непринужденно, естественно, как у Сервантеса. Их не стесняет даже присутствие бога. Но все же примечательно, что молодой мастер возвеличивает повседневность при помощи мифологического персонажа, в нее вторгающегося. Веласкес еще пользуется резким боковым освещением, лепит предметы, но все же его кисть становится легче, композиция свободнее и сложнее, хотя она, как в классической живописи итальянцев, легко улавливается глазом. Как ни самобытна «Кузница Вулкана» Веласкеса, на ней лежит отпечаток впечатлений, полученных за время пребывания в Италии (1630).
В Мадриде Веласкес на время оставил эти искания и ушел целиком в область портрета. К этому его призывали заказчики, к этому он чувствовал внутреннее влечение. Портрет при испанском дворе издавна играл большую роль. В XVI веке здесь работал нидерландец Антонис Мор – острый, но сухой, холодный и даже порой бесстрастный мастер с его натянутыми позами и словно застывшими фигурами. Испанские мастера вроде Коэльо и Патохи де ла Крус еще более заострили эту манеру: их бескровные фигуры похожи на манекены, убранные тканями, увешанные тщательно выполненными драгоценностями. Эти мастера удовлетворяли вкусам двора, потребностям в портретах, лишенных подлинной человечности, но исполненных чопорности и величия. Веласкес, конечно, знал эту традицию, но в картинной галерее короля его больше всего привлекали портреты Тициана, в которых личность человека предстояла во всем ее жизненном богатстве. Молодым художником он мог наблюдать в Мадриде уже прославленного тогда Рубенса, который говорил более приподнятым языком, чем Тициан, но сообщал не меньшую жизненность и силу своим моделям.
Ранний погрудный портрет Филиппа IV Веласкеса (около 1628) интересен тем, что молодой мастер переносит в портрет приемы, выработанные им в низком жанре «бодегонес». В противоположность бесплотности, плоскостности и узорности мадридских портретистов голова в портрете Веласкеса кажется объемно вылепленной; в ней резко подчеркнуты ее характерные признаки – яйцевидная форма черепа, тяжелый подбородок, выпяченная нижняя губа. Портрет свободно написан и мерцает множеством отсветов, хотя художник пользовался боковым освещением.
Веласкес претворяет этюд в большой и величественный образ; он пишет портрет Филиппа в рост, в котором сочетает свои приемы с опытом предшественников (133). В нем есть и торжественность, и величие, и застылость, и подчеркнута плоскостность силуэта, как в портретах Коэльо. Но застылость этого образа выражает как бы внутренний жест, силу, роста. Веласкес почти как Греко преувеличивает вытянутость модели: маленькая головка увенчивает огромное туловище, которое, с своей стороны, покоится на тонких, как спички, ногах. Фигура приобретает нечто призрачное, донкихотское и вместе с тем сохраняет жизненный характер. Веласкес еще пользуется контрастами светлых и темных пятен и стремится к объединению всей фигуры в единый силуэт. Уже в этом портрете ясно выступает своеобразный портретный стиль Веласкеса.
В течение своей сорокалетней службы при дворе Веласкес создает целую галерею портретов. Он пишет короля и королеву в парадных и в охотничьих костюмах, но всегда чопорных и величавых. Он пишет бледных инфант, эти тепличные цветы, возросшие в нездоровой атмосфере дворца, затянутых, как взрослые, в парчовые робы, с выражением усталости и тревоги на лице. Перед ним позировал жестокий и всесильный временщик министр Оливарес с кошачьим лицом и торчащими усами, позировала его важная, степенная супруга. Испанские придворные и вельможи в портретах Веласкеса полны чиновной важности и повышенного чувства собственного достоинства; красавицы величаво сдержаны с печатью роковой тайны на лице.
В своих философско-моральных трактатах современник Веласкеса Грасиан призывал испанскую знать всегда сохранять невозмутимое спокойствие, подчинять расчету и воле страсти, соблюдать выше всего свою честь. Модели Веласкеса стремятся выглядеть в портретах, как герои. Веласкес не в силах был создать из них образов такой же жизненной полноты и обаятельной гармонии, как Тициан, выразить в них такое упоение жизнью, какое мы видим в парадных портретах Рубенса. В портретах Веласкеса нет ни легкомысленного и пустого изящества портретов ван Дейка, ни страстности Греко. Веласкес подводит нас вплотную к своим моделям, никогда не льстит им, сразу схватывает самое характерное в лице, во взгляде, в мимике. Его люди сложнее, чем они кажутся на портретах; вот-вот они поведают нам свою жизнь, раскроют свою тайну, но все же они никогда не выдают своих чувств ни взглядом, ни жестом и подавляют в себе свои страсти, как слабости. Сама чопорность и сдержанность их только повышают выражение их внутренней силы.
Писать только одни портреты придворных было, видимо, для Веласкеса невыносимо. Его тянуло к общению с простыми людьми. Он пишет своего слугу и помощника-подмастерья, смуглого мавра, и выполняет этот портрет в исключительно свободной манере (1650). Его внимание привлекают два нищих в засаленной, рваной одежде. Один из них с бабьим, плохо бритым лицом остановился с каким-то странным равнодушием; другой, в длинном плаще вполоборота лениво взирает на зрителя. Эти два уличных типа были в насмешку названы звучными именами Эзопа и Мениппа (около 1639–1640).

19. Веласкес. Сдача Бреды. Ок. 1634–1635 гг. Мадрид, Прадо.
Особенно замечательна серия портретов уродов и шутов. Выполняя эти портреты по прихоти короля, Веласкес вложил в них больше, чем от него требовалось. Он увидал в них яркие жизненные типы, более характерные, чем многие чопорные придворные. Среди них особенно хорош «Идиот из Корин» (около 1646–1648) с его странно невидящим взглядом и безумной улыбкой на устах (138) и маленький человек-обрубок Себастьян де Морра (1643–1644), красноречивым, вдумчивым взглядом взирающий перед собой. Веласкес видел в этих шутах не только нечто безобразное и смешное; в полном согласии с Сервантесом он усматривает в безумии и уродстве своих героев нечто человеческое. Поразительно, что даже изображение лани из королевского зверинца приобретает у Веласкеса характер портрета (около 1636).