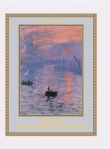Текст книги "Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2"
Автор книги: Михаил Алпатов
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
В последней четверти XVIII века во Франции появляется замечательный портретист, мастер скульптурного портрета Гудон (1741–1828). Его портреты – это самое возвышенное выражение веры в человека, которая одушевляла передовых мыслителей века Просвещения. Основы старого, феодального порядка воспринимались ими как силы, препятствующие естественному росту человека. В те годы все больше раздавалось голосов, требующих его освобождения. Многие были уверены, что достаточно уничтожения внешних препятствий, и человек обретет радость и свободу своего естественного состояния. Эти воззрения проникали даже в политическую экономию – в учение физиократов. История показала их утопический характер, но они оплодотворили развитие искусства и в частности портрета.
Сила Гудона, особенно в сопоставлении с Ла Туром, в том, что он искал в человеке живую и цельную личность, в каждой личности находил черты, которые располагают к нему; каждый человек обретает у него право оставаться самим собой. И вместе с тем Гудон создает неповторимые характеры; разнообразие его портретов изумительно. Властное полное лицо, закинутая голова и выпяченная грудь с лентой – это Суфрен, прославленный, победитель в морских сражениях (Экс, 1786–1787). Худое лицо, жилистая шея, горбатый нос и плотно сжатые губы – это ученый-эрудит, аббат Бартелеми (Национальная библиотека, Париж, 1795–1805). Квадратная голова на короткой и крепкой шее, исполненный энергии взгляд, могучий подбородок – это трибун революции 1789 года Мирабо (Версаль, 1800). Лицо знаменитого натуралиста Бюффона с его орлиным носом и величаво спокойным взглядом полно тонкой интеллектуальности (Лувр, 1783). У Глюка высокий, открытый лоб, волосы в беспорядке, изрытое оспой лицо, слегка нахмурены брови, но на всем – отпечаток просветленного вдохновения (Лувр, 1775). Франклин – это воплощение патриархальной Америки, лысый старец, полный важного спокойствия с тонкой усмешкой на губах (Лувр, 1778). Вашингтон – это человек с мелкими чертами лица, слегка подслеповатыми глазами и взглядом, пристально устремленным вперед (Лувр, 1786).
Гудон создает два совершенно разных, но в равной степени правдивых образа Руссо и два таких же разных образа Вольтера. В одном из них Руссо увековечен с нахмуренными бровями, лихорадочным взглядом, страдальческой складкой сжатых губ (Женева, 1778). Другой Руссо похож на древнего мудреца: с него снят парик, волосы зачесаны вперед; он во что-то мечтательно всматривается; особенно хорошо переданы его детски наивные губы (Лувр, 1778–1779). Портреты Вольтера обессмертили имя Гудона. Потомство не может себе представить великого человека, минуя эти образы Гудона. Он представил его один раз в камзоле и парике (Версаль, 1778–1779), в другой раз лысым, хилым стариком в античной хламиде, едва скрывающей его истощенное тело (бронзовый бюст в Лувре и ряд реплик, 1778–1779, статуя – мрамор, Французский театр и Эрмитаж) (185). Гудона вдохновляли французские мастера XVI века с их беспощадным реализмом (ср. 14). Но у него все приобретает большую одухотворенность и живость. Лицо Вольтера светится ясным умом, беспощадной насмешкой; кажется, с него сняты все покровы (как в ранней статуе Гудона, так называемой «Ecorché», 1766), приведены в движение все мускулы лица. И все же это цельный образ человека, законченный и сильный.
Каждый портрет Гудона получает свое скульптурное выражение соответственно характеру модели. Он срезает бюст резкими прямыми линиями, чтобы придать большую внушительность Мирабо, закругляет снизу бюст Вольтера, чтобы сильнее выявить объем его лысой головы. Он передает часть корпуса там, где нужно показать осанку фигуры, ее резкий поворот, движение, жест; прекрасно использует то шероховатость терракоты, то блеск бронзы. Со времени древнего Рима в мировом искусстве не было равного Гудону мастера скульптурного портрета (185 cp. I, 102). Но в отличие от древних римлян и от Бернини, который выделял преимущественно одну главную черту в характере человека (ср. 124), Гудон на основе портретного опыта европейской живописи передает образ человека во всем богатстве его и сложности, претворяя невзрачность модели в красоту пластики, улавливая подвижное, изменчивое в лице, связывая портрет с воздушной средой.
В последней четверти XVIII века во французской живописи выступает яркое художественное дарование Фрагонара (1732–1806). Его имя называют вслед за именем его учителя Буше, который помог ему развить свое декоративное чутье. Но Фрагонар учился и у Шардена и, благодаря этому стал превосходным живописцем. В Италии он видел и копировал великих мастеров. Он пробовал свои силы в области больших классических композиций, но эти скучные и надуманные картины не имели успеха. Чтобы поправить свои дела, он начал писать маленькие картинки галантного, фривольного жанра, перенося в станковую живопись излюбленные темы гравюры XVIII века. В этом он обнаружил большую живость, смелость, изобретательность и тонкий вкус.
В «Качелях» (коллекция Уоллес, 1766) запечатлено пикантное мгновение: красавица, качаясь и поднимая ножку, теряет башмачок; юноша торопится его поймать и бросает нескромный взгляд на тайные прелести возлюбленной; мраморный амур прикладывает палец к устам, словно испуганный тем, что произошло по его вине. Действие происходит в сказочном саду с кружевными деревьями и ветвями самых причудливых очертаний. В «Украденном поцелуе» (Эрмитаж, 1780-е годы) Фрагонар как бы на лету схватывает мгновенье, когда юноша, выглядывая в открытую дверь, украдкой от веселого общества срывает с уст девушки сладкий поцелуй. «Девочка» Фрагонара (коллекция Уоллес) с ее золотистыми волосами, голубыми глазами и розовыми щечками вся соткана из оттенков желтого, розового и голубого. Здесь сильнее всего сказались уроки Шардена. Но все же в большинстве этих картин Фрагонар в угоду публике принужден был насиловать свое дарование, притворяться слащавым, манерным, старательным в выполнении деталей.
Фрагонар становится неузнаваемым, когда он пишет для себя, по вдохновению. Только тогда пробуждается в нем настоящий темперамент живописца, мастера моментальных набросков с натуры или эскизов по воображению (maître d’ebauches). На некоторых холстах он сам расписался: «Фраго написал это в один час». Порой он берется за те же галантные или семейные жанровые сцены, но с бесконечно большим юмором и смелостью.
Особенно хорош его этюд «Прачки» (184), настоящий и правдивый кусок жизни. Представлен уголок Рима; мраморная лестница, тенистое дерево, две статуи и перед фонтаном полоскающие белье прачки. Конечно, мастер галантного жанра Фрагонар далек и здесь от сердечности Шардена (ср. 172). Сценка привлекает его всего лишь как яркое, красочное зрелище, и она получила особенную поэтическую остроту потому, что рядом с прачками лежит задумчивый сфинкс, а белье развешано на фоне монументальной лестницы и мраморной статуи. В картине как бы сталкиваются бытовой и исторический жанр. Включение в композицию живых фигур и статуй напоминает «Качели».
В выполнении своего этюда Фрагонар дает полную волю своему темпераменту. Он отбрасывает, как ненавистный парик, всю манерную мелочность рококо, пользуется широкими мазками, выделяет контраст темной листвы и ярко освещенной солнцем балюстрады. Фрагонар пишет так, как писал в Риме за сто лет до него Веласкес и как будет писать через сто лет после него Эдуард Мане.
Фрагонар не был глубоким, проникновенным художником, но жизнерадостность, блеск и остроумие приближают его к Бомарше, который своим «Севильским цирюльником» и «Свадьбой Фигаро» внес столько жизни в театр XVIII века.
В Италии был выполнен ряд замечательных рисунков Фрагонара. Его рисунки сангиной «Кипарисы виллы д’Эсте в Тиволи» не уступают в сочности своего тона многим картинам, написанным маслом. Тонкая передача кудрявой листвы сочетается с удивительной силой огромных, разросшихся деревьев. В те самые годы, когда путешественников в Италии начинала привлекать лишь поэзия развалин и руин, Фрагонар увидал красоту здоровой жизни южной природы. Деревьям-великанам он противопоставил миниатюрные фигурки людей и здания дворца.
Во французской графике и в рисунке XVIII века было больше свободы и жизни, чем в живописи. Лучшие качества этой графики проявились в произведениях одного из самых искусных рисовальщиков второй половины века Габриеля де Сент Обен (1724–1780). В своих иллюстрациях он охотно пользовался аллегорическим языком, которым не пренебрегал и Вольтер. На облаках появляются богини и небесные вестники, но с ними сопоставляются фигурки, словно выхваченные из реальной жизни. Порой аллегории вторгаются в обыденную, жизненную обстановку: то увенчивают парикмахера, завивающего парик клиентке, то спускаются с неба на заседание парижского ученого общества.
Габриель де Сент Обен был одним из немногих мастеров XVIII века, обладавшим пониманием драматизма, которое было чуждо и недоступно и Шардену и Буше. В рисунке «Судебный обыск» (181) в пронизанном трепетным светом интерьере смутно вырисовываются предметы элегантной обстановки и фигуры судебных чиновников – вся сцена пронизана настроением большой напряженности. Конечно, это не высокий драматизм Рембрандта, не та глубина душевных переживаний, которая способна пробудить в зрителе глубочайшую симпатию к представленным людям (ср. 151). У Сент Обена вся напряженность носит более поверхностный, внешний характер. Но все же в искусстве этого мастера вразрез с беззаботным настроением рококо все чаще звучат нотки смятения и тревоги. Наступала пора, когда кончался веселый праздник жизни, которым легкомысленно упивался человек XVIII века; перед ним раскрывались темные бездны, как они раскрылись перед Дон Жуаном Моцарта в момент появления командора. Небрежность графического языка Сент Обена, то гаснущие, то вспыхивающие краски в его акварелях – все это было порождением его высокого живописного мастерства.
Искусство XVIII века наиболее полно и многогранно развилось во Франции. Французская школа сохраняла в XVIII веке главенствующую роль среди других западноевропейских школ. XVIII век в Европе не был так разнообразен в своих художественных проявлениях, как XVII век, в котором уживались противоречия голландского реализма, итальянского барокко и французского классицизма. Впрочем, и в XVIII веке в искусстве различных европейских стран можно заметить отклонения от основного русла. Таким образом, каждая из национальных школ XVIII века вносила свою лепту в сокровищницу искусства.
Россия, только что вступив на путь западноевропейского просвещения, за одно столетие уже сделала огромные успехи. Петербург с его прямыми проспектами, величавыми набережными и широкими площадями стал самым передовым городом XVIII века. В России работало много иностранных архитекторов, но многие из них примкнули к русской художественной традиции: такое смелое воображение, такая яркость красок и сочность форм, как у Растрелли, не встречается в других школах XVIII века.
В Германии зависимость от французского искусства была в XVIII веке так же сильна, как в эпоху готики. Но при немецких княжеских дворах долгое время сохранялись традиции искусства барокко. Дворцы XVIII века вроде Вюрцбургского– это огромные сооружения с торжественным входом, вестибюлем, крытым куполом главным залом, и только отдельные салоны их украшались в стиле рококо.
Самый типичный немецкий архитектурный памятник XVIII века – это дворец Фридриха в Сан-Суси, близ Потсдама (188). В нем, как и во всех немецких зданиях рококо, заметно подражание французским образцам, но нет такого совершенства выполнения, безупречного вкуса, строгости пропорций (ср. 190). Зато в нем, как и в других немецких дворцах и парковых планировках с их раздробленностью форм и нарядностью, больше теплоты, уюта, настроения. Этими чертами отличается и графика Ходовецкого (1726–1801), особенно его иллюстрации к Лессингу и Гёте, исполненные простоты, естественности и изящества. Впрочем, главные достижения немецкого искусства XVIII века были в области музыки: это определило характер немецкой школы и в последующее время.
Рядом с Францией наиболее значительными художественными очагами Западной Европы в XVIII веке были Италия и Англия. Первая была целиком обращена к своему славному прошлому, но ее творческие силы заметно оскудевали. В Венеции последние отсветы Возрождения были особенно красочны. Город, уже давно потерявший свое былое политическое значение, все еще растрачивал накопленные богатства: сюда приезжали знатные и богатые люди с севера, привлеченные его шумной, веселой и беспечной жизнью. В XVIII веке в Венеции возрождаются традиции Веронезе в пышном и величественном искусстве Тьеполо (1696–1770). Тьеполо был последним европейским мастером, свободно владевшим средствами стенной живописи, искусством превращения стены в роскошное зрелище со множеством сочно и характерно обрисованных фигур и эффектными архитектурными фонами, зрелище, радующее взор прежде всего блеском своих красок и широтой живописного выполнения (Венеция, палаццо Лабия, 1757; Вюрцбург, дворец, 1751–1753). Но при воем даровании Тьеполо признаки оскудения ясно выступают и у него: в его исторических сценах само действие остается почти не раскрытым, фигуры выглядят, как нарядные статисты, композиция распадается, краски (особенно его любимая лимонножелтая) то вспыхивают, то гаснут, подчиняясь своевольному ритму независимо от того, что они изображают.
Рядом с декоративной живописью в Венеции XVIII века возникают новые жанры: Лонги пишет бытовые сценки из жизни венецианского светского общества, Гварди (1712–1792) запечатлел красоту родного города в своих тонких по настроению и свободных по выполнению, овеянных воздухом архитектурных пейзажах Венеции.
Подобно тому как в венецианской живописи рядом с Тьеполо были Лонги и Гварди, в венецианском театре XVIII века Гоцци своей сказочной драмой соперничал с жизненно полнокровной, бытовой комедией Гольдони. Благодаря Тьеполо венецианский колоризм стал достоянием всей Европы. Во Франции особенно сильное впечатление произвела итальянская «Опера буфонов» Перголезе. Казалось, в Италии были все данные для создания нового искусства: она обладала талантливыми мастерами, жила кипучей художественной жизнью. Но все же отсталость общественной жизни Италии XVIII века мешала ей стать передовой страной в искусстве.
В XVIII веке впервые за свое многовековое существование английское искусство приобретает общеевропейское значение. До того в английском искусстве, как и в других странах Европы, сменялись различные течения: были здесь и подражатели классическому искусству Италии, было сильное влияние искусства северного Возрождения – Фландрии и Голландии. Своеобразие английской школы, ее место в истории мирового искусства определялось тем, что здесь не было всесильной королевской власти, как во Франции, и развитие страны в XVIII веке протекало в условиях «компромисса между буржуазией и крупными землевладельцами». В Англии не создалось Версаля и строго академической художественной доктрины. Английская архитектура уделяет особенное внимание типу загородного дома знатного, виллы, замка. Английская живопись разрабатывает тип аристократического портрета.
Архитектура Англии имела свою художественную традицию, начиная с Иниго Джонса и Рена – мастеров XVII века. В XVIII веке в Англии вновь пробуждается интерес к Палладио: крупнейшими представителями этого направления были Вуд (1705–1754), Кент (1684–1748) и Джиббс (1682–1754). В своем неуклонном пристрастии к классическому наследию английская архитектура XVIII века занимала исключительное место среди других европейских школ. Лучшим английским мастерам было чуждо стремление к представительности, к развернутости фасадов, которое, начиная с века Людовика XIV, победило во Франции. Им был незнаком и рассудочный геометризм французской архитектуры.
В библиотеке Редклиффа в Оксфорде Джиббса (186), построенной в виде ротонды с большим ордером, бросается в глаза органический характер перехода от сурового нижнего этажа, выложенного рустом, с чередованием фронтонов и интервалов к двум верхним этажам, оформленным парными колоннами, и, наконец, к легкому куполу с барабаном и контрфорсами, увенчанными вазами, как балюстрада.

Джемс Пен и Роберт Адам. План дворца. Ок. 1770 г. Кедлстон.
Пластическая выразительность архитектурных форм делала здесь лишним декорации, медальоны или гирлянды, которые так любили французы. Вместе с тем создание Джиббса, как и большинство других английских зданий XVIII века, величественнее, сложнее, богаче, чем постройки Палладио (ср. 69).
Особенно много своеобразного было создано англичанами в области жилой архитектуры – сельских вилл, которые возводили для себя английские лендлорды в XVIII веке. Идеал классической красоты сочетался здесь с требованием разумного расположения частей. Дворцы братьев Адам обращают на себя внимание своей ясной и расчлененной планировкой (стр. 279). Они не похожи на запутанные и причудливые планы французских дворцов XVIII века (ср. стр. 259). Каждое помещение английского дворца соответствует его назначению. Это сказывается и в форме его плана, и в отношении к другим помещениям, и в расположении окон, и в освещении. Некоторые залы дворца образуют мягко закругленные самостоятельные объемы, и вместе с тем снаружи все здание производит впечатление целостной композиции, как виллы Палладио (ср. стр. 69).
Многие английские виллы XVIII века расположены в живописных местностях (187). Еще в начале столетия в Англии преобладали в парках строго геометрические планировки в духе Версаля. В середине XVIII века началось постепенное освобождение из-под этого влияния. Китайцы помогли англичанам найти свое отношение к природе. Знакомство с китайским садом началось еще в конце XVII века., но оно принесло свои плоды лишь позднее. Некоторое влияние оказал и пейзаж в живописи. Движение против «регулярного сада» нашло в Англии широкий общественный отклик; его поддерживали поэты и писатели XVIII века. Его инициатором был Кент, провозгласивший, что природа избегает прямых линий. Первым ландшафтным садом был парк в Стоу, созданный Броуном; вилла поставлена в нем наискось от главной аллеи; деревья образуют свободные группы и чередуются с· открытыми лужайками; иногда одно или несколько деревьев отделяются от основной массы и, выступая на фоне ее, круглятся своими кронами. Дорожки извиваются словно созданные для прогулки мечтателя. Парк оживляет озеро с извилистыми берегами. Правда, и в таком парке с его умело подобранными живописными эффектами чувствовалась рука человека.
Начало английскому портрету было положено трудами ван Дейка при английском дворе. В XVIII веке английский художник Хогарт (1697–1764) наперекор этим традициям создает свой стиль. Его искусство обязано своим возникновением пробуждению общественной жизни и мысли Англии. Это было время подъема буржуазного общества, напряженной политической борьбы, развития реалистического романа и журнальной полемики. Фильдинг шел от плутовского романа, сгущая его краски, провозглашая грубый эгоизм движущей силой жизни. Хогарт идет от голландской жанровой живописи XVII века, но мирное и спокойное настроение голландцев сменяется у него возбужденным и напряженным обличительным пафосом. Со времени крестьянских войн XVI века в Европе не было такой политически заостренной, желчной общественной сатиры, как в живописи Хогарта. Он пишет серии картин из жизни современного общества. Воспроизведенные в гравюрах, они получают самую широкую известность. Среди этих серий самые значительные «Модный брак», «Карьера проститутки» и «Карьера мота».
Хогарт следит за судьбой среднего человека своего времени и рассказывает о ней в своих картинах образно и наглядно. Его картины требуют самого подробного рассмотрения и изучения: каждая деталь наводит на размышления, служит характеристике человека, позволяет догадаться о том, что произошло или что должно произойти. Недаром впоследствии немецкий писатель XVIII века Лихтенберг написал к гравюрам Хогарта превосходные рассказы. В этом проявилось своеобразие дарования Хогарта. Французских мастеров привлекает прежде всего характер человека, и они передают его, пользуясь языком графического и живописного искусства. Хогарт не пренебрегает литературными средствами; он пользуется тем языком, которым в отличие от итальянцев пользовался Брейгель. Недаром картины Хогарта смогли иметь успех даже в ремесленной передаче в гравюрах.
В «Утре в доме молодых» мы заглядываем в столовую молодой четы: «он» только что вернулся домой после беспутно проведенной ночи; «она», сидя в кресле, лениво потягивается, так как также веселилась всю ночь, принимая гостей; управляющий с неоплаченными счетами удаляется в ужасе от хозяев. Хогарт заинтриговывает зрителя: он заставляет его всматриваться в каждую мелочь в картине, чтобы восстановить, что здесь происходило. Собачка, обнюхивающая карман хозяина, наводит на мысль о каком-то сувенире, случайно принесенном им. Опрокинутый стул указывает на то, что вечером, когда сгорели свечи, здесь было темно и гости навеселе натыкались на мебель. Картины на стенах и безделушки на камине говорят о вкусах хозяев и их достатке. В другой картине Хогарта «Утренний туалет» самые мифологические темы картин, висящих на стенах, в частности «Зевс и Ио», намекают на предстоящий маскарад, на который отправляется хозяйка и где она будет иметь успех как возлюбленная Зевса.

30. Генсборо. Мисс Тэшен. Ок. 1782 г. Англия, Частное собр.
В картине «Брачный договор» (183) представлено, как свершается сделка, выгодная и для купца, желающего породниться с знатью, и для разорившегося аристократа, желающего поправить свои дела. Аристократ с его горделивой осанкой не выпускает из рук главное доказательство своего превосходства – родословное дерево. Проныра-купец, не глядя на него, весь погрузился в изучение текста договора. Дурная собою купеческая дочка с бессмысленным видом играет обручальным кольцом, надевая его на платок; фатоватый, тонконогий жених отвернулся от суженой и жеманно берет понюшку табака. Хогарт дает такую остронасмешливую характеристику своим персонажам и прежде всего их социальным, типическим признакам, какой до него еще не было в жанровой живописи.
Как ни сложны и порою надуманны замыслы этих картин Хогарта, в них проявилась его беспощадная наблюдательность. На всех них лежит отпечаток темперамента художника, его желчной резкости, с которой может сравниться разве лишь Свифт. Хогарт обладал несомненным дарованием живописца, хотя предрассудки эпохи и недостаточное художественное образование мешали его проявлению. Эскизы выполнялись им в широкой манере с остро выраженной игрой живописных пятен, но в его картинах, и особенно в гравюрах с них, эти качества почти исчезают. Улыбающаяся «Продавщица креветок» Хогарта (Лондон, Национальная галерея) написана легко и свободно, как в то время почти никто не писал в Европе.
В отличие от аналитического портрета французов английские портретисты XVIII века стремятся к созданию цельного образа сильной, здоровой личности. Люди в английском портрете XVIII века полны энергии, и даже светские манеры и аристократические предрассудки не в силах удержать их от готовности к действию. В создании этого идеала участвовали английские мыслители-моралисты и писатели XVIII века Джонсон, Юм и др. Этот идеал живой, энергичной личности настойчиво пытался воплотить в своих лучших портретах Рейнольдс (1723–1792). Он достиг наибольшего из того, что можно достигнуть следованием высоким образцам, сознательным изучением старых мастеров. Его особенная заслуга – в создании английской Академии. Его «Речи об искусстве» говорят о тонком критическом даровании художника.
Неизмеримо более крупным живописцем был соперник Рейнольдса Генсборо (1727–1788). Он писал преимущественно светских людей, надменных, чопорных, в их пышных нарядах и париках, но в душе он глубоко презирал свет и хранил в себе идеал свободы и естественности. Кое-что от этого идеала проскальзывает порой и в его портретах: в смелом взгляде его людей, в их решительном повороте, в их уверенной осанке (30), и это отличает портреты Генсборо от кокетливого изящества французских портретов XVIII в. (177). Особенно большое значение имеет у Генсборо свободная живописная техника. Он отстаивал ее против защитников гладкого, зализанного письма. Все картины его наполнены свободным ритмом. Кудри, перья, деревья, облака – все как бы пронизано единой могучей волной. Первоначально Генсборо писал, густо накладывая краску; впоследствии живопись его становится более прозрачной.
Вслед за Рейнольдсом и Генсборо на рубеже XVIII и XIX веков возникает школа английского портрета: Ромней создает несколько слащавый тип английской красавицы, шотландец Реберн – портретные образы, полные силы и твердости; он пишет широкими густыми мазками, пользуется резким боковым освещением. Последний из плеяды английских портретистов, Лоренс, в начале XIX века разносит славу английского портрета по всей Европе. Но, баловень судьбы, любимец светских салонов, он растрачивает свое блестящее дарование на поверхностные эффекты и в конце концов разменивает свое высокое мастерство. Английский портрет теряет всякий общественный и идейный смысл. Уже Генсборо, испытывая отвращение к светскому обществу, тянулся к природе и успел создать несколько превосходных пейзажей. Но расцвет английского пейзажа относится уже к началу XIX века.
Искусство XVIII века не составляет такого же неоспоримого по своему значению вклада в художественном наследии, как искусство Возрождения или XVII века. Передовые люди конца XVIII – начала XIX века, страстно желавшие нового, видели в искусстве XVIII века прежде всего признаки вырождения. Впрочем, Гёте в старости с восхищением вспоминал «Стихи на случай» Вольтера. Пушкин, говоря о Вольтере, признавался в «рококо нашего запоздалого вкуса». Конечно, мастера XVIII века в своем большинстве утратили наивное и здоровое чувство жизни более ранних эпох. Многим из них была почти незнакома естественная красота природы. Они не замечали всей глубины трагических противоречий жизни, иссушили сердце в отвлеченностях ума и подменяли воображение игрой остроумия. Они открещивались от Данте, как от варвара, не понимали возвышенной и чистой красоты Рафаэля, могучего и страстного искусства Микельанджело и Шекспира.
Искусство XVIII века утратило свои связи с народом. Оно было тепличным порождением княжеских дворцов, узкой придворной среды, в лучшем случае просвещенных, знатных меценатов. Но все же искусство XVIII века восходило своими корнями к наследию Возрождения. Это была ступень в развитии «большого искусства» Западной Европы. Роскошные дворцы XVIII века с их блистающими позолотой залами, парки с их фонтанами, росписи стен и картины, мебель и костюмы, театр и музыка – все это было порождением единого стиля. Такого единства, созданного самою жизнью, а не умствованиями теоретиков и стараниями ученых археологов, западноевропейское искусство больше никогда не достигало.
Художественные памятники XVIII века создавались не для народа, но их творцами были нередко выходцы из народа. На всех созданиях XVIII века лежит отблеск праздничного, приподнятого чувства, привязанности к красочности, уверенности в том, что жизнь улыбнется тому, кто найдет в ней радость. Этими своими сторонами искусство XVIII века не может не вызывать к себе симпатий.