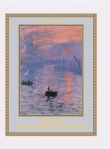Текст книги "Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2"
Автор книги: Михаил Алпатов
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
«Вчера» давно уже умчалось,
быть может, «завтра» не придет,
и лишь в одном «сегодня» радость
бесспорно человек найдет.
Ж.-Б. Руссо, Ода на начало Нового года
Право, было бы лучше ничего не знать, чем знать так
мало и так плохо.
Дидро, Племянник Рамо
В начале XVIII века в Версале еще достраивался большой королевский дворец и завершалось его украшение; в его залах происходили торжественные, пышные приемы. Правда, после смерти Людовика XIV в 1715 году придворные нравы стали более свободными и более расточительна роскошь, но весь жизненный уклад и художественные вкусы оставались непоколебленными. В искусстве царили академики и поддерживали традиции Лебрена. Только тяготение к Рубенсу группы французских художников этих лет свидетельствовало о том, что назревал перелом в искусстве.
В это время во Франции является мастер, наделенный тонким поэтическим чутьем и живописным дарованием – Ватто (1684–1721). Он прибыл в Париж из Валансьена, маленького городка на границе Франции и Бельгии. В Париже он вращался в узком кругу ценителей искусства вроде собирателя Проза и антиквара Жерсена. Он нехотя, по настоянию друзей, представил в Академию картину и получил звание академика, хотя с Академией его искусство не имело ничего общего. В жизни это был человек неуживчивый, склонный к меланхолии. Рассказывают, что он никогда не был доволен своими работами и в припадке неудовлетворенности их уничтожал. Он любил одиночество и был непоседлив. Тяжелый недуг рано свел его в могилу.
Со времен Пуссена во Франции не было живописца равного по значению Ватто. Его мало ценил высший свет, хотя его любимой темой были картины из жизни светского общества, и ему было суждено стать поэтом уходящего «великого столетия». Ватто писал разряженных кавалеров и дам в тенистых парках или среди светлых лужаек. Этот галантный жанр он разрабатывал с удивительной настойчивостью и глубиной. В картинах его обычно ничего примечательного не происходит. Дамы сидят в небрежных позах на траве; перед ними лежат кавалеры, отбросив шелковый плащ, и нашоптывают им слова любви, развлекают их веселыми разговорами. Иногда пары поднимаются и под звуки музыки выполняют изящный танец. Иногда кавалер позволяет себе нескромный жест, и тогда дама решительно его отстраняет. Порой ему удается увлечь свою даму в гущу парка, и оба они стремительно покидают общество. В этом мире Ватто ничто не остается безучастным к любви: даже мраморные богини склоняют головы и с улыбкой снисхождения внимают шепоту влюбленных.
Сами по себе эти галантные кавалеры и дамы с их светскими пустыми разговорами рисуют упадок версальской культуры. Но Ватто был великим художником, тонким поэтом краски. Галантные сцены служат ему всего лишь в качестве метафорических образов для выражения верно угаданного сокровенного трепета жизни.
Прототипы Ватто можно видеть еще у Джорджоне, в частности в его «Сельском концерте» (Лувр), в картинах радостного золотого века, о котором мечтали люди Возрождения. Влечение к подобным образам проявилось еще в средневековых сценках, так называемых «садах любви», где на лужайках среди цветов люди вкушают райское блаженство.
Эта исконная тема западноевропейской живописи получила у Ватто, художника XVIII века, своеобразное истолкование. Нередко среди этого веселого общества появляется фигура одинокого кавалера. Обычно он стоит в стороне от других, погруженный в раздумье, как незваный гость на радостном пиршестве. Но даже когда этого мрачного персонажа не видно, нетрудно догадаться, что сам художник глазами такого меланхолика смотрит на эти галантные сцены.
В картинах Ватто нет безоблачной радости, как во вдохновлявших его «Сельском концерте» Джорджоне или «Саде любви» Рубенса. В мире Ватто незримо разлита незнакомая более раннему искусству тоска, неудовлетворенность. Она влечет художника из открытых мест Версаля в тенистые уголки, где тесно смыкается сень деревьев, откуда едва видна окутанная дымкой даль, откуда особенно заманчивы просветы неба. Радость праздника всегда омрачена у Ватто безотчетным томлением, и это придает его картинам серьезность, смешанную с едва уловимой горькой насмешкой. Светское общество внушало до тех пор художникам одно восхищение. От сына бедного кровельщика не ускользнула его пустота, суета, тщеславие.
Недаром галантные сцены Ватто так похожи на театральные постановки; недаром Ватто, прежде чем создать свой галантный жанр, писал сцены из итальянской комедии и любимыми героями его были Пьеро и Коломбина в их пестрых костюмах, с их уверениями в любви, притворством и изменами.
Самая крупная из галантных картин Ватто – это его «Отплытие на остров Киферу» (два варианта в Лувре и Берлине, 1717). Сюжет ее навеян театральной пьесой, но творчески претворен художником во вполне самостоятельный, глубоко поэтический замысел. Разряженные кавалеры и дамы сидят на пригорке под сенью развесистых деревьев и увитой гирляндами гермы Венеры. Другие уже спустились с пригорка к берегу, где их ожидает золотое судно с резвящимися амурами. Вдали в туманной дымке видны очертания острова, тот счастливый край, куда стремятся галантные пары, чтобы вкусить там истинное счастье любви. Среди театральных картин Ватто самая замечательная – «Жиль» (Лувр) – этот комедиант в белом атласном костюме, внешне спокойный, странно задумчивый, сосредоточенно остановившийся перед самым краем сцены, словно не замечая веселого общества за его спиной.
Как прирожденный живописец Ватто тонко чувствовал цвет. Влечение к колориту в живописи было подготовлено во Франции борьбой «пуссенистов» и «рубенсистов», как называли себя защитники рисунка и цвета. Восторженное отношение Ватто к Рубенсу помогло ему развить свой дар живописца. В теплых, даже горячих по тону картинах он вдохновляется примером фламандского мастера («Суд Париса», Лувр, 1719–1721). В его вспыхивающих красочных фигурках на фоне темных деревьев есть что-то от светотени Рембрандта («Деревенская свадьба», Мадрид). Но в основе своей колорит Ватто своеобразен и неповторим. Его живописи в высокой мере было присуще музыкальное начало; картины его инструментованы, как настоящие симфонии. Он писал их нежными, полупрозрачными красками, предпочитая розовые, голубые, сиреневые и золотистые оттенки. Современники упрекали Ватто за то, что он не чистил палитры, и поэтому будто бы у него не встречается чистых, ярких красок. Между тем вся прелесть живописи Ватто в том, что он строил свои картины на тончайших оттенках. Рядом с ласкающими глаз блеклыми полутонами он нередко бросает более энергичные красочные удары, кладет несколько черных или иссиня-черных пятен, благодаря которым вся гамма выигрывает в глубине и силе. В картинах Ватто цвета то рождаются один из другого, то сопоставляются по контрасту, то складываются в мелодию и порождают живой трепет всей красочной поверхности.
В небольшой картине Ватто «Капризница» (28) представлена удалившаяся из веселой компании пара. Картина задумана в качестве отрывка галантной сцены или комедии нравов. В ней прекрасно проявилась несравненная наблюдательность и правдивость искусства Ватто. Капризница, чуть курносая, с пухлыми щечками, с заплывшими глазками и надутыми губками сидит в своем черном шелковом платье, крепко сжав кулачки, с упрямым выражением, без всякой томности в лице и манерах. За ней, полулежа на плаще, кавалер, видимо, настойчиво ее убеждает либо молча выслушивает ее упреки.
Нужно сравнить бытовую сценку Ватто с картиной какого-нибудь голландца XVII века (ср. 154), чтобы почувствовать, насколько острее характеристика и развитие действия в картине французского мастера. Недаром его интересуют в первую очередь не красивые вещи, не блестящие ткани, как многих голландцев, а характер и мимика людей, почему его зарисовки и напоминают порой литературные портреты в «Характерах» Лабрюйера.
Но зарисовывая мимолетную сценку, Ватто все еще продолжает говорить языком большого искусства. Он выбирает низкий горизонт. Его фигуры выделяются ясными, крупными силуэтами. Кружевное дерево в глубине картины вносит ясность и масштаб в ее построение. В одном из последних произведений Ватто – в «Лавке Жерсена» (Берлин, 1721) – бытовая сценка, вид антикварной лавки друга Ватто, с изящно и остро схваченными светскими типами, любителями искусства, претворен Ватто в произведение, внушительное, монументальное почти, как «Меняны» Веласкеса.
Наблюдательность Ватто, его чисто французская быстрота взгляда блестяще проявилась в его рисунках. В них он выступает как подлинный реалист. Многие зарисовки, сделанные Ватто с натуры, почти без изменений вошли в его многофигурные картины и так хорошо вписаны в них, будто художник, делая набросок с натуры, уже представлял себе во всех подробностях свою будущую картину. В рисунках Ватто перед нашими глазами проходит множество типичных образов людей XVIII века. Он прекрасно владеет средствами социальной характеристики: здесь и крестьяне, и солдаты, и ремесленники, и священник, и, конечно, в первую очередь кавалеры и дамы в тех самых позах, которые мы постоянно встречаем в его композициях. В одном рисунке особенно метко схвачен облик, костюм и решительный шаг турка-слуги, несущего поднос (171). В те самые годы и во французской литературе пробуждается интерес к экзотике (в частности у Монтескье в его «Персидских письмах»). В рисунках Ватто есть и большая правда, и вместе с тем в его фигурах неизменно сквозит изящество почти фарфоровых статуэток. Одной только сангиной с мелом и углем Ватто достигает красочного впечатления.
Ватто был прежде всего крупной художественной индивидуальностью. Но он знаменует также тот перелом во вкусах, который во Франции произошел в начале XVIII века, те поиски утонченного изящества, которые начали намечаться после смерти Людовика XIV, в период Регентства (1715–1723). В начале второй четверти XVIII века новое художественное направление вполне сложилось во Франции. Оно продержалось около полстолетия. Подобно тому как памятники готического стиля легко узнать по заостренным формам, так памятники этого направления можно узнать по своеобразным завиткам в орнаменте, костюме, мебели и рисунке. Это направление называют «рокайль» (раковина), или производным от этого испорченным словом «рококо», или, наконец, «стилем Людовика XV». Но говорить о стиле можно в данном случае не в том смысле, в каком идет речь о стиле готики или барокко. Правда, рококо последовательно проявляется едва ли не во всех видах искусства. Но рококо не было большим и целостным художественным направлением, выражением стройного мировоззрения; это было всего лишь преходящей модой, увлекавшей умы людей в их жажде новизны. Некоторые считают рококо одним из ответвлений стиля барокко.
Излюбленными в рококо раковинами в качестве декоративного мотива пользовались еще Бернини и Борромини (ср. 116). Играющие амуры на фоне ажурной сетки, декорация в духе рококо встречаются еще в XVII веке в той самой зале Версальского дворца, где придворные ждали выхода короля. Сам Людовик XIV, видимо, утомленный неизменным величием всех версальских зданий, требовал в наставлении строителям, чтобы один из павильонов парка не был таким серьезным и чтобы все в нем дышало молодостью. Рококо было вначале одним из направлений французского искусства и лишь потом получило в нем преобладание.
Распространение этих вкусов было подготовлено судьбой дворянства во Франции. В XVII веке, когда правительство крепко держало в своих руках всю власть, дворяне несли государственные повинности и были еще достаточно деятельными. В XVIII веке с развитием буржуазного хозяйства дворянам, которым был закрыт доступ к торговле и промышленности, оставалось только два исхода: либо служить в армии либо «быть представленными» при дворе и составлять свиту короля. Это подготовило почву для постепенного вырождения дворянства. Маркиз Дарженсон еще задолго до революции сравнивал «людей, которые, кроме титулов, не имеют никаких заслуг, с породистыми охотничьими псами, которые, будучи ни к чему не пригодны, должны быть утоплены».
Зато в одном отношении французское дворянство XVIII века преуспевало – в умении устроить себе счастливую и беспечную жизнь. Для этих целей были привлечены все веками накопленные богатства культуры. Даже такой независимый ум, как Вольтер, не мог не поддаться очарованию этой изящной роскоши. В своем стихотворении «Светский человек» (Le mondain) он рисует образ жизни праздного и изнеженного человека XVIII века. Его покои обставлены драгоценными произведениями искусства, многократно отраженными зеркалами. За его окнами виднеется парк с блистающими бассейнами. Его везут в «катящемся золотом доме». Его день проходит в развлечениях: днем он посещает хорошеньких актрис, вечером едет в театр и кончает свой день веселой дружеской пирушкой. Мемуары того времени, жизнь ветреного герцога Ришелье, авантюриста Казановы, письма мадам де Деффан, имевшей блестящий светский салон, дополняют эту картину.
Искусство призвано было служить прежде всего украшением праздной жизни французской знати. Это отличает его от возвышенного, приподнятого искусства века Людовика XIV. Оно должно было стать веселым и развлекательным, недаром Вольтер объявил все жанры хорошими, кроме скучного. Этим определяется, что в XVIII веке такую большую роль играют декоративные искусства. Недаром даже гастрономия, услаждение желудка, возводится теперь в степень большого искусства. Его мастером признается Гримо де ла Реньер, издатель многотомного руководства гурманов. Гастрономический взгляд на мир переносится и в искусство, в частности в живопись. Критики XVIII века мало говорят о художественных идеях и образах в картинах, но охотно смакуют живописное тесто (pâté), приправы (ragouts), жирность и сочность красок. Многие поэты XVIII века, особенно Шолье, автор «Дружеских посланий», своей привязанностью к чувственным радостям жизни напоминают древних эпикурейцев. Впрочем, настроение беспечности чередуется у людей XVIII века с проявлениями холодного равнодушия к миру и рассудочного бессердечия.
Искусство становится в XVIII веке роскошью, произведения искусства – безделушками, главная задача искусства – нравиться. В оценке художественных произведений говорят не о замысле и не об их красоте; главным критерием оценки в искусстве становится хороший вкус. В своем «Опыте о вкусе» Монтескье определяет его как умение открыть с достаточной тонкостью и быстротой меру наслаждения, которую каждый предмет доставляет человеку. Для теоретика искусства XVIII века Батте вкус – это магический ключ к пониманию искусства, которым обладают далеко не все люди. В искусстве мало иметь талант и вдохновение, считается в это время, нужно еще обладать тонким вкусом. Вольтер особенно ценит неуловимую быстроту, живость вкусовых ощущений.

28. Ватто. Капризница. Ок. 1715 г. Ленинград, Эрмитаж.
Но самой главной, отличительной чертой этого искусства XVIII века была его игривость и насмешливость. В XVIII веке писалось много стихов, но истинных поэтов было мало. В стихах ценилось не столько поэтическое чувство, сколько находчивость и остроумие. Кавалер XVIII века прощается со своей дамой, и она посылает ему воздушный поцелуй, но тут же в устах кавалера рождается четверостишие на случай:
Меня не трогает такой подарок:
Отрады сладкой он не дарует устам.
Ваш поцелуй, как плод, тогда лишь сладок,
Когда его срываешь с древа сам.
Французская комедия, начиная с Мариво и кончая Бомарше с его новыми социальными нотками, – это неизменно веселая игра случайностей; в ней больше шалостей, кокетства, чем подлинной любви. Замечательным мастером этого игриво-насмешливого жанра был Вольтер. В своих эпиграммах и в философских повестях он в шутливом тоне ставит под сомнение все человеческие ценности, всю накопленную веками мудрость. Дидро в своем «Жаке-фаталисте» ведет свою игру с читателем, как опытная кокетка: слуга Жак пытается рассказать хозяину соблазнительную историю своих любовных похождений, но автор на самом интересном месте его неизменно прерывает. Легкомыслие и вольнодумство стало модой во французском высшем обществе XVIII века, хотя дворянское безверие сочеталось с суеверием. Впоследствии граф Сегюр говорил о том, что в людях XVIII века «привязанность к преимуществам патрициата сочеталась с влечением к сладкому свободомыслию новой философии». Дидро в своем «Племяннике Рамо» глубоко вскрыл разорванность сознания, распад представлений, «насмешку над бытием» опустошенность человека XVIII века.
Французский дворец середины XVIII века снаружи еще довольно похож на сооружения предшествующего столетия; он сохраняет представительность и важность дворцов века Людовика XIV. Может быть, эта черта была вызвана практическими соображениями господствующего класса. «Не следует выкладывать на прилавок все свои богатства», – говорит теоретик архитектуры XVIII века Блон·дель. Новые формы архитектурных декораций, ракушные орнаменты и вычурно гнутые линии почти не применяются во Франции в фасадах зданий. Попытка архитектора Мейссонье нарушить это положение в фасаде церкви Сан Сюльпис встретила резкий отпор. Только в Германии XVIII века не делается различия между фасадом и интерьером. Во французских дворцах лишь небывалая раньше широкая расстановка тонких колонн (Палэ Руаяль), или мелкий руст, дробящий стену (конюшни в Шантильи, 1719–1735), или, наконец, мягкая закругленность оконных проемов, увитых гирляндами, обнаруживают признаки нового вкуса. Пристрастие к легкости, изяществу и грации сказывается и в пропорциях, к которым был особенно чуток глаз людей XVIII века.
Торжественные фасады дворцов XVIII века были почти не связаны с их планировкой. Это ясно видно в отеле Субиз, отеле де Роан и отеле Матиньон (стр. 259). Архитекторов XVIII века нисколько не смущает, что ось выходящего во двор фасада не совпадает с осью фасада паркового. Здание не воспринимается как единое целое; его нельзя обойти со всех сторон, охватить одним взглядом, как дворцы итальянского барокко (ср. стр. 145). Впечатление распадается на отдельные архитектурные картины. Соответственно этому и внутри теряется нить, связывающая друг с другом парадную анфиладу комнат, несмотря на то, что двери их нередко выстраиваются по одной оси. Отдельные комнаты становятся обособлены и по форме почти непохожи друг на друга: одни из них имеют круглый план, другие – овальный, третьи – квадратный. Строители XVIII века думают не только о роскоши и представительности дворцовых покоев, но и об удобстве. В этих интимных и роскошных дворцах впервые начинают строить теплые уборные. Устраиваются хитрые приспособления для подачи в столовую яств прямо из кухни без стеснительной помощи слуг.
Владельцем отеля Субиз в Париже был князь, прославленный своей расточительностью и пышными выездами. Строителем этого отеля был Бофран (1667–1754). Будучи противником крайностей рококо, он все же придал этому зданию роскошное убранство.
Его овальный зал (173) производит впечатление легкого и грациозного фонаря. Во внутренней обработке его сохраняется наследие ордера, членение стены на три части. Но стены обшиты легкими деревянными панелями (в других дворцах это щиты с натянутой тканью), они скрывают самый массив стены. Правда, внизу эти панели имеют прямоугольную форму; это самая спокойная, устойчивая часть. Отвесно поставленные панели второго ряда ограничены внизу горизонталью, а наверху – полуциркульной аркой. Отрезок стены над ними, соответствующий антаблементу, имеет обрамление причудливой формы и покрыт декоративной живописью Нотуара на тему «История Амура и Психеи». Граница между покрытием и стеной оказывается скрытой многочисленными орнаментами; золоченые орнаменты ярко блестят, и этот блеск еще больше ослабляет массивность стены (один из залов отеля де Тулуз сплошь покрыт золотом).
Золото в этих дворцах не столько служит выражением богатства, сколько привлекает своим блеском и мерцанием. Зеркала становятся в XVIII веке любимым украшением стен; нередко они ставятся одно против другого и дают бесконечное множество отражений, кокетливо передразнивающих друг друга. Внутреннее пространство маленького, интимного салона расширяется до безграничности, но расширение это обманчиво, как в поздних помпеянских росписях (ср. I, 105).

Куртон. Отель де Матиньон. План. 1721. Париж.
Нужно себе представить торжественные приемы в этих дворцах XVIII века, зажженные огни, многоцветные наряды, многократно, как эхо, отраженные зеркалами, звуки оркестра, наполнявшие залы, чтобы понять, что вся жизнь этих праздных людей превращалась в нечто феерическое, действительность обращалась в сказку. Архитектурный образ XVIII века как бы складывается из обманчивых отражений, реальность подменяется чем-то кажущимся, и это отвечает всему мировосприятию той поры. Недаром в романах в письмах, которые имели в XVIII веке широкое распространение, характеристика самых событий нередко подменяется впечатлениями от них отдельных людей («Опасные связи» Шадерло де Лакло).
В убранстве интерьеров французских дворцов XVIII века еще заметны следы былой строгости форм. Когда же французская знать, разорившись, почти прекратила большое строительство, французские мастера, среди них Кювилье (1695–1768), двинулись в Германию. Здесь декоративное искусство рококо достигает особенно бурного расцвета. В живописном парке Нимфенбурга, близ Мюнхена, разбросаны небольшие павильоны Амалиенбург (1734–1739), Баденбург с его зеркальной столовой, сплетенной из золотых нитей, и Пагоденбург с его легкими ширмами в китайском вкусе.
В то время как в Париже рококо уже выходило из моды, в провинции, в Нанси, строится площадь Станислава; в ней можно видеть своеобразное перенесение в градостроительство приемов интерьера рококо (стр. 261). Площадь образует овал, окруженный колоннадой, сливающейся с фасадом дворца. Вся она задумана как игрушечное подобие площади св. Петра (ср. стр. 151). Длинная аллея, так называемый променад, обсаженная деревьями, тянется от овальной площади к площади, образующей в плане квадрат. Между ними находятся триумфальные ворота и узкая насыпь через ров. Выходы на улицу ограничены железными решетками, тонко и ажурно обработанными, почти как стены интерьеров (174); они не замыкают площадь, как массивные решетки перед римскими дворцами (ср. 114), но всего лишь условно обозначают ее границы. Столбы заменены ажурным плетением железных прутьев; строгость вертикалей сочетается со струящимся ритмом растительного узора. В сопоставлении с римской решеткой, с ее тяжелыми столбами, особенно ясно бросается в глаза, что в искусстве французского рококо, в его ажурности, живут традиции поздней французской готики (ср. I, 194). Но возвышенная одухотворенность готических форм претворена в рококо в одухотворенное, но легкомысленное изящество.
Роль декоративного искусства в XVIII веке неимоверно возрастает даже в сравнении с веком Людовика XIV. Искусство входит в самую жизнь людей, окружает их каждодневность, ласкает и радует их глаз. Но знатные люди, которым это искусство призвано было служить, были недостойны его, потеряли жизнеспособность, действенное отношение к жизни, и это не могло не отразиться на искусстве. Потребность в предметах роскоши создала во Франции огромную отрасль художественного производства, поставила ее на первое место среди других стран. Во Франции работало множество замечательных столяров, литейщиков, ювелиров, ткачей, вышивальщиц, лепщиков, и они из поколения в поколение передавали секреты своего мастерства. Их создания несут на себе печать тонкого вкуса как настоящие произведения искусства; недаром мебель нередко подписывалась именами мастеров.
Излюбленные декоративные мотивы рококо – это раковина, стебли и цветы (стр. 263). В этих деталях, как солнце в капле, отражается весь капризный ритм искусства того времени. Здесь прежде всего сказывается необыкновенная свобода, произвол в обращении с заимствованными из природы мотивами. Раковины сплетаются со стеблями, усеяны цветами, вздымаются пенистой волной. Ощущение предмета от этого значительно слабеет. Самый контур носит очень причудливый характер: ни в одном другом орнаменте не нарушается так часто симметрия, как в орнаменте рококо. В движении линий чувствуется беспокойный ритм: стебли изгибаются сначала в одну сторону, потом неожиданно склоняются в обратном направлении; ритм то убыстряется, то замедляется. Эти неожиданности придают орнаменту рококо особенно игривый характер. Здесь вспоминаются любимые в XVIII веке менуэты о их чинным, плавным движением, перебиваемым резкими поворотами расходящихся или сходящихся пар, с вензелями, которые руки и ноги кавалеров и дам рисуют на паркете и в воздухе.
В отличие от торжественно-величавой люстры XVII века (ср. стр. 247) бра XVIII века (стр. 265) вплоть до каждого изгиба своих линий полно изысканного изящества и грации. Бра сплошь составлено из лепестков, его подсвечники – это цветы. Предмет как бы превращается в растение, но это не создает обмана зрения, тем более что выполнено бра из блестящей бронзы. Это скорее игра, притворство, остроумная шутка, вроде кудахтающей курицы в музыке у Рамо. Недаром и самые лепестки и стебли подчиняются неизменно танцовальному ритму рококо. Кажется, что художники XVIII века забыли простую истину, что прямая есть кратчайшая между двумя точками; они предпочитают изогнутые, волнистые линии, закругленные очертания.

Эре де Корни. План площадей и дворца 1773-75 гг. Нанси.
Консольные столики этого времени (180) – это настоящие чудеса обработки дерева; впрочем строения самого дерева здесь совершенно не чувствуется; оно подчинено сложному ритму стеблей и раковин, такому же, как и в лепных работах. Можно подумать, что мастера рококо делали все возможное, чтобы уничтожить самую мысль о законе притяжения: столик имеет всего лишь две ножки, и потому кажется неустойчивым, тем более, что ножки его подогнуты, и в нем незаметно противопоставления несущих и несомых частей. Весь столик образует как бы замкнутое кольцо, оказывающее сопротивление давлению сверху.
Особенно ясно проявились вкусы рококо в креслах и кушетках середины XVIII века (176). Недаром прославленный поэт той поры Кребильон сделал героем своей поэмы софу – свидетельницу многих забавных приключений. Естественно, что кресла не имеют торжественного характера кресел-тронов времен Людовика XIV (ср. 175). В кресле XVIII века человек чувствует себя более непринужденно и свободно: оно шире, просторнее, спинка больше откинута назад соответственно потребностям человека. Нередко два кресла вместе составляют кушетку, в которой можно удобно лежать и которая располагает к неге и сладкому безделью. Гнутые линии таких кресел полны игривости и изящества, порой некоторой причудливости. Впрочем, их форма продиктована не простым произволом, в них есть и юношеская грация, и гибкость, и даже сила; их линии «пружинят», обладают упругостью и потому художественно оправданы.
В XVIII веке больше, чем когда-либо еще, костюм, особенно женский, становится произведением искусства. Недаром одевание светской дамы выглядело как настоящее священнодействие. Чтобы оценить все своеобразие костюма XVIII века, необходимо оглянуться на его развитие в прошлом. Костюм древности состоял в основном из хитона и плаща, в сущности цельных, едва скроенных тканей, накинутых на тело и падающих естественными складками (ср. I, 8). Каждое мгновение можно было от него освободиться, сбросить его, и это давало свободу человеческому телу. Конечно, такая свобода и простота костюма была возможна под благодатным небом Греции. Но все же природа не имела решающего значения в формировании костюма. Недаром в эпоху поздней античности (ср. I, 115), особенно в императорском Риме, ткани стали тщательно укладывать, одежда приобретала самостоятельный рисунок, появлялся шлейф как след плавного движения фигуры (1,98). В средние века костюм, особенно пышный и нарядный при бургундском дворе в XV веке, плотно облекая тело, вместе с тем образует вокруг женской фигуры подобие ореола: здесь и сверкающие белые крахмальные чепцы, и взбитые рукава, и длинные, волочащиеся по земле шлейфы; исконные свойства ткани насилуются, им сообщается причудливо фантастическая форма (ср. 94). Этот костюм отличается от античного, как готический собор от периптера. Впоследствии, в эпоху Возрождения и в XVII веке, все богатство тканей, перьев и кружев снова начинает служить выражением личности: основные членения костюма, прежде всего талия, соответствуют строению человеческого тела (ср. 142). Эта «гуманистическая основа» костюма сохранилась вплоть до XVIII века, но только все его формы приобрели преувеличенный характер.
Светская женщина должна была выглядеть как неземное, хрупкое создание и вместе с тем как источник радости для мужчин (как это совершенно серьезно утверждается в «Опасных связях» Шадерло де Лакло). Огромные фижмы, целое сооружение из китового уса, стеснительное для движения, придают платью сходство с раскрывающимся цветком, из которого выглядывает затянутый «в рюмочку» стан и маленькая, соблазнительная ножка. Ясные, прямые линии костюма сменяются любимыми в XVIII веке изгибами: декольте образует овал; его обрамляют пышные, как пена, кружева. Прическа украшается перьями, волосы пудрятся, щеки румянятся. Костюм рококо многократно подвергался справедливым нападкам за его непрактичность, но его привлекательность не подлежит сомнению. Недаром один из тонких рисовальщиков XVIII века Моро Младший (1741–1814) в серии гравюр Monuments du costume (178) увековечил не столько картины нравов и быта, сколько моды и костюмы своей эпохи.
Мужской костюм не уступает женскому в своей нарядности и придает мужчинам женоподобный облик. Он состоит из широкого незастегивающегося камзола, из которого выглядывала богатая, вышитая шелком жилетка, кружевное жабо и манжеты, коротких штанов, чулок и туфе, ль с пряжкой. Мужской костюм шился из таких же цветных тканей, как и женский. Предпочитались нежные оттенки голубого, розового, светлозеленого, лимонножелтого. Л. Толстой высмеял одно из действующих лиц «Войны и мира» за то, что тот по моде XVIII века собирался шить панталоны «цвета бедра испуганной нимфы».
Вольтер с горечью замечал пристрастие XVIII века ко всему миниатюрному. Но эта страсть становилась нередко источником поэтического вдохновения. Мы обязаны отчасти ей очаровательными поэмами английского поэта Бернса, посвященными потревоженной плугом мышке или маргаритке. В искусстве эта любовь к изящным мелочам содействовала расцвету ювелирного искусства и фарфора. Фарфор проник во Францию из Китая еще в XVII веке; XVIII век извлек все выгоды из этого материала, допускавшего тонкость форм, какой мы не находим даже в терракотах (ср. 1, 98, 99).