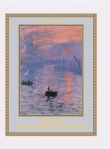Текст книги "Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2"
Автор книги: Михаил Алпатов
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)
Самым губительным для жизни Академии была задача выработать строгие нормы прекрасного. В этом отношении, возможно, образцом для академиков служил Буало, который в своей «Поэтике» (1674) дал кодекс поэтического вкуса, сведя его к требованию подражания природе, соответствию разуму и следованию античным образцам: «Тот, кто работает по правилам, создает хорошее искусство». Самого Буало в его стихотворном творчестве порой спасала его природная живость и остроумие, но и это не помогло ему стать настоящим поэтом.
В области изобразительных искусств поиски нормы вылились в особенно нелепые формы. В 1675 ГОДУ был опубликован «Table de Préceptes» – свод правил живописи. Вскоре затем Роже де Пиль в своем сочинении по двадцатибальной системе выставил отметки различным великим живописцам: Микельанджело получил по композиции 8, по рисунку 17, по цвету 4; Лебрен – по композиции 16, по колориту 8; Рембрандт – по композиции 15, по рисунку 6, по колориту 17 и т. д.

27. Клод Лоррен. Ациси Галатея. 1657 г. Дрезден, галерея (до 1941-45 гг.).
Сами академики умели рисовать и хорошо усвоили многие художественные навыки и приемы классической живописи. Но среди них не оказалось ни одного мастера подстать великим живописцам XVII века. Вдохновитель и диктатор академии, первый живописец короля Лебрен (1619–1690) был способным организатором и талантливым декоратором. Об этом свидетельствуют выполненные по его рисункам многочисленные серии тканых ковров, так называемых гобеленов, производство которых при Людовике XIV было поставлено на широкую ногу (1667). Лебрен мог бы стать неплохим портретистом, но от большинства его живописных композиций, будь то религиозные сцены либо декоративные росписи, прославляющие Людовика, веет нестерпимой скукой и надуманностью. Еще никогда в истории не было сосредоточено столько умения и мастерства в руках художника, до такой степени лишенного подлинного творческого вдохновения, как Лебрен.
Наследник Лебрена, его конкурент и противник Пьер Миньяр в период диктаторства Лебрена должен был ограничиваться писанием портретов. Ему выпала на долю честь писать Мольера (Лувр), но большинство его портретов приторно слащаво. Живописный темперамент порой проскальзывает в произведениях ван дер Мейлена, любимого баталиста Людовика XIV, но его картины сражений не содержат и малой доли той неподкупной правды, которая сквозит в гравюрах Калло. Лишь Ларжильер (1656–1746) и Риго (1659–1743) составляют счастливое исключение: в их портретах больше живописного темперамента, хотя оба мастера могут считаться создателями парадного портрета эпохи Людовика XIV. Люди в этих портретах взирают с неизменно холодной улыбкой, держатся натянуто, фигуры утопают в блестяще выписанных тканях, бархате, шелке и парче. Хотя оба портретиста обнаруживают порой большую остроту взгляда, они уступают Бернини, Рубенсу, ван Дейку. Французские живописцы не создали столь живые образы современных людей, какие были увековечены замечательнейшим писателем эпохи Лабрюйером («Характеры» 1688).
Век Людовика XIV оставил после себя наследие наиболее крупного исторического значения в области дворцового и паркового строительства. Прототипы французских парков следует искать в роскошных садах при загородных виллах римских магнатов XVII века. Во Франции еще в первой половине XVII века Лемерсье закладывает основы нового стиля в огромном дворце Ришелье с примыкающим парком и правильно распланированным городом.
Ближайшим прототипом Версаля был дворец в Во ле Виконт (1657–1660), воздвигнутый для всесильного тогда министра финансов Фуке. Строителем дворца был Лево; парк разбивал Ленотр; декоративные работы были выполнены Лебреном. Самый дворец напоминает Мезон-Лафитт, но в его центре расположен такой же обширный овальный зал, как в дворцах барокко, и залы его составляют сквозной ряд, так называемую анфиладу. Снаружи несколько выпирает в середине дворца тяжелый купольный зал, по краям высятся две чисто французские башни. Весь фасад обработан большим ордером, объединяющим два этажа. С подъездной стороны к дворцу примыкает обширный почетный двор, окаймленный службами. В сторону парка дворец спускается террасами к открытой площадке, партеру, с ясно подчеркнутой средней осью и дорожкой, которая ведет к далекому гроту-холму, увенчанному статуей. В Во ле Виконт была сделана попытка использования приподнятого архитектурного языка барокко и подчинения его строгому порядку.
Полное осуществление этой задачи было под силу только французскому абсолютизму. В роскоши дворца и парка Во ле Виконт Людовик усмотрел посягательство на привилегию монарха. Фуке был низложен, его мастера призваны ко двору и привлечены к строительству новой резиденции в Версале.
Версаль стал главным архитектурным памятником французского абсолютизма, как Эскуриал был главным памятником абсолютизма испанского. Но в Испании XVI века дворец должен был слиться с монастырем и храмом. В резиденции французского короля идея государственности получила полное преобладание. Версаль служил не только резиденцией французского короля, он был задуман в качестве архитектурного памятника, в котором новый стиль жизни и новое мировоззрение были выражены с наибольшей полнотой и ясностью. Этой задачей были оправданы огромные затраты правительства и весь широкий размах версальского строительства. Со времени римских императоров впервые в руках одного государя были сосредоточены такие огромные средства, и они позволили в сравнительно короткий срок возвести дворец и разбить парк неслыханно обширного масштаба. Это содействовало тому, что Версаль приобрел образцовое значение не только для Франции, но и для всей Европы.
Строительство Версаля было делом не только архитекторов, но и техников-строителей, инженеров. Требовалось осушить болота, проложить дороги, провести воду в бассейны – во всем этом проявились успехи французского просвещения XVII века. Неограниченная власть, сосредоточенная в руках руководителей работ, позволила придать версальскому строительству характер цельности и единства.
Первоначальный дворец (первая половина XVII века) подвергся значительным изменениям: он был в 1661–1665 годах расширен Лево (около 1612–1670) и достроен в 1679 году Ардуеном Мансаром (1646–1708). Тогда же Мансаром был построен в стороне от главного дворца Большой Трианон – одноэтажный дворец с розовой колоннадой. Здесь король искал уединения от шумной версальской жизни. Самый парк был разбит Ленотром (1613–1700). Его первоначальная разбивка была подвергнута изменению. При всем том в основе Версаля лежит одна идея, один замысел, какого в XVII веке не знала архитектура других стран.
Королевский дворец служит средоточием всей архитектурной планировки Версаля (стр. 243). В этом одном ясно выражена государственная идея, руководившая создателями Версаля. Ко дворцу непосредственно примыкает почетный двор, перед ним расположен другой, более открытый двор. С площади от дворца расходятся веером три проспекта: средний ведет в Париж, два других – в королевские дворцы в Сен Клу и Со. По бокам от этих проспектов раскинут город Версаль с его правильной сеткой улиц и площадей. Со стороны дворца глаз легко охватывает три лучевых проспекта; это как бы три гонца, устремленных в разные концы государства. Низкие конюшни на площади перед дворцом не закрывают этих проспектов тем более потому, что дворец немного возвышается над округой.

Ленотр. Планировка Версальского парка. После 1670 г. (По гравюре 18 в.).
Средняя часть дворца образует в плане букву П (стр. 245). Средоточием дворца служила спальня короля, выходящая в квадратный двор. Здесь к утреннему вставанию собирались знатные люди Франции. Для того, чтобы в нее попасть, нужно было пройти через ряд богато украшенных, парадных зал. Послы поднимались по мраморной лестнице с ее широкими ступенями и должны были обойти весь дворец, прежде чем они достигали апартаментов короля или королевы. Залы эти, как в дворцах итальянского барокко, были выстроены в ряд и составляли утомительные анфилады.
Самой большой среди, них была Мраморная галерея, построенная Мансаром (1678). Она достигала 79 м длины и была покрыта богато расписанным коробовым сводом; ее окнам на одной стороне отвечали зеркала на другой стене. Они поразили даже венецианского посла, свидетеля одного праздника. «В большой галерее, – пишет он, – зажигались тысячи огней, и они отражались в зеркалах, покрывавших стены, в бриллиантах кавалеров и дам. Было светлее, чем днем; красота и величие блистали, точно во сне или в заколдованном царстве».
При всем том строители Версаля стремились сделать каждый зал ясным и обозримым по своим формам (168). Стены многих версальских зал покрыты были мраморными плитами строго геометрической формы с квадратами, прямоугольниками и кругами, обрамленными белыми поясами. Полуциркульные оконные проемы были разбиты сеткой оконных переплетов. Огромные версальские интерьеры с их багетными потолками, скульптурными украшениями на стенах, богатой декорацией и тяжелыми люстрами должны были производить давящее, нежилое впечатление. Это особенно бросается в глаза по сравнению с современными им уютными интерьерами голландских домов (ср. 154).
Со стороны Мраморного двора фасад сохранил черты архитектуры начала XVII века: здесь можно видеть чередование кирпича и тесаного камня и башни, увенчанные крутыми кровлями. Парковый фасад был заново обработан Мансаром и сильно вытянут по горизонтали; только его средняя выступающая часть слегка нарушала плоскость (167). Его нижний цокольный этаж был обработан рустом; второй этаж был расчленен пилястрами и ритмически выступающими портиками; верхний этаж с небольшими окнами служил аттиком, но был легче, чем в зданиях барокко (ср. 114). Строго горизонтальная кровля дворца как новшество резала глаз современников, привыкших к французским крутым кровлям (ср. 158). Злые языки говорили, что дворец похож на здание с обгоревшим верхним этажом. Зато вытянутость по горизонтали позволяла лучше связать дворец с парком и со всей планировкой.
Парк был самым замечательным украшением Версаля. Особенная красота его заключалась в широкой обозримости. С балкона дворца, откуда его любил рассматривать король, он открывается взору во всей красоте и правильности своего плана (стр. 243). Прямо перед дворцом лежали два блистающих, как зеркала, бассейна. В отличие от дворца и перегруженного украшениями интерьера, в планировке парка чарует безупречная чистота и ясность форм. От главной террасы парк отлого спускался во всех трех направлениях: слева от дворца шла стоступенчатая лестница с краю оранжереи; вид замыкала вдали огромная масса воды Швейцарского озера. Отсюда особенно красивое зрелище представлял дворец с его выступами и оранжерея, задуманная, вероятно, самим Ленотром, с ее величественно простыми формами арок и рустом (167). Такой величавой простоты, такого простора не знала итальянская парковая архитектура XVII века (ср. стр. 147). Направо от главной террасы шла тенистая аллея к бассейну Дракона и к фонтану Нептуна. Главное зрелище открывалось по прямой оси от дворца, служившей продолжением улицы от Версаля к Парижу: с главной террасы лестница спускалась к фонтану Латоны; оттуда шла окаймленная деревьями королевская аллея к фонтану Аполлона; все завершалось большим каналом, почти сливавшимся с горизонтом (166). Весь версальский парк своей протяженностью достигал около 3 км. В летние вечера солнце садилось в большой канал, совсем как на картинах Лоррена.

Ардуэн Мансар. Дворец. План. Ок. 1670-80 гг. Версаль
В разбивке версальского парка не могло быть и речи о подражании Италии. Итальянские сады XVII века с их громоздящимися массами задуманы как эффектное театральное зрелище (ср. 122). Наоборот, французский парк, полнее всего выявившийся в Версале, отличается прежде всего логической ясностью и простотой своих соотношений. Большое единство придавало Версалю то, что все богатство и многообразие материалов, из которых он выполнен, было выражено в строго геометрических формах. Мрамор зданий, листва деревьев, вода каналов и бесчисленных фонтанов – все это было ограничено строгими плоскостями, имело форму кубов, конусов, цилиндров и других геометрических тел. Даже размещение статуй подчинялось этому порядку.
В этом сказался тот математический строй мышления, который в начале XVII века отстаивал Декарт и который постепенно проникал во все области французской культуры. Но в Версале не было ничего надуманного, рассудочного; формы мышления претворены были здесь в простейшие художественные образы. В сущности, в основе Версаля лежала смелая метафора, уподобление огромного, как мир, дворца и парка сказочному царству логики и порядка вроде тех идеальных утопических городов, о которых только на бумаге мечтали зодчие Возрождения. Поэтическое зерно Версаля понимали и современники и потомство: впоследствии Версаль сравнивали с гомеровским эпосом.
Версальский дворец и парк были населены не только шумной блестящей толпой придворных, обитателей дворца; в Версале было уделено особенное внимание скульптурному убранству. На каждом шагу здесь высятся статуи, гермы, вазы с рельефами. Вся скульптура, почти как в готических соборах, проникнута одной идеей. Прославление короля, принявшего кличку короля-солнца, становилось здесь прославлением молодости и красоты бога Аполлона, то выезжающего на колеснице из воды (166), то отдыхающего среди нимф в прохладном гроте. Иносказание разрасталось в огромную аллегорическую систему. Каждый образ, каждое понятие находило себе выражение в одном из персонажей древней мифологии, в мраморной статуе, укрытой в тени зеленой чащи парка; реки Франции были представлены в виде прекрасных нимф или бородатых мужей. Это была последняя в Западной Европе попытка выразить современные понятия в образах человекоподобных богов. Естественно, что сюда проникло много нарочитого, надуманного, но нередко отдельные мотивы давали ростки подлинной поэзии.
Не нужно представлять себе, что строгая регламентация вкусов при французском дворе могла сразу задавить всякое выражение творческой жизни и свободы. При дворе развился дар Расина, художника тонких душевных переживаний, в Версале ставились комедии Мольера, исполненные живости и боевого общественного смысла. Чопорность придворного этикета не могла убить поэтического дара простодушного, как дитя, Лафонтена.
Жирардон (1628–1715) в своей прекрасно уравновешенной группе Аполлона отдает дань влечению века ЛюдовикаХ1У к величавому, немного холодному благородству. Зато его рельеф «Купающиеся нимфы» (160) полон необыкновенной свежести и силы. В этих женских телах много грации и неги, свободы и естественности, и в этом они не уступают нимфам Рубенса или Пуссена (ср. 163). Тонкая лепка форм и их сочность сочетаются с тем безупречным пониманием композиции, которое после XVII века становится непременным свойством каждого большого французского мастера. Здесь предвосхищены мотивы и настроения, которые в дальнейшем многократно разрабатывались французскими художниками вплоть до Ренуара.
Версаль привлекал к себе главное внимание художественных сил Франции XVII века. Это было любимое детище Людовика XIV. Но строительная деятельность не прекращалась в XVII веке во всей Франции. Абсолютная монархия уделяла большое внимание градостроительству. Еще в начале столетия Декарт в своем «Рассуждении о методе» неодобрительно отзывался о старых городах, выросших по воле случая, а не «по замыслу разумного человека». В градостроительстве XVII века это требование разумности получило особенно последовательное выражение.
Это время было ознаменовано крупными достижениями в области техники: были усовершенствованы машины для подъема камней, были построены прямые, прекрасно мощеные дороги; больших успехов достигло строительство мостов. В области крепостной архитектуры прославился инженер Вобан. Перестраивались старые города. Париж украшался рядом новых площадей, в частности площадью Людовика XIV (ныне Вандомской) и Площадью побед. Первая образует в плане квадрат со срезанными углами, вторая – круг. В центре каждой из них высились конные статуи. Их окружали со всех сторон здания, выстроенные согласно наперед принятому плану. Здесь нет выделения одной стороны площади, ее фасада, как в итальянских площадях барокко, и это хорошо связывает французскую площадь со всем городом. Но все же памятник, прославляющий короля, был в центре внимания, здания служили ему окружением. В этих площадях много чувства меры, характерного для всей французской архитектуры XVII века.

Канделябр. Кон. 17 в. Дворец Фонтенбло.
В Париже Ардуен Мансар возводит огромный ансамбль – так называемый Инвалидный дом с собором, подобием собора св. Петра в Риме (1693–1706). Правда·, французский собор легче и стройнее по своим пропорциям, и в этом дает себя знать наследие готики. Строгая геометричность его граней отличает его от сочных по формам итальянских храмов XVII века. Париж украшается огромными воротами Сан Дени (1671–1672), построенными Блонделем; в них ордер приносится в жертву потребности подчеркнуть геометрическую правильность формы. Ворота образуют квадрат с аркой посередине, обрамленной двумя плоскими обелисками. Главные членения основаны на отношениях простых чисел. Во всех этих зданиях сказывается своеобразие французского архитектурного стиля XVII века.
Сложение французского вкуса ясно проявилось в строительстве восточного фасада Лувра. Несмотря на наличие во Франции собственной архитектурной традиции, Кольбер обратился за проектом в Италию. В Париж был вызван Бернини, осыпан милостями, и по его проекту начата постройка (1665). Но после отъезда итальянского мастера работы были приостановлены и затем переданы Клоду Перро (1613–1683), хотя он занимался архитектурой как любитель и был по профессии врачом. Возможно, в отказе от проекта Бернини сыграли роль удачно пущенные в ход интриги его французских соперников. Но решающим было то, что в этих проектах столкнулись разные вкусы, глубоко чуждые друг другу принципы итальянской и французской архитектуры XVII века.
Лувр Бернини был задуман наподобие итальянского дворца эпохи барокко, прежде всего как обособленный объем. В здании сильно подчеркнут массив стены и выступающих ризалитов, едва сдерживаемых сочными полуколоннами, тяжелый карниз, отбрасывающий глубокую тень, наконец, сосредоточение ритма к центру, выраженное расстановкой колонн. Все было здесь немного преувеличено, патетично, но полнотой своих форм здание производило впечатление чего-то живого и органического.
Перро вслед за Бернини ставит большой ордер на массивный цокольный этаж (170). Чрезмерно вытянутые парные колонны, образующие перед стеной пространственную оболочку, и боковые ризалиты, похожие на павильоны, восходят к исконно французским традициям. Но все эти заимствования сложились в создании Перро в форму нового архитектурного языка. Весь огромный вытянутый вширь фасад стал плоскостной ширмой, причем его средняя часть слабо подчеркнута. Пучки колонн по бокам от среднего ризалита, парные пилястры боковых ризалитов не нарушают унылого однообразия всего ряда колонн.
Но самое главное – жизненная полнота, закругленность отдельных форм, которые так чаруют в зданиях Возрождения (ср. 70) и даже в повышенной степени присущи архитектуре барокко (ср. 116), уступили место холодной надуманности, подавляющей торжественности и сухости. В пропорциях восточного фасада Лувра Перро строго следовал соотношениям целых чисел и настойчиво подчинял соотношения всех форм математическому расчету.
За архитектурным образом Палладио стоит образ возвышенного, идеального человека. В восточном фасаде Лувра этот образ человека принесен в жертву холодной доктрине, отвлеченному понятию государственного порядка.
Сравнение восточного фасада Лувра с более полной, сочной и благородной по формам оранжереей Версаля (ср. 167) показывает, как богата и разнообразна была эта эпоха. Однако именно решение Перро приобрело наибольшее значение для дальнейшего развития архитектуры: на него ориентировалась официальная архитектура Западной Европы XVIII–XIX веков. Лувр стал образцом казенных зданий в европейских столицах. Обладая большой величавостью, восточный фасад Лувра долго привлекал к себе внимание и вызывал восхищение потомства, хотя величие его носит заметный отпечаток академизма в духе Лебрена. Особенно высокого мнения о Лувре были современники. Считалось, что именно здесь достигнута античная красота. Эта ступень французской архитектуры вошла в историю искусства под названием классицизма XVII века.

Маскароны. Конец 17 в. Дом на площади Вандом. Париж.
Гораздо значительнее были достижения Франции в области декоративного искусства. Даже во время расцвета искусства Возрождения в Италии не вкладывалось столько творческих усилий и изобретательности в предметы, обслуживающие быт человека, как во Франции в XVII веке. Отныне художественное творчество должно было отвечать каждодневным потребностям людей. В быт стали проникать поэзия и вкус. Впрочем, чопорность придворных нравов при Людовике XIV наложила свой отпечаток и на произведения декоративного искусства: они кажутся не столько предметами быта, сколько утварью, предназначенной для торжественного обряда. Каждое кресло этого времени напоминает величественный трон (175). Оно снабжено огромной слегка изогнутой спинкой, массивными ручками и внушительными ножками. Это кресло властно призывает человека держаться прямо, торжественно на нем восседать. Гладкая бархатная обивка выделяет его ясные формы, только бахрома придает ему некоторую нарядность. Такое кресло прекрасно вяжется со всем характером версальского интерьера, не нарушает его строгих форм (ср. 168).
Даже в мелких предметах, из которых складывается интерьер XVII века, вроде подсвечника, так называемого бра, сказывается характер этого искусства (стр. 247): здесь ясно выражено, как боковые чашечки подчиняются главной, как завершена каждая отдельная чашечка, как каждое блюдце похоже на большую вазу. Это время стремилось и мелким предметам придать сходство с монументальными произведениями. Самое выполнение чекана, резьба и инкрустация достигают большой высоты.
В этом сказалось благотворное действие на декоративное искусство того внимания, которое государство оказывало вопросам художественного производства. Пример Лебрена, руководителя декоративных работ в Версале, имел широкое влияние. Вещи изготовлялись по рисункам мастеров, высокая техника сочеталась с пониманием материала, с тонким и изысканным вкусом, со строгой стильностью замысла, хотя и в этих превосходных по выполнению предметах дают о себе знать черты академизма.
Бронзовый рельеф работы знаменитого придворного мастера Людовика XIV Буль – группа Аполлона и Дафны (169) – задуман как тонкая по лепке и ясная по формам классическая композиция, хотя этот рельеф служит всего лишь украшением комода и сливается своими линиями с причудливыми завитками орнамента. Весь он отличается исключительной ясностью замысла, между тем в нем, как и во всем декоративном искусстве этого времени, замечается перегруженность, которая в конце концов приводит к утрате благородной простоты предметов эпохи Возрождения (ср. 54). Вместе с тем в XVII веке из орнамента исчезает изобретательность более раннего времени, привычка взвешивать и уравновешивать каждую частность сковывает свободу творчества орнаменталистов.
Порой в декоративное искусство XVII века пробивается свежая струя. Правда, в маскаронах, украшающих дома на площади Вандом (стр. 249), нет такой жизненной полнокровности, как в лице сатира Иорданса (ср. 140). Они более благообразны, сдержанны, чем страшные маски Пюже (ср. 161). Но эти улыбающиеся головы сатиров очень различны по своему выражению и характеру мимики; в них тонко подчеркнута благопристойная насмешливость и остроумие, которые так ценили французы того времени, называя непереводимым словом «esprit». В этой связи невольно вспоминаются образы басен Лафонтена, его звери, степенные и рассудительные, как люди «великого столетия». Лафонтен с очаровательным юмором пересказал древнюю сказку о Психее (по-русски Душеньке). Каждое происшествие, каждый поступок, которые в древнем сказании передаются без особых объяснений, истолковываются французским автором то рассудительносерьезно, то с милой, грациозной насмешливостью. Человеческое сознание как бы поднимается над жизнью и взирает на нее с чувством собственного превосходства. Это мировосприятие оказало глубокое воздействие на дальнейшую судьбу искусства во Франции.
Историческое значение французского классицизма огромно. В XVII веке Италия, имевшая до тех пор ведущее значение в европейском искусстве, передала свое знамя первенства Франции. В самой Италии художественное творчество постепенно иссякало. Германия изнывала от последствий Тридцатилетней войны. В Англии пуританское движение мало благоприятствовало ее художественному развитию. Испания клонилась к упадку. Даже Фландрия и Голландия к концу XVII века подпали под французское влияние.
Во Франции наиболее полно были выражены новые взгляды, порожденные эпохой сложения больших абсолютистских государств. Этим объясняется широкое влияние французского искусства повсюду. Версаль становится образцом для мелких княжеств и королевств Европы. Французское влияние покоряет Германию, оно сказывается в XVIII веке и в далекой России, в частности в планировке Петербурга– прекраснейшего из европейских городов того времени. Французское влияние проникает и в Англию, хотя основы английской архитектуры были положены последователями Палладио. Даже сама Италия не могла уберечься от этого воздействия: дворец в Казерте с его парком несет на себе ясный отпечаток стиля Версаля.
Оценивая французское искусство XVII века как художественное наследие, следует различать в нем две стороны. Сложение абсолютной монархии во Франции наносило сильный удар лучшим традициям гуманизма; силу этого удара испытали на себе многие передовые люди той эпохи. Недаром Декарт еще в первой половине столетия искал убежища в Голландии, Лабрюйер в конце его тосковал о человечности, изнывал при дворе, где люди, по его словам, полированы, как мрамор, и суровы, как камень. В искусстве гибельно сказалась та регламентация, которую принес с собою абсолютизм, использование искусства для прославления королевской власти, напыщенный художественный язык, который в тот век называли la grande manière. Все это ограничивало, порою убивало живое творчество, подменяло искусство мастерством, поэзию – эффектной риторикой.
Впрочем, не следует забывать, что создание централизованного государства выдвинуло в XVII веке Францию на первое место. Недаром еще Спиноза мечтал о государстве, которое могло бы воплотить все интересы индивидов (хотя, конечно, не в формах монархии Людовика XIV). Во всяком случае стремление к этому внесло во Францию ту высокую дисциплину духа, ту серьезность, то чувство ответственности личности, какой не знала Италия XVII века. Даже Буало, этот апостол чопорных вкусов «великого столетия», говорит о правде (le vrai) как одной из главных задач искусства. Правда, и во Франции XVII века были поэты, не уступавшие в велеречивости итальянскому поэту XVII века Марино. Но ни в одной другой стране не было таких строгих стилистов, как Ларошфуко, Лабрюйер, мадам де Севиньи, с их ясностью, простотой и естественностью слога.
Особенной заслугой французского искусства было создание больших художественных ансамблей. Французские строители XVII века решали задачи, которые были не под силу ни мастерам Возрождения, ни создателям итальянского барокко. Конечно, между французским искусством первой и второй половины XVII века было большое различие. Но, как ни далек от Пуссена Лебрен и от Франсуа Мансара Перро, все же искусство времен Людовика XIV вобрало в себя многие достижения эпохи Пуссена и передало их последующим поколениям.