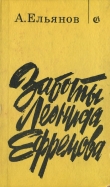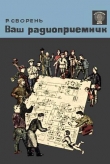Текст книги "Теперь всё можно рассказать. По приказу Коминтерна"
Автор книги: Марат Нигматулин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 32 страниц)
Так вот. Началось всё ещё в двенадцатом году, когда Боженко только-только завела свою корпорацию. Именно тогда она стала вывозить принадлежащих ей рабов на собственную дачу.
Дача эта находилась в одном из местных посёлков. Обычная была дача. Ничего выдающегося. Шесть соток земли и хлипкий домишко.
Хозяйство там у Тони наладить не получилось. И места слишком мало, и посторонних глаз больно много.
Поэтому решила Тоня, что надо бы ей куда-нибудь подальше от людей перебраться – и там уже хозяйство налаживать. К тониному же счастью неподалёку оттуда находились сразу две заброшенные деревни. Вот одну из них, – ту, что подальше, разумеется, – рабы и начали постепенно заселять.
Заселять они её стали где-то в мае тринадцатого года. Что можно было отремонтировать, – то отремонтировали. Что надо было построить, – построили. Не сразу, конечно, построили. Москва ведь тоже не сразу строилась. Но за пару лет всё что надо там возвели.
Происходило заселение примерно так. Каждый божий день рабы в Москве поднимались ни свет ни заря. Затем они все разбредались по рынкам и магазинам, на собственные деньги закупались там стройматериалами, продуктами питания и всяким туристическим скарбом.
Всё это богатство они на родительских машинах, пригородных электричках и, разумеется, собственных горбах тащили на тонину дачу. Ту, которая находилась в упомянутом ранее убогом посёлке.
Там у них располагалась перевалочная база.
Каждое утро на эту самую базу приходили те рабы, которые, пользуясь относительной теплотой погоды (дело было всё-таки летом тринадцатого) постоянно жили в заброшенной деревне. Они брали всё то, что им привезли из Москвы, – и тащили это богатство к в деревню. Тащить было неблизко. А главное – путь пролегал через леса и болота. Впрочем, до пункта конечного назначения привезенные ценности почти всегда доходили. В деревне рабби производили ударное строительство. При этом, конечно, использовались доставленные из Москвы материалы.
Работали они там воистину как рабы. На галерах.
Рабочий день начинался нередко в четыре утра, заканчивался – в десять вечера. Труды их, однако, окупились. К сентябрю тринадцатого года самые основные работы были закончены. Теперь на даче можно было зимовать.
Осень прошла более-менее нормально. Даже несмотря на то, что к тому моменту уже начался учебный год, и многие рабы были оторваны от своей основной деятельности, – на даче всё равно постоянно находилось некоторое количество энтузиастов, работавших стахановскими темпами.
Тогда, кстати, и возникла бригадная система. Об этом я, кстати, в книге писал и раньше, – там, где описывал беседу Нины Ивановны с Тоней Боженко. Но мало ли. Вдруг вы забыли.
К декабрю месяцу был достроен роскошный особняк, предназначавшийся для Тони Боженко и её присных. Собственно, этот самый дом и находящиеся вокруг него хозяйственные постройки у нас и стали называть сначала новой дачей (в противовес старой, – той, что находилась в посёлке), затем тониной дачей, а потом и просто дачей. Что же касается старой дачи (её, кстати, ещё называли отцовской, так как Тонькеона от отца досталась да и на него же записана), то её, как уже было сказано, сперва превратили в перевалочный пункт, а потом и вовсе на какое-то время забросили.
Оно и понятно: жители посёлка были совсем не в восторге от того, что рядом с ними постоянно пребывает шумная толпа сильно пьющих малолеток. Ну, Тоня тогда и решила, что лучше не рисковать. А то мало ли, – вызовут ещё полицаев, разбирайся с ними потом.
В пятнадцатом году, однако, в посёлке непонятно с чего вдруг приключился пожар. Хотя нет. Нашим-то всем было очень даже понятно, с чего это он там приключился, но вот сами жители о наличии антониновского следа тогда не задумались.
Почти у всех тогда имущество выгорело дотла. Остались только тонина дача да ещё пару домишекчужих на окраине посёлка. Тоня тогда за сущий бесценок у погорельцев участки по шесть соток скупила. Весь посёлок по факту ей во владение перешёл. Оформила она всё, понятное дела, на подставных лиц. Нечего самой светиться где не надо.
Ну, а тех, у кого дома по недосмотру сотрудников «Убойного отдела» не сгорели, – тех эти самые сотрудники ещё целый год терроризировали. То в сортир дачный дрожжей насыпят, то огород ночью керосином зальют. Пару раз даже в открытые форточки дымовухи неугодным забрасывали.
Короче, в шестнадцатом году съехали из посёлка последние жители. Дома свои бросили. Даже продавать не стали.
Ну, с тех пор, понятное дело, первая, историческая, так сказать, тонина дача снова была заселена. Правда, она всё равно в итоге так и осталась перевалочным пунктом по дороге на главную, – новую дачу.
Однако вернёмся к делу.
Новый 2014 год Тоня встретила, как ей и хотелось, в собственном дворце.
Боженко, правда, тогда ещё у себя на даче надолго на оставалась. Практически целый год (с мая тринадцатого по май четырнадцатого) она провела в постоянных разъездах между Москвой и дачей.
Оно и понятно: за рабами глаз да глаз нужен. Только отвернёшься, – мигом дело загубят, сволочи.
Поэтому Тоня в те времена нигде дольше черна неделю её оставалась. Приехала, допустим, на дачу. Фронт работ разметила, приказы необходимые отдала, ответственных назначила, – и срочно уже в Москву ехать надо.
В Москве бухгалтерский отчёт о потраченных деньгах проверила, список необходимых к покупке материалов указала, где что покупать обозначила, – и снова на дачу время ехать.
Так у неё и прошёл весь год в разъездах.
Даже Новый Год в жуткой спешке встречали. Приехала Тоня на дачу тридцатого числа. Второго уже уехала. Приезжала она тогда, кстати, не одна. С рабами первой категории приезжала.
Рабы в те времена тоже обычно на даче не задерживались. Они приезжали на дачу бригадами, проводили там свои несколько дней, после чего возвращались назад в Москву.
Это касалось большинства рабов. Но было ведь ещё и меньшинство…
Меньшинство это было объединено в так называемую временную зимнюю бригаду. Туда Тоня специально отобрала самых выносливых.
Вот это были люди! Просто сверхлюди какие-то!
Вообще вся эта зимняя бригада была сформирована вот почему. На тот момент рабовладельческая корпорация была ещё достаточно бедной. Из всех транспортных средств у Тони была одна лишь только старая «Газель», которую постоянно приходилось ремонтировать.
Поэтому, собственно, рабам частенько приходилось добираться на дежурство своим ходом. А это ведь было непросто. Там сначала на электричке ехать надо. Потом на ходящем по сельским дорогам автобусе ехать. Потом ещё по лесам и болотам несколько часов пёхом чапать.
А главное, – на даче ведь после такого пути ждёт не отдых, тяжелая работа.
После выполнения которой придётся возвращаться в Москву тем же самым путём. Короче, Тоня тогда боялась, что рабы тупо поленятся своим ходом ездить к ней за тридевять земель для того, чтобы вкалывать до седьмого пота, а заставить она их никак не сможет.
В этом она, кстати, ошиблась: заставить это делать она их очень даже смогла.
Но боялась она также и того, что широким рабским массам станет известно о местоположении всего этого её хозяйства. Поэтому добираться к ней своим ходом она позволяла лишь особо надёжным рабам. Притом от каждого она требовала принести клятву о том, что он ценные сведения никому не разгласит даже под пытками.
Никто, что интересно, так за все эти годы информацию и не разгласил. Рабы у нас, помню, страшно гордились тем, что они знают, где находится дача. Это очень поднимало их в глазах сотоварищей.
В ноябре месяце, однако, то, что заставить ленивых рабби батрачить всё-таки получится было ещё совсем не так очевидно. Поэтому Тоня и решила учредить ту самую временную зимнюю бригаду.
Этим людям было поручено следующее: они должны были провести всю зиму на даче. И притом не просто провести. На протяжении всего того времени, пока они будут там находиться, – они должны ударно были работать.
И да, под зимой Тоня понимала отрезок времени с ноября по апрель.
То есть по факту несчастные были вынуждены провести в тяжелейших, воистину каторжных условиях полгода.
А ведь всем членам этой самой зимней бригады было тогда по двенадцать-четырнадцать лет. А знаете, что здесь самое интересное?
А то, что эти люди возложенную на них миссию выполнили!
Вот поэтому я и говорю: воистину сверхлюди.
Вот вы только представьте себе такую картину. Настоящая русская зима. Много снега. Сугробы в человеческий рост. Буран изо всех сил дует. Видимость почти нулевая. Едва-едва только можно разглядеть где-то вдалеке мрачные очертания дикого леса. И вот посреди всего этого какие-то двенадцатилетние шкеты. Одеты они несуразно: подобранные не по размеру рваные ватники советских времён, дутые лыжные штаны, явно слишком большие для них валенки, ушанки, толстые шерстяные шарфы, закрывающие от холодного ветра рты и носы. В руках эти молодые люди плотно сжимают стальные кирки. Означенными кирками они бодро долбят окаменевшую отколола землю. Котлован роют.
Вот оно самое!
Эти люди превосходно знали, на что идут. Они ведь могли не вступать в рабство. Могли остаться дома и спокойно валяться там целыми днями на мягких диванах, лопать шоколад килограммами и вообще наслаждаться жизнью.
Однако они по собственной своей воле отправились чёрт знает куда для того, чтобы выживать там в экстремальных условиях, затягивать пояса от голода, батрачить едва ли не до потери сознания да и вообще всячески умерщвлять там плоть.
Да, родители их тогда обливались слезами. Естественно, они ведь ничего им про своё мероприятие не сказали.
В школе почти у всех членов бригады были большие проблемы. Оно и понятно: они ведь пять месяцев не посещали занятий, а возвратились с дачи ближе к концу учебного года.
Конечно, многие из них тогда отморозили пальцы на руках и ногах, почти все заработали себе грыжу и ревматизм.
Но знаете? Им всем было глубоко на это всё наплевать. Они просто исполняли свой долг. Они решили: вот другие пусть как хотят, но мы-то уж свой долг исполним до конца, – а дальше хоть трава не расти.
Они ведь все тогда едва не подохли от холода и голода на этой проклятой даче. Едва не подохли, – но всё же остались живы. И даже не просто остались живы. Они ведь за зиму ещё очень много всего успели построить.
Впрочем, про то, что остались живы, – это я уж погорячился. Двое из них всё-таки умерли во время зимовья.
Похоронили их на опушке леса. Рядом друг с другом. На их могилах были установлены деревянные католические кресты. К каждому кресту были аккуратно прибита деревянная табличка. На каждой из этих двух табличек красовалась сделанная чёрной масляной краской кривоватая надпись: «Der Arbeiter».
Помню, Егор Щедровицкий, один из участников всей этой зимней эпопеи, мой большой и давний друг рассказывал мне однажды про то, как проходили похороны первого их погибшего товарища. Он говорил, что когда его бездыханное тело ужа опустили на дно могилы, то они решили, что было бы хорошо вложить в его руки кирку и похоронить его вместе с ней. Поначалу все эту инициативу поддержали, но потом решили, что кирка гораздо больше пригодится живым для того, чтобы продолжить то великое дело, ради которого они все здесь собрались.
Это меня, честно говоря, немного поразило.
Но ещё больше меня поразило то, что смерть товарища вовсе не вызвала среди зимовников ни страха, ни тем более отчаяния. Напротив, после того, как погиб их первый товарищ (а случилось это в середине января четырнадцатого года), – они все коллективно решили, что ежели численность их уменьшилась, то значит и работать они теперь должны больше.
И за себя, и за умершего товарища. И они стали работать больше. Аналогичную же реакцию вызвала и смерть второго их коллеги. Он отдал богу душу в начала марта всё того же четырнадцатого года.
К настоящему моменту из всех членов временной зимней бригады в живых остались только двое. Это Илья Барышев и Егор Щедровицкий.
Что до остальных, – то двое из них, как я уже сказал, умерли во время зимовья, а ещё десять погибли в будущие годы. Из этих десяти – восемь умерли от производственных трав, полученных ими на тониной даче в последующие годы, или же от вызванных непосильной работой болезней. Один погиб на дуэли. Ещё один повесился.
Илья Барышев, даже несмотря на подорванное во время зимней эпопеи здоровье, – смог в итоге стать офицером «Убойного отдела». У Тони он, однако, не остался. Когда Барнаш покинула корпорацию, – он оказался в числе тех, кто ушёл вместе с ней. Вместе с Соней и другими её людьми он разбойничал на федеральных трассах, грабил банки, выбивал из неплательщиков долги и вообще отлично проводил время. Потом, когда в нашу школу пришли поганые флики, – он решил, что хватит ему уже быть разбойником. Пора становиться городским партизаном! И тогда он (опять же вместе с Барнаш и всей компанией) начал взрывать банковские учреждения, убивать прокуроров и похищать фээсбэшников.
Соня Барнаш потом перебралась на Украину. Воюет сейчас в каком-то добровольческом батальоне (она их уже несколько успела переменить).
А вот где сейчас находится Барышев, – никто толком и не знает.
Егор Щедровицкий сделался в конечном итоге одним из авторов «Журнала патриотического школьника». Себя он зарекомендовал как талантливый репортёр (его работы – самая что ни на есть настоящая гонзо-журналистика) и очень способный публицист. Он мне много раз обещал, что напишет когда-нибудь книгу о своей ледяной эпопее, но про то, как продвигается эта его работа я пока ничего не знаю. Не знаю даже, где сейчас находится Щедровицкий.
Очень плохо будет, если он эту книгу не напишет. Лучше него этого дела никому уже не выполнить.
Я ведь вам сейчас поведал лишь в самых общих чертах обо всём этом великом приключении. Даже мне, человеку, который сам там не был и ничего подобного в жизни не испытывал, – известно столько подробностей о тех событиях, что я и сам бы мог написать о них книгу.
Впрочем, это уже потом. Нет, замечательные это всё-таки были люди, – зимовники. Честные, стойкие, самоотверженные. Таких нынче мало.
В последующие годы, разумеется, тонина дача продолжала достраиваться. Были выстроены казармы для рабов различных категорий, сразу несколько рабских бань, сараи и склады, хлева для скотины, оружейные и бомбовые мастерские, арсенал, цеха по изготовлению поддельных произведений искусства, теплицы, в коих выращивались наркотические растения, нарколаборатория и винокурня, папиросная фабрика и чёрт знает что ещё.
Вокруг тониного особняка были разбиты пусть и не гигантские, но всё же отнюдь не маленькие сады.
Поскольку водопровода в той местности отродясь не было, – для снабжения дворца водой пришлось возвести самый что ни на есть настоящий акведук. Почти как в Древнем Риме. Строился он, кстати, довольно долго: с осени четырнадцатого до весны шестнадцатого года.
Были вырыты искусственные водоемы с проточной водой (их создание – вообще отдельная история). В них запустили рыбу.
К восемнадцатому году дача разрослась до таких размеров, что на ней с лёгкостью можно было разместить полторы тысячи человек одновременно. Впрочем, там редко когда находилось больше пятисот рабов одновременно. Теперь это было весьма и весьма доходное хозяйство.
Жаль, про большую часть дачных строений я вам поведать уже не успею. Не успею я также и рассказать про особенности тамошнего быта. Об этом обо всём придётся нам с вами поговорить как-нибудь в другой раз.
Скажу только про папиросную фабрику. Я просто упоминал её настолько раз в текста, а потому надо было бы объяснить, что это вообще такое. Пусть даже и в формата справки.
Так вот, папиросная фабрика – это был такой большой и страшно зловонный барак. Стоял он в отдалении от прочих дачных строений.
Оно и понятно: вонь от него была ещё хуже, чем от выгребной ямы. Раз в десять хуже, честно говоря.
А всё потому, что в этом бараке с утра до ночи только и делали, что крутили цигарки. Точнее, их там не только крутили, но и просушивали ещё. От этого, правда, легче никому не становилось. Становилось только тяжелее.
Цигарки там, разумеется, делали не обычные, но изготовленные по моему собственному рецепту.
А производство это невероятно вонючее!
Смрад от него стоял такой, что все нормальные рабы старались за сотню метров обходить папиросную фабрику. Только чтоб не дышать ядовитыми испарениями.
Трудились на фабрике рабы седьмой категории. Вообще, для тониного раба не было более страшного наказания, чем оказаться сосланным работать на папиросную фабрику. Провинившиеся нередко пытались покончить жизнь самоубийством, чтоб только избежать отправления на это её предприятие.
Денис Кутузов однажды, помню, зашёл из любопытства посмотреть, что же в том зловонном бараке такого интересного делается. Вот только он в барак вошёл, – так сразу же и потерял сознание. Полчаса Ден в сознание не приходил. Но даже когда пришёл, – всё равно потом ещё недели две головными болями мучился.
Вот какой вонизм стоял на папиросной фабрике!
Впрочем, батрачившие там рабы за некоторое время успевали к чудовищной вони привыкнуть. Но здоровье у них от такой работы всё равно летело капитально. Случалось, что три месяца работа на фабрике молодой и здоровый парень превращался в обременённого целым букетом хронических болезней инвалида.
Да, ужасное это было место, – папиросная фабрика.
Те, кто её прошёл и остался в живых, говорили мне, что это был самый настоящий адрес на земле и что ничего худшего они в своей жизни и представить не могут. Один даже говорил, что ему после фабрики ничего уже не страшно. Самое страшное, дескать, уже познал.
Несмотря на всё это, фабрику Тоня, разумеется, закрывать и не думала. Торговля изобретенными мною сигарками приносила ей весьма солидные барыши.
Фабрика, впрочем, была на даче не единственным источником жуткой вони. Была ведь ещё и выгребная яма.
Пользовались ей, понятное дело, не все. Рабы первой и второй категорий жили в тонином доме, а потому пользовались тёплыми ватерклозетами. Пусть и самодельными.
Рабы третьей, четвёртой и пятой категорий пользовались типичными для российских дач туалетами. Устройство такого туалета представить нетрудно: глубокая яма, а поверх неё стоит унитаз. Ну, и каморка какая-нибудь вокруг унитаза возведена. Чтоб не так холодно и стеснительно было.
Что же касается рабов шестой и седьмой категорий, – то эти были вынуждены ходить к выгребной яме.
Яма было просто феерическая.
Это была инфернального вида дыра в земле. По форме своей она была круглой и напоминала ни то воронку от бомбы, ни то лунный кратер. Диаметр её был равен семи метрам, а глубина – пяти.
На три метра своей глубины яма была заполнена грунтовыми и дождевыми водами, человеческим навозом, различными нечистотами и мусором.
Думаю, вы догадываетесь, какой от всего этого хозяйства шёл смрад.
Поскольку же Тоня этот вонизмтерпеть не хотела, – она велела по периметру ямы высадить плотной стеной высокие туи и можжевеловые кусты. В результате этого, как вы понимаете, подойти к яме было весьма затруднительно.
Теперь главный вопрос: как выгребной ямой пользовались? Ответ очень прост. Сперва надо было подойти к яме. Затем следовало отыскать среди туй небольшой проход, через который средний человек мог бы протиснуться. После, собственно, через этот самый лаз проникнуть к яме. Деревья, однако, стояли к вонючему озеру столь близко, что вы никак не смогли бы сесть на край ямы для отправления естественных надобностей. Поэтому теперь необходимо было встать на тоненькую досточку, перекинутую на другой берег зловонного водоема. По этому мосту требовалось пройти несколько метров. Тогда вы оказывались над самым центром ямы, в двух метрах от поверхности её содержимого. Теперь необходимо было расстегнуть и спустить штаны, аккуратно присесть на корточки, справить естественную нужду, после чего снова подняться самому, поднять и заново застегнуть штаны. Затем оставалось лишь пройти по тонкой доске обратно к туям и покинуть уже наконец это странное место.
Всё это, как вы понимаете, не очень-то просто.
Поэтому, собственно, на даче постоянно происходили ситуации примерно такого содержания. Какой-нибудь раб шестой категории вздумал посреди ночи сходить в сортир. Ну, отправился к яме. Шёл наш уже себе по досточке в туалет – и тут столкнулся с другим рабом, который по той же самой досточка шёл из туалета. Оба, естественно, падают с двухметровой высоты в яму.
Освещения-то возле ямы никакого отродясь не бывало. Ночью там как бочке темно было. А берега-то у ямы были высокие (два метра, как я уже говорил), отвесные, градусов под девяносто, и, что самое печальное, очень и очень скользкие. А жижа внутри ямы густая была. Особо не поплаваешь. Выпрыгнуть тоже едва ли получится.
Словом, выбраться из ямы без посторонней помощи было практически невозможно.
Да и докричаться до кого-то нелегко: вокруг вон живая изгородь в несколько метров.
Случались поэтому и такие истории. Один раб пошёл посреди ночи нужду справить. Сел уже, значит, на досточку, – и тут из глубины ямы как выпрыгнет кто-то да как схватит его за штаны. Тот, что сидел, разумеется, перепугался до смерти да в яму чертанулся. А пока летел – ещё успел тому, кто хватал, на голову кишечник свой опорожнить. Так эти товарищи вдвоём до утра в яме и плавали.
Чаще, впрочем, случалось так, что кто-то уже свалившийся в яму вдруг начинал слышать, как некто другой уже идёт по тонкому мостику, – и начинал что есть мочи орать. От жуткого, разрывающего кромешную темноту крика шедший по досточкепугался, терял равновесие и падал в яму.
Ещё чаще стучалось так, что кто-то просто делал в темноте неверный шаг – и оказывался вынужденным до самого ветра купаться в зловонной жиже.
Хотя почему обязательно в темноте?
Случаи последнего рода и днём регулярно случались.
Так, про дачу основные сведения я сообщил. Скажем теперь пару слов про «Журнал патриотического школьника».
Увы, поведать про то, как я с этим печатным изданием сотрудничал и какие статьи туда писал – сейчас никак не представляется возможным. Время моё почти истекло. Рассказать об этом я просто не успею.
Но вот про сам журнал сказать пару слов, конечно, надо.
Начиналось это всё как эдакий школьный бюллетень. Едкий, злобный, ёрнический и вообще откровенно тролльский бюллетень. Создан он был для издевательства над нашей школьной администрацией.
Кто обычно писал туда? Да кто толко не писал! В основном из средней школы ребята да из старшей немного. Ну, и плюс Сергей Александрович размещал там изредка свои неофашистские статьи да высмеивающие трудовичку пасквили. Он, кстати, и в последующие годы активно с журналом сотрудничал. Даже сейчас остаётся одним из постоянных его авторов.
Поначалу бюллетень был совсем тонкий. Первые выпуски были всего-то листов по десять.
Потом издание стало приобретать популярность. Читатели начали присылать свои материалы. Каждый следующий выпуск делался толще предыдущего. Очень скоро количество листов выросло до пятидесяти, а потом и до сотни на выпуск. Росли также и тиражи. Если поначалу бюллетень печатали на домашних принтерах в десяти-пятнадцати экземплярах, то очень скоро стали делать по сотне копий каждого выпуска. И если сперва это всё печаталось нерегулярно, от случая к случаю, – то со временем журнал стал выходить строго каждую пятницу.
В конце концов редакция, до этого находившаяся в квартире Артамонова, – переехала в отдельный гараж, обзавелась парой десятков принтеров и собственной переплетной мастерской. Журнал стали делать профессионально.
Тиражи подскочили до пятиста, потом до тысячи, а после и до двух тысяч экземпляров. В каждом выпуске стало насчитываться теперь не менее сотни листов.
Процесс было не остановить. К осени девятнадцатого года в каждом выпуске насчитывалось уже не менее трёх сотен листов, а тираж подскочил до трёх тысяч экземпляров.
Полиграфическое исполнение журнала, правда, никогда особо не блистало. Иллюстрации, напечатанные либо так тускло, что разобрать ничего невозможно, либо такими кислотными цветами, что от их созерцания в прямом смысле слова болят глаза. Злоупотребление всякими диковинными шрифтами в заголовках. И, разумеется, то, что теперь почитается за эдакую фишку сего прекрасного издания, – набор всех без исключения материалов (кроме тех, авторство коих принадлежит Тоне Боженко) шестым вордовским шрифтом через один интервал.
Кстати, электронной версии у журнала не было и нет. И обзаводиться ею журнал не собирается.
А ведь подписка на него отнюдь не дешевая! Один номер стоит пять тысяч рублей. Месячная подписка обойдётся в двадцать тысяч. Годовая – вообще страшно подумать во сколько.
Но ведь подписываются же на него! И не было ведь ещё никогда такого, чтоб весь тираж свежего номера не разошёлся в первый же день без остатка.
Так, о форме я уже сказал. Теперь поговорим о содержании.
Журнал это, конечно, был тот ещё.
Жуткая смесь «Лимонки» и «Космополитана».
Писали там, конечно, о всяком, но больше всего авторов занимала разная маргинальщина.
И тут надо отметить, что главным редактором журнала на протяжении всей его истории был Виталий Артамонов. Ну, тот самый шкет, который некогда создал и возглавил «Удар русских богов во имя мира и справедливости».
Поэтому, собственно, журнал поначалу и развивался как проударовское издание.
Потом, как известно, Боженко приручила «Удар». Ну, а вместе с ним она, конечно, приручила и «Журнал патриотического школьника». К четырнадцатому году он окончательно превратился в тонино корпоративное издание.
На качестве материалов, это, однако, сказалось не сильно.
Впрочем, я ведь ещё не сказал, о чём обычно писали в том журнале.
Строгой, чётко оформленной структуры выпуска у журнала никогда не было. Но некая неформально поддерживаемая схема, по которой обычно строился выпуск, тем не менее присутствовала.
Чаще всего журнал открывался довольно-таки подробным изложением новостей нашей школьной жизни.
Порядок этот нарушался лишь в том случае, если Тоня публиковала какое-то своё новое указание. Тогда официальный документ помещался в журнале на первые же страницы. Новости уже следовали после него.
Если же никаких указаний Тоня не публиковала, – тогда новостные материалы помещались в самое начало журнала.
В статьях самого разнообразного объема и формы рассказывалось о последних событиях нашей школьной жизни. Кто с кем спит, кто кому задолжал, кто кого отверткой пырнул. Ну, и так далее.
Затем шли крупные, иногда на три десятка страниц статьи политического характера. Посвящались эти статьи, как нетрудно догадаться, более или менее важным политическим событиям, произошедшим в мире за последнюю неделю. Освещались там все события, разумеется, с точки зрения ультраправой конспирологии.
Честно говоря, пытался сейчас подобрать какое-нибудь сравнение для этих интереснейших писаний. Ну, чтоб вы знали, на что это всё было примерно похоже. Так вот, – не получается. Это ни на что похоже не было.
Подробно я обо всей этой публицистике расскажу как-нибудь в другой раз. Сейчас у меня на это просто нет времени.
Сразу после пропагандистских материалов ультраправого толка следовали авторские колонки. Людей, которые за всю историю журнала удостаивались чести иметь там свои собственные колонки, – вообще-то достаточно много. Всех я, понятное дело, называть здесь не буду. В разные годы свои колонки имели Юлька Аввакумова и Света Солнцева, Витька Артамонов и Ден Крыса, Сергей Александрович и Екатерина Михайловна, Илья Заболоцкий и Макс Дубровин, Миша Морозов и Егор Щедровицкий.
Эх, как же жалко, что про многих из них я вам как следует рассказать не успею! Ничего, теперь только в следующей книге.
За авторскими колонками располагались литературные произведения. Чаще всего они были политического, эротического или же политико-эротического содержания. Почти всегда эти рассказы сопровождались порнографическими иллюстрациями. Как правило это было очень жёсткое порно.
Далее уже помешались всяческие материалы культурного содержания. Или, точнее, антикультурного.
Чаще всего это были написанные в назидательном тоне статьи, где настоящему школьнику объяснялось, что он должен есть и пить, как он обязан выглядеть, где и как ему лучше всего отдыхать и, самое главное, как ему следует заниматься сексом.
Дальше следовали репортажи. Чаще всего это были отчеты о том, как хорошо (или, напротив, совсем не хорошо) прошла оргия в квартире такого-то и такого-то трушника.
Впрочем, нередки были и репортажи с каких-то посторонних событий. С очередного навальновского митинга, к примеру, с антиправительственной конференции, с какого-нибудь сектантского сборища или из петербургского наркопритона.
Чаще всего такие репортажи заканчивались смачными рассказами про то, как репортёр был избит до полусмерти за провокационное поведение.
Вот, помню, весной семнадцатого на проходившие тогда навальновскиемитинги послали одного нашего репортера. Так он там сначала запустил пивной бутылкой в толпу полицаев, а потом передрался с митингующими. В результате был избит и теми, и другими. Едва в живых парень остался.
Зато материал потом написал очень хороший.
Потом следовали интервью. Чаще всего это были записанные разговоры репортера с какими-то особо заслуженными трушниками. Обычно – его ближайшими друзьями. Трушники, естественно, в таких интервью беззастенчиво пиарили самих себя.
Впрочем, бывало, что нашим удавалось опросить кого-то и впрямь интересного: привокзального бомжа, работающего по поддельному диплому сельского учителя, занимающегося к тому же ростовщичеством, напрочь спившегося и потерявшего человеческий облик бывшего полицая, разорившегося в девяносто восьмом бывшего нового русского, мирно теперь торгующего газетами возле метро. Ну, или ещё кого-нибудь в том же духе.
Кстати, многие из этих людей сделались в итоге большими друзьями нашей школы. О некоторых из них я вам, наверное, ещё расскажу в своих следующих книгах.
Затем следовали письма читателей. Вот это была умора!
Чаще всего читатели в своих письмах рассказывали о тех удивительных событиях, которые приключились с ними недавно под пьяную лавочку. Ну, и не только под пьяную.
Дальше обычно следовали всякие там рецепты и полезные советы вроде тех, что можно почерпнуть из «Поваренной книги анархиста» или «Азбуки домашнего терроризма».
В конце номера обычно размешалась колонка юмора. Юмор там обычно был ниже плинтуса. В основном там печатались всякие пошлые анекдоты в духе Петросяна. Один из них приведу ниже. Просто чтоб вы представить могли, какого уровня там был юмор.