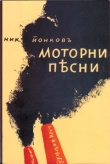Текст книги "Я помню детсво, России край заснеженный (СИ)"
Автор книги: Лариса Мамонтова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 31 страниц)
Семье Мамонтовых:
папе – Федору Григорьевичу,
маме – Валентине Григорьевне,
брату – Владимиру Федоровичу
п о с в я щ а е т с я
От автора
Прожитая жизнь не дает мне покоя. События, встречи, разговоры стучат в моей голове и просят выхода. Ими перегружена моя память. Я поняла давно: это должно быть запечатлено на бумаге. СЛОВО – вот что поможет мне, и слово я могу оставить на память.
С чего начать? С воспоминаний самых дорогих и ярких – воспоминаний о семье, в которой я выросла, о детстве, юности. Мои дорогие родители были главными героями этого отрезка моей жизни, и мне хочется высказать всю ту благодарную любовь к ним, которую я, может быть, не сумела выразить им при их жизни. Таким образом я воздам им должное. В моих мыслях они всегда со мной, и эта автобиографи-ческая повесть поможет мне ощущать их совсем рядом. Это нужно мне самой, это нужно и моим близким.
Человеку свойственно осмысливать свою жизнь. Говорят, жизнь – это не те дни, которые прошли, а те, которые запомнились. Запомнилось многое, и все хотелось описать, дойти «… до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины…». Мысленно я проживала каждый год заново с той поры, с какой себя помню – лет с четырех, с пяти. Иначе виделись свои промахи, недоработки, мотивы поступков людей, окружавших меня. Возникали новые версии в толковании каких-то событий. Но излагала я преимущественно факты, ибо в своем прошлом, как и в истории вообще, отчетливо видятся факты, мотивы же и последствия можно переосмысливать. Книга охватывает 27-летний период – с послевоенных лет и до начала годов 70-х, на который пришлись мои молодые годы. Данное повествование – это желание сохранить прошлое, не забыть себя прежнюю. Все, что прошло, оно со мной. Я храню это в памяти из уважения к своей семье, к традициям своего народа, к стране, в которой я родилась и выросла. Книга не есть подробная хроника или летопись жизни семьи, скорее это – этюды о детстве и юности, о становлении личности и подготов-ке к самостоятельной жизни и труду. Но, думаю, что описанный опыт жизни семьи, в которой я выросла, достаточно хорош и поучителен. Я до сих пор восхищаюсь этой семьей и считаю ее лучшей в своей жизни. Низкий поклон и благодарность моим родите-лям! Им, а также дорогому моему брату посвящается эта книга.
Лариса Федоровна Мамонтова
Эту повесть, начатую 14-го марта 2005г., я пишу издалека. Издалека по времени, десятками лет отделяющему меня от описанных событий. Издалека географически: с другого континента, из другой страны, другого города. И сейчас, глядя на чужую землю, я вижу себя маленькой девочкой в далеком суровом снежном краю, где я выросла, где была прожита большая часть моей жизни. Имя этому краю – Дальний Восток России, земля, открытая отважными первопроходцами и путешественниками. Город моего детства – Хабаровск – носит имя одного из них – Ерофея Павловича Хабарова.
Пусть не в обиде на меня будет другой российский город – Чита, где 17-го июня 1945г. родилась я. Спустя год, наша семья переехала в Ташкент. Там жила почти вся папина родня. Родители рассказывали, что среднеазиатский климат не подошел мне, и вскоре мы переехали в Хабаровск, теперь уже поближе к родственникам по маминой линии, жившим на железнодорожной станции, недалеко от Хабаровска. В Чите, к сожалению, побывать больше не пришлось.
Хабаровск, как, наверное и каждый город России, сильно преобразился за минувшее полустолетие, особенно, как пишут мне мои институтские подруги, в последние годы. Сооружен автомобильный и пешеходный мост через реку Амур, появились великолепные соборы и храмы, новые жилые районы, дорожные развязки, построен цирк и многое другое. Гордо возвышается над Амуром легендарный Утес – визитная карточка города. Как и в мою бытность, о городе можно сказать словами популярной среди дальневосточников песни композитора Д. Покраса на слова Б. Южанина:
«Ты сердцу и близок и дорог,
Далекий таежный наш край.
Растешь ты, родимый наш город,
Цветешь ты, как солнечный май.
Широкий Амур тебя нежно ласкает
Своей голубою волной.
Хабаровск, амурский красавец,
Хабаровск, наш город родной!»
Но в те далекие времена, годы моего детства – послевоенные 50-е, 60-е – город имел весьма скромный вид, а его окраины, застроенные частными домами, круглыми глиняными бараками, выглядели и вовсе бедно. На одной из таких окраин, именуемой Слободка Карла Маркса, находился наш дом. Улица наша носила имя героя Гражданской войны – Сергея Лазо. Весь этот район располагался за Железнодорож-ным вокзалом.
Улица С. Лазо, беря свое начало у вокзала, некруто спускалась в овраг, разрезавший едва ли не всю территорию Слободы. По дну оврага протекал довольно широкий ручей, забранный под дорожным покрытием в широкие бетонные трубы. Миновав понижение, дорога вновь поднималась в гору, к улице Большой. Кроме частных домов, здесь размещался продовольственный магазин, два-три киоска, небольшая поликлиника. Зато в конце этой улицы красовалось внушительное четырехэтажное здание Средней школы №13 желтого с белой окантовкой цвета. Улица Большая выходила на главную дорожную магистраль города – улицу имени Карла Маркса, центральная часть которой в настоящее время названа именем Муравьева-Амурского. Но это пространство я освоила позже, когда пошла в школу. Дошкольные же годы проходили, в основном, вблизи от дома.
1. Дом на улице С. Лазо
Их было четыре – двухэтажных дома, стоящих в ряд, один за другим, торцами к дороге. Три из них серого цвета – цвета сильно потемневшего от времени дерева, и наш – четвертый – белого. Был он поштукатурен и побелен. Дома примыкали к огороженному забором и охраняемому Военному Гарнизону, называвшемуся в народе «Бригада». То было крупное военное формирование, куда входило и военизированное предприятие Связи, где работал инженером мой отец. В то время оно называлось – Военная база.
Много позже я начала понимать, что детство мое прошло в самом «чреве» сил Дальневосточного Военного Округа, призванного охранять восточные рубежи Родины, где:
На границе тучи ходят хмуро
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.
Там врагу заслон поставлен прочный,
Там стоит, отважен и силен,
У границ земли дальневосточной
Броневой ударный батальон.
Спустя еще какое-то время, когда набирали силу гласность и демократия, стала понятной и еще одна причина дислокации большого количества вооруженных сил на Дальнем Востоке, но об этом будет сказано ниже. А пока что вернемся к нашим домам, окруженным километровыми запретными зонами, вышками с часовыми, военторгами и прочими атрибутами «осадного» положения. В наших домах, населенных в основном гражданскими людьми, жили также и семьи военных.
Помню отдельные эпизоды того периода жизни, когда мне не было еще четырех лет. Наша семья жила на первом этаже «белого» дома в небольшой комнате, 12-14 кв. м. площадью, в коммунальной квартире, где в двух других таких же комнатах жили семьи по три человека и более.
Запомнился сам дух послевоенного времени, который отличался коллективизмом, сплоченностью, общим подъемом, радостью, пришедшей с окончанием войны. После работы по вечерам из окон домов неслась музыка, песни: «Синий платочек», «Летят перелетные птицы», «Где ж вы, где ж вы, где ж вы очи карие», и другие.
Неподалеку была разбита волейбольная площадка, где вечерами после работы проходили захватывающие спортивные баталии. Правда, принимало в них участие лишь мужское население домов. Любил играть в волейбол и мой отец. За самодельными столиками во дворе сидели любители поиграть в домино.
Летними вечерами, когда темнело, у одного из домов часто показывали кино. Приезжал киномеханик, прилаживался экран, скамьи стояли на траве. Уж не помню, взымалась ли за это плата, но собиралось обычно едва ли не все население округи. Кино любили безмерно – и взрослые, и дети. С той поры разве что фильм «Тарзан» надолго остался в памяти. Часто ходили мы в кино и в «Бригаду».
По особенному ощущались воскресные и праздничные дни. Нарядные, в приподнятом настроении, люди отправлялись в центр города семьями, с детьми. Это называлось у нас «ходить в город», «ходить на Амур», в любимый всеми горожанами «Парк культуры и отдыха», раскинувшийся на правом берегу Амура, и рядом расположенный парк «ОДОСА» – Окружного Дома Советской Армии. О том, как хорошо жарким летним днем оказаться у реки или в тенистом живописном парке, я скажу еще ниже. Возвращались домой под вечер. Уставшая за день, я говорила папе: «Возьми меня ко мне, на ручки».
Помню родителей молодыми, веселыми, особенно в дни праздников или торжеств. В нашей маленькой комнатке сооружался один длинный стол, готовились угощения, в складчину, наверное, – по тем временам, собирались гости. Потом были песни. Папа играл на гитаре, хорошо пел. Любили песни русские народные: «Степь да степь кругом», «Славное море – священный Байкал», «Из-за острова на стрежень», «Раскинулось море широко». Но особенно любимы и понятны были людям песни военных лет: «Катюша», «Огонек», «Вечер на рейде», «В землянке», «Темная ночь», «Дороги», «Соловьи», «Прощайте скалистые горы» и др.
В доме в почете был радиоприемник – основной источник информации в то время. Часто вечерами, перед сном, когда в комнате гасили свет, горел лишь маленький зеленый огонек радиоприемника, и еще некоторое время негромко звучала приятная музыка.
2. Гармония
Уже в зрелые годы мысленно я не переставала восхищаться семьей, в которой выросла, своими, безмерно дорогими моему сердцу родителями. Как мудро и разумно, гармонично и слаженно, спокойно и уверенно прожили они свою жизнь! Жизнь, так похожую на ту реку, возле которой она прошла: «Славно Амур свои воды несет, ветер сибирский им песни поет…». Как будто музыкой известного вальса отзываются в моей памяти годы моего детства. Да, река жизни моих родителей была и суровой и величавой, красивой и полноводной, а ее воды – чисты, свежи и бодрящи.
Совсем недавно мне удалось познакомиться с книгами эстонского врача-целителя Лууле Виилмы, которые в совокупности представляют собой учение о духовном развитии человека. Немалое место в учении занимают разделы, посвященные тому, как должны складываться отношения мужчины и женщины в семье. – Боже мой! О ком это? Это о них – о моем отце и моей матери. Философский трактат в обобщенном виде излагал ту мудрость жизни, которая прошла перед моими глазами: «Мужчина и женщина в семье составляют единое целое, завершенность. Мужчина создает форму, женщина – содержание. Мужчина – идеи, женщина рожает детей. Мужчина строит дом, женщина украшает очаг. Мужчина – сила, женщина – душевное тепло. Мужчина – ум, женщина – чувство.
Задача мужчины – идти, только идти и никогда не останавливаться, ибо кто останавливается перед жизненными преградами, тот погибает. Если мужчина идет, то в его продвижении природой заложена мужественность, и он без приказа и без принуждения делает все, что является мужественным. Мужественность включает в себя: работу разума, обустройство экономической жизни, зачинание детей.
Мужчина должен быть как мачтовая сосна, на которую равняются другие. Мачтовая сосна не говорит, но она служит эталоном. Без мачты не бывает корабля, а в открытое море на лодке не выходят. Мужчина – дух своих детей. Дух является движущей силой. Долг отца – идти.
Мужчина способен идти, когда для этого имеется сила – сила воли.
Откуда берется эта сила? Она берется из сердца женщины.
Задача женщины – любить своего мужа. Мужа прежде всего. Никто не должен стоять выше мужа, даже ребенок. Иначе женщина будет вынуждена страдать сама и обрекает на страдания детей.
Женщина должна в душе всегда и во всем поддерживать мужа своей любовью. Даже в самый критический момент. И если помощь понадобится ей самой, то поддержка со стороны мужа не замедлит явиться. Женщине, которая любит своего мужа, никогда не приходится тратить силы на выполнение мужской работы.
Если женщина любит мужа, то их совершенное единство притягивает подобное – только совершенное. То есть у них совершенно здоровые дети и совершенно здоровая жизнь. Совершенство, как известно, это не одно лишь хорошее, а постоянно движущееся и совершенствующееся равновесие хорошего и плохого».
И это равновесие, найденное однажды, не было потеряно родителями на протяжении всей жизни.
Уже позже из уст другого хорошего семьянина я услышала ту мудрость, которую знал мой отец: хочешь, чтобы в семье был порядок, возьми всю основную тяжелую работу на себя. Так поступают настоящие мужчины.
Мой отец знал, как строить семью. Истоки этого знания просты: и папа, и мама выросли в семьях с прочным хозяйским укладом, с обустроенным, хорошо налаженным бытом. И второе – это взаимная любовь моих родителей друг к другу, потом – и к детям.
Представьте себе, читатель, холодный заснеженный Хабаровский край послевоенных времен. Дальневосточные зимы суровы и продолжительны. Трескучие морозы, -30о и ниже, метели, снежные заносы, длящиеся 4 – 5 – 6 месяцев в году. Слабо утепленный дом, хотя и окруженный по периметру так называемой завалинкой, предохраняющей от промерзания основание дома.
Само место и время той жизни диктовало мужчине необходимость ежедневно, неукоснительно выполнять тот объем настоящей мужской работы, без которого семье не прожить. О запасе топлива на зиму позаботиться надо было в теплое время года: заказать машину угля, достаточное количество дров. Своевременно напиленные и нарубленные, аккуратно сложенные они хранились в приспособленном для этого сарае за домом. Печь нужно было топить регулярно, и это делалось родителями на протяжении целых двадцати лет, пока, наконец, не переехали мы в середине 60-х годов в квартиру со всеми удобствами. Внешние хозяйственные работы выполнялись отцом, а в квартире управлялась с делами мама. И не было каких-либо сбоев или исключений из правила. Зимним утром заносились в комнату дрова, уголь. Я не помню, чтобы в нашей уютной комнате было холодно. Воду папа приносил от колонки ведрами на коромысле. Расчищал на улице снег, делал и другую работу. Заниматься хозяйством родителям приходилось постоянно.
Окраина города хороша оказалась тем, что здесь можно было держать огороды людям, жившим не только в частных домах, но и в государственных, таких, как наш. И огородничество тоже было в послевоенные годы явлением массовым. Главной сельскохозяйственной культурой на них был, конечно, картофель. Аккуратно взбитые рядки, треугольной формы в сечении, занимали и склоны оврага, и прочие пригодные для обработки зéмли вблизи домов.
Наша семья имела огород всегда, и главным растениеводом был у нас папа. Позже родители, как и большинство соседей, брали еще и участок для посадки картофеля в поле, куда люди коллективно выезжали работать в выходные дни. Для этого предприятие специально выделяло машину. Посадка, прополка, сбор урожая – все вовремя. Хранились овощи зимой в подполье, которое находилось тут же под полом комнаты, ведь жили мы на первом этаже. Однажды, заигравшись, я упала в открытый люк, хотя была предупреждена об опасности. К счастью «приземлилась» прямо на спину папе, работавшему в подполье в это время. Отделалась лишь легким испугом.
Поощрялось и разведение домашних животных, свиней, например. Вспоминаю, как к домам подвозили в небольших цистернах специальный жидкий корм для свиней – барду, и люди набирали ее в ведра. Мои родители держали тогда и поросенка в другом сарае, и мясо время от времени у нас было. А вот вкус белого хлеба привычным стал не скоро, где-то к середине 50-х годов. Ели в основном хлеб черный – ржаной.
Мама была рукодельницей. Ее вышивки гладью, крестом всегда украшали наше жилье. Над кроватями висели коврики, любовно и скрупулезно расшитые аппликациями. На одном из них было изображено озеро с плавающими на нем лебедями, и прибрежные «камыши» (рогоз) так и хотелось потрогать руками – настолько натурально выглядели их головки, вырезанные из кусочков темно-коричневого бархата. А над моей кроватью висел коврик с веселыми фигурками детей, играющих на площадке. Помню еще небольшую сумочку для ниток, на которой было вышито: «Лорик».
В семье хранился заветный ларчик – небольшой чемоданчик с рисунками вышивок и выкройками. Мама вскоре стала посещать курсы кройки и шитья. Перешедшая от дедушки швейная машинка марки «Singer» всегда была с нами. Шитье было освоено мамой настолько, что ее просили сшить на заказ, например, зимнее пальто для мальчика – школьника, жившего по соседству. Однако люди в то время не слишком часто могли позволить себе частные заказы, и несколько позже маме пришлось освоить другую профессию.
Чистота, уют и ухоженность жилья были делом маминых рук. Все в доме дышало любовью и создавало ощущение полного комфорта, хотя и жили мы по началу очень скромно. Папа любил повторять, что начинали они с мамой жизнь с солдатской чашки-ложки. Однако некоторые вещи в доме казались мне тогда таинственными и многозначительными. Так, на высоко прибитой полочке красовалась фигурка японской женщины, одетой в кимоно из ярко расшитой шелковой ткани. Она попала к нам с так называемыми трофейными вещами, наверное, после отступления японских войск.
Еще один предмет – костяной ножичек для разрезания конвертов, длиной сантиметров 15. Желтоватый, отшлифованный, не очень острый, в форме птичьего пера, сужающегося к концу. В середине ножа было выточено шаровидное звено, похожее на бусинку, миллиметров 6 в диаметре, внутри которой была вмонтирована микроскопическая фотография с увеличительным стеклом. На том снимке был изображен незнакомый город с надписью «Paris».
Позже я видела у родителей монеты царских времен. А у своих родственников – старинные книги в красивых, с тонкой металлической вязью переплетах, которые закрывались на маленькие крючочки. Был также сундук с музыкальным замком.
Нравилось мне разглядывать небольшую коллекцию открыток, собранную родителями, где изображены были картины природы, нарядно одетые люди. Все это будоражило мое детское воображение, бередило фантазию.
Одевались мы скромно, но опрятно. Папе нравилось, что мама всегда клала ему в карман пиджака чистый, наглаженный и непременно надушенный одеколоном носовой платок.
3. Первые уроки
В те ранние годы своей жизни получала я от родителей первые уроки правильного поведения, того, что можно говорить вслух, а что нельзя, уроки честности. Наверное одного такого урока было достаточно мне, однажды нечаянно принесшей домой кем-то брошенную на улице безделушку. – Пойди и положи там, где взяла, – строго сказал отец. Этого случая было достаточно, чтобы понять на всю жизнь – брать чужое нельзя.
Папа любил подшучивать надо мной, когда после утреннего умывания я прибегала к нему. – Глаза-то черные, не промыла. Я снова шла к умывальнику и мыла глаза снова. На самом деле цвет глаз у меня такой же, как у папы – зеленовато-коричневатый.
Пальто я называла тогда смешным словом «палькопка».
Из того периода времени, когда мне не было и четырех лет есть и некоторые негативные воспоминания. Однажды пришлось видеть машину черного цвета, подъехавшую к нашему дому. Это был тот самый «черный ворон». Он увез соседа со второго этажа. Так остались без отца две сестренки – Валя и Таня, мои первые подружки.
Другой случай. В одно лето почти все дети в нашем подъезде по очереди переболели скарлатиной. Эпидемия косила одного ребенка за другим, не миновала и меня. Увозили детей в инфекционную больницу на «Орловом поле» – на другом конце города. Мои светлые тогда волосы, украшенные голубым бантом, во время болезни были острижены налысо, после чего приобрели более темный цвет, так что родители, пришедшие навестить меня в больнице, не сразу узнали свою дочь. – Позовите Лору Мамонтову, – кричал в окно мне папа. – Я – Лора Мамонтова, – чуть не плача от обиды, отвечала я, ставшая похожей на мальчишку.
Был и еще один казус. Часто мимо наших домов ходили небольшими группами цыгане – попрошайничали, напрашивались погадать. Папа сказал мне, что они воруют детей. Долгое время цыган обходила я за три версты.
Как и все маленькие дети, задавала я родителям множество вопросов. В этот период память по скорости развития опережает другие способности. Легко запоминала стихи:
…Вперевалочку идет
Косолапый мишка.
Он принес в подарок мед
И большую шишку…,
считалки, сказки, песни, чуть позже песни взрослые. Детских книг, игрушек было у нас в то время мало, но мой папа всегда был неистощимым сказочником и рассказчиком, перед сном пел мне колыбельную:
Сон приходит на порог.
Крепко, крепко спи ты.
Сто путей, сто дорог
Для тебя открыты.
Все на свете засыпает,
Ветер затихает.
Дяди спят, тети спят,
И луна зевает.
Чтобы завтра рано встать
Солнышку навстречу,
Надо спать, крепко спать,
Милый человечек.
Спит зайчонок и мартышка,
Спит в берлоге мишка.
Дяди спят, тети спят,
Спи и ты, малышка.
Иногда в гости к нам приезжал из деревни дедушка Григорий – мамин отец. Сухощавый, узколицый, с бородой. Мама рассказывала ему, какой иногда непослушной бывала я. Дедушка сидел у стола, закинув ногу на ногу и, строго поглядывая на меня, давал маме советы по моему воспитанию, хотя с этим успешно справлялся мой отец. Из всех гостинцев, привозимых дедушкой, больше всего запомнились круглые брикеты мороженного молока. В селе, как водилось, держали коров.
4. У меня появился маленький братик
В то время мама не работала, занималась домашними делами. Это и понятно: я была еще маленькой, к тому же с апреля 1948 года, как я сейчас понимаю, мама готовилась к рождению второго ребенка. Тогда я, естественно, этого не знала. Еще и поэтому большую часть работы по дому взял на себя отец. Он оберегал и любил маму, поддерживал как мог.
Да, российские женщины женственны. Они нуждаются в мужском тепле и участии, несмотря на то, что и самим мужчинам приходится нелегко. Женщины должны иметь возможность жить спокойно и безбедно. Мужчины, как и положено, должны обеспечивать свою семью всем необходимым. Тогда жены и матери будут ласковыми, спокойными, любимыми и любящими. Значит и мужчинам тоже будет хорошо. Это и есть семейное счастье.
В такой дом и приходят дети. Говорят, они сами выбирают момент своего появления в семье. Согласно упомянутому выше учению о духовном развитии, ребенок – чистый дух, все знает, все видит и понимает. Он сам избирает свою мать. В течение девяти месяцев он наблюдает за ней. Ребенок приходит на Землю со своим опытом предыдущих жизней (автор учения, очевидно, подразумевает под этим тот генетический материал, который концентрируется в зародившемся организме от предшествующих поколений, и закодированную в нем информацию), у него только нет еще опыта той жизни, в которую он пришел. Именно научиться он и приходит. Огромна и искренна его любовь к родителям, которых он выбирает. Они дадут ему то, что он пришел искать – трудности.
Дети нового времени не хотят приходить в атмосферу стрессов, так как они знают, что все чувства и представления родителей перейдут в них. Под грузом такого стресса они не смогут осуществить свое жизненное задание. Дух ребенка настолько умен, что пребывает в ожидании и воспитывает дух своих отца-матери, потому что хочет быть полноценным. Освобождайте свои стрессы, родители. Простите всему, что Вам не по душе. Родительские черты характера передаются и усиливаются в детях.
И вот когда мне было три с половиной года, в семье произошло радостное событие – родился мой брат – Владимир, в ночь перед Рождеством, седьмого января 1949г. Роды случились прямо в квартире, куда папа срочно вызвал врача со своего предприятия. Это был военврач – мужчина в военной форме, деловитый и умелый. Все прошло благополучно. Я отчетливо помню тот тревожный вечер. Хотя мне не велено было смотреть в отгороженную занавеской часть комнаты, где мучилась моя мама. И лишь соседи, жившие над нами, на втором этаже, празднуя, лихо отплясывали чуть ли не всю ночь над головой, так и не отозвавшись на папины просьбы дать роженице покой.
Появление в семье маленького светловолосо-го кудрявого моего братика папой было вскоре окутано легендой, в которой говорилось, как папа в морозную январскую ночь пошел на главную площадь города, где у наряженной елки Дед Мороз дарил собравшимся праздничные подарки. – Кому? – крикнул он, достав из своих закромов хорошенького малыша. – Мне! – якобы отозвался отец и получил драгоценный подарок.
Вскоре в комнате установили детскую кроватку – витую, металлическую, повесили еще один коврик. И хотя наша комната была небольшой, но вся мебель – 3 кровати, шифоньер, тумбочка, 2 стола располагались по ее периметру, и особой тесноты не ощущалось. У широкого окна размещался большой стол, накрытый красной суконной скатертью с кистями, на котором зеленела и цвела так называемая роза (хибискус). А ближе к двери и печи стоял кухонный стол.
5. Детский сад
Но я подрастала. Страна моего детства, не отличавшаяся поначалу большими размерами, вскоре стала расширяться как пространственно, так и в смысле человеческого окружения. Больше простора появилось для умственного развития – я пошла в детский сад. Наверное, подошла очередь на папиной работе получить для меня место в детском саду. Трудно представить, чтобы в то время устроить ребенка в детсад было так просто.
Детский сад находился на той же улице им. С. Лазо, но несколько выше, метрах в пятистах от нашего дома, ближе к вокзалу. Такие же как и наши двухэтажные деревянные дома располагались там как бы по сторонам квадрата, образуя внутри большой замкнутый двор. В середине двора высилась окруженная штакетником круглая горка, из центра которой примерно на метр поднималась металлическая труба. Проникать в этот загончик строго воспрещалось. Говорили, что это – подземное бомбоубежище. Весь этот небольшой жилой массив примыкал к территории Хабаровского Завода эмалированной посуды, называвшегося тогда кратко – Эмальзавод (в народе – «эмалька»). Как я сейчас думаю, в этих домах было паровое отопление, так как рядом находилась заводская котельная. Дом, стоявший параллельно дороге, был кирпичным и вид имел совсем городской. Жили в нем работники заводоуправления.
Через дорогу находилось папино предприятие, также имевшее краткое название – «База». Пройдя отсюда по мостикам через большой овраг и проулок, мы попадали на виадук и затем на привокзальную площадь.
Как и в наше время, родителей просили помочь детскому саду в каких-то хозяйственных делах. На тот момент нужно было огородить штакетником детскую площадку, и мой папа участвовал в этой работе, а я, естественно, бегала поблизости.
К посещению детского сада надо было подготовиться, взять в поликлинике необходимые справки. Наверное в этой связи пришлось принимать мне английскую соль. Название это крепко засело в памяти. Еще нужно было пополнить мой гардероб, и мама сшила мне кое-какие вещи. Зимние платья шились тогда из байки, летние – из ситца. Но самой оригинальной вещицей казался мне детский лифчик с пажами, с помощью которых пристегивались чулочки.
Детсад был небольшой и занимал всего одну квартиру на первом этаже дома, стоявшего торцом к дороге. Три комнаты и небольшие подсобные помещения. Комната для игр служила одновременно и столовой, а комната для занятий была на время тихого часа спальней, для чего там устанавливались деревянные раскладушки.
Первое время разлуку с домом и родителями переносила я тяжело. Папа, ходивший на обеденный перерыв домой мимо детского сада, не раз видел меня, одиноко бродившую вдоль забора и зовущую родителей: «Мама-а, папа-а…». Вскоре я освоилась в новой среде. Да и распорядок дня в детском учреждении не давал долго скучать: прием пищи, занятия, прогулки, сон – все во время. Деления на группы у нас не было, так как детей было не много.
Кормили нас хорошо. Думаю, что воровать продукты у детей, как это происходит кое-где сейчас, в то сталинское время было опасно. С приготовлением еды справлялась невысокая худенькая, проворная женщина – тетя Лена. Ей помогала еще одна работница. Нам регулярно давали мясо, в супах – очищенное от костей и мелко нарезанное; запеканки из круп со сладким соусом, сыр и многое другое. Перед обедом полагалось выпить столовую ложку рыбьего жира. Часто баловали печеньем и шоколадом. Самым ярким и запоминающимся продуктом был морковный джем, подававшийся к чаю. Прозрачные янтарные кусочки одним видом своим радовали и поднимали настроение. Кстати, с 1-го января 1991 года специальным постановлением ЕС морковь было предписано именовать фруктом, чтобы из него можно было варить конфитюр. Можно считать, что я такое лакомство отпробовала еще за 40 лет до постановле-ния.
После завтрака проводились занятия – игровые, обучающие. Вела их воспитательница Мария Михайловна. Для ребенка игра это и есть жизнь. Мы учились внимательно слушать, не теряться в коллективе, не робеть и не быть агрессивными по отношению к другим; развивали свою речь, учились рисовать, конструировать, лепить из пластилина, конечно, петь и танцевать. Были и занятия другого рода. В комнате расставлялись вдоль стен стулья, рассаживались дети – маленькие, побольше, все вместе. Как-то по особенному, как бы торжественно проводила их сама заведующая детсадом – Зинаида Федоровна. Она обычно читала нам книгу, которую всякий раз приносила из своего кабинета. Это были рассказы Л.Н. Толстого. Читалось не быстро, внятно и прочувствованно. Мне нравились эти читки.
На стене комнаты для занятий висел большой портрет И.В. Сталина, а рядом – совсем маленький портрет В.И. Ленина, что вызывало недоумение, и я однажды спросила у воспитательницы, почему портрет Ленина гораздо меньше Сталинского, ведь Ленин главнее ныне живущего вождя. – «Тщ», – произнесла воспитательница, что означало «тихо, молчи», и она приложила палец к губам. Кстати, застекленный в рамочке портрет Сталина висел и у нас дома, на стене у окна до самого момента разоблачения культа личности.
После занятий в детском саду нас одевали и выводили на площадку. То-то было приволье! Зимой – катание с ледяных горок, летом – беготня, игры. А с каким удовольствием после обеда в летнее время засыпали мы на веранде, на специально выставленных туда для этого раскладушках.
Вспоминаю дни предпраздничные, утренники в детском саду, наши выступления, общее волнение и суматоху. Некоторые дети выступали в ярких маскарадных костюмах. С особым восторгом смотрела я на девочек в украинских костюмах с венками на голове и множеством свисающих разноцветных атласных лент. А Снежинки и Снегурочки завораживали своим видом в новогодних представлениях. Самой мне так и не пришлось надеть на себя в то время нечто подобное. Не всем это было доступно. И еще… может быть, мои родители считали, что не нужно мне было привлекать к себе внимание по причинам, о которых я скажу ниже. Но сама я тогда этого не понимала, просто стала замечать, что есть люди более обеспеченные и менее, что наглядно отражается на детях.