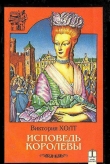Текст книги "Камеристка"
Автор книги: Карла Вайганд
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 35 страниц)
Глава сто десятая
Немногие верные люди в окружении Марии-Антуанетты после убийства Людовика XVI теперь смотрели на дофина как на короля Франции Людовика XVII. Однако ребенок после смерти отца заболел.
– Душа мальчика ранена, – сказала мадам дю Плесси. – Сначала он потерял отца, а теперь вынужден жить с женщинами, подверженными истерическим приступам.
Королева имела привычку во время приступов держать ребенка на руках.
– Дофин для нее как кукла, которая должна успокоить ее. Маленький перепуганный парнишка с испуганным взглядом сидит на коленях у матери и не отваживается вырваться из ее объятий.
Кроме того, мальчик был постоянным объектом насмешек стражи. Раньше мужчины почти не замечали его, но с тех пор, как вдова Капет приказала, чтобы с ним обращались как с королем Франции, дофину стало не до смеха.
– Я ведь не делаю никому ничего дурного, – жаловался мальчик, – почему же они обращаются со мной так отвратительно? – наивно спрашивал он. Так как он спал в комнате матери и страдал головными болями и приступами лихорадки прежде всего по ночам, его сестра также велела переставить свою кровать в покой Марии-Антуанетты. Мария-Тереза практически заменила брату мать. В Тампле отношения матери и дочери очень изменились. Принцесса обладала душевной глубиной, была очень серьезной и чувствительной, в общем, полной противоположностью несдержанной матери.
Этой весной 1793 года Мария-Тереза взяла на себя роль сиделки при своем больном маленьком брате. Она ухаживала за ним с большой любовью и очень умело.
Королева была благодарна дочери за поддержку, кроме того, обеих женщин – Терезе уже исполнилось четырнадцать – очень сблизило общее страдание.
– Надеюсь, что совместное проживание на таком тесном пространстве в Тампле компенсирует прежний дефицит материнского внимания, – рассудительно говорила мадам Франсине Мария-Антуанетта.
Папаша Сигонье жаловался:
– Теперь создали свой собственный революционный трибунал. Он состоит из прокурора и двенадцати судей. Они подвергают заключенных допросу, который почти каждого превращает в виновного. Как может защищаться один человек, стоящий как бедный грешник перед силой, превосходящей его в тринадцать раз, которая приписывает ему ложные подозрения и догадки. К тому же даже не позволяет ему высказаться и не разрешает пригласить свидетелей в свою защиту.
Старик был очень возбужден, таким я его редко видела. Глаза у него свирепо сверкали, а меховая шапка криво сидела на голове. Торговец старым железом принял близко к сердцу смерть своего племянника Жюльена.
Одним из худших инквизиторов был пользовавшийся дурной славой гражданин Фукье-Тевиль, чьим хлебом насущным являлись массовые приговоры, как одобрительно писал «Друг народа». Он сам называл эти побоища «чистками».
– Теперь помощники палача уже не разбирают гильотину, – смогла рассказать я, вернувшись после одной из своих прогулок по Парижу. – Нет смысла ее снова все время собирать.
Во время своих походов я всегда была одета как бедная жена рабочего; так я могла спокойно ходить по улицам. Охота на слуг знати велась безжалостная. Жертвой революционного трибунала стали примерно две тысячи восемьсот человек. Эту печальную судьбу разделил и некий месье Мишель. Он кончил жизнь на гильотине, потому что был когда-то кучером королевы.
Иногда приговоры выносились слишком медленно.
– Судьи тратят очень много времени на свои ненужные совещания, которые ни к чему не ведут, и кроме того, они отпускают слишком многих подозреваемых на свободу, – недовольно говорил Жорж Дантон. У моего старого друга детства, хотя и юриста и демократа, очевидно, было очень странное понимание права. Марат подсчитал, что оправдали примерно две тысячи двести человек, и для него это было много.
«Я за то, чтобы публичное возмездие имело большую эффективность, и кроме того, я выступаю за ежедневную квоту на казни», – заявлял он в «Друге народа». Чтобы справиться с потоком смертных приговоров, приказали построить дополнительные гильотины и разослать их по всей стране в отдельные департаменты, чтобы удовлетворить их потребность в машинах для убийства.
Кто позволял себе критиковать революционный трибунал, кто не надевал трехцветную кокарду, кто давал убежище не принесшему присягу священнику, очень рисковал.
Как раз против последних выступали с особой жестокостью, так как восстание в Вандее еще не закончилось. Напротив, оно распространялось, как пожар, и перекинулось на Бордо, Лион и Марсель. Всюду бунтовщики поднимались против Конвента в Париже, где и так тысячи казнили для острастки.
По осторожной оценке, около сорока тысяч человек в провинциях лишились жизни, гораздо больше, чем в столице при режиме террора.
Париж, мой горячо любимый и одновременно ненавистный Париж, превратился в кровавый кошмар. Гильотина между тем странным образом действовала на народ. Кровавые казни стали ежедневными, и у женщин стало модным украшать себя миниатюрными гильотинами. Самые любимые гильотинки висели на шеях, колыхались в ушах. Мужчины, не желавшие отставать в моде от дам, стригли волосы и брили себе затылки a la victime, как это делал палач, прежде чем отрубить голову преступнику. Даже пели песни о «Святой гильотине».
Глава сто одиннадцатая
Сразу за рыночным павильоном на площади Алигр начиналась улица Теофиля Русселя, и здесь находилась гостиница «Красный барон», из которой 14 июля 1789 года был дан сигнал к штурму Бастилии. Волнения в этом квартале начались уже давно.
Фобур Сент-Антуан, соединяющая площадь Бастилии с площадью Нации, в последние годы старого режима считалась рассадником революции. Многие потайные задние дворы застроенного квартала являли собой отличные укромные уголки, где встречались смутьяны и преступники всех мастей. Здесь мог каждый, у кого нелады с законом, спрятаться от полиции.
– Но этого практически не бывает, – сказал папаша Сигонье, – все воры привыкли решать свои споры между собой. Полиция – общий враг.
Здесь же жили и маленькие люди. Я часто навещала бывших камеристок и служанок, которые нашли приют в своих семьях, когда их господа отправились в изгнание. Многие занялись проституцией, чтобы заработать себе на жизнь. Эта профессия процветала также и во времена революции.
Союзные армии и английский флот все плотнее стягивали кольцо вокруг Франции. Неделями стояла невыносимая жара.
В Тампле ночами было душно, как в парнике, и королева, когда около двух часов ночи явилась полиция, даже не проснулась. У чиновников был приказ доставить вдову Капет на допрос. Мария-Антуанетта натянула черное вдовье платье и выслушала обвинение: она – враг Франции, ее ждет судебное разбирательство в революционном трибунале. До начала процесса ее поместили в Консьержери. Это означало разлуку с детьми, золовкой и последними доверенными лицами.
Что произошло в последние недели жизни Марии-Антуанетты, могла рассказать гражданка Розали Ламорлье, которая здесь впервые встретилась с заключенной номер 280. Мадам Розали была вдовой повара, который некогда состоял на королевской службе. После его смерти – он уже как монархист стал жертвой гильотины – она получила место надзирательницы в Консьержери. Ее мать была известная хозяйка кабачка и моя хорошая знакомая.
– Я ее не узнала, – сказала Розали, когда ее вели по мрачным коридорам тюрьмы в свете нескольких смоляных факелов. Она была высокая и худая, одета в черное платье, очевидно, видавшее лучшие времена, и двигалась с осторожностью пожилых людей, суставы у которых окостенели. Один из стражников, сопровождавший ее, называл ее «мадам сорока».
Я нашла поведение этих парней просто позорным, хотя никогда не испытывала симпатии к королеве. Мне стало ее жаль.
– Камера, которую отвели заключенной, была мрачным, холодным помещением размером в десять квадратных метров. Пол был каменный и неровный. Крошечное окно даже днем почти не пропускало свет. Обстановка скудная: узкая кровать с соломенным тюфяком, грязная ширма, два старых плетеных стула с дырявыми сиденьями да маленький дубовый стол с поцарапанной столешницей. Обои местами клочьями свисали с голых каменных стен. Но больше всего ужасал запах плесени, скопившийся в древних стенах. – Розали надолго замолчала, потом продолжила: – Заключенная с удивлением рассматривала ужасную дыру; при этом она не замечала ни меня, ни надзирателя, который сидел за маленьким столом и записывал ее имя в реестр заключенных. Стражник взял из рук королевы маленький узелок, в котором находились все ее пожитки. Каждый предмет чиновник тщательно заносил в список.
Среди вещей Марии-Антуанетты находился альбом с волосами ее детей и ее казненного супруга, арифметическая таблица, которой она пользовалась для занятий математикой с сыном, шкатулка для шитья, маленький портрет так жестоко убитой принцессы Ламбаль, шаль на холодные дни и катехизис.
Эти несколько вещей и жалкая одежда, которая была на ней, – вот и все земное имущество королевы Франции. На ее худых пальцах все еще болтались три золотых кольца, а на исхудавшей шее на тонкой золотой цепочке она носила золотые карманные часики. Эти часы она повесила на гвоздь в стене.
Наконец надзиратель внес все в свой список. Теперь я осталась наедине с заключенной номер 280; она улыбнулась мне и начала раздеваться, чтобы провести остаток ночи. Черное платье она аккуратно сложила на стуле. Потом, смертельно усталая, легла в нижнем белье на кровать, которую я незадолго до ее прихода застелила чистым бельем, – продолжила Розали. – Горе и бесконечные страдания измотали эту женщину. По отношению ко всем она оставалась вежливой и дружелюбной, как бы грубо с ней ни обращались.
– Королева скрывала свою ущемленную гордость и гнев за хорошим воспитанием, – считал герцог де Рабульон, друг мадам Франсины. – Никогда она не опустилась бы до одного уровня с теми, кто теперь плохо обращался с ней.
А моя госпожа предположила:
– Очевидно, королева, которую мы часто видели нервной, даже истеричной, обладала огромным запасом душевных сил.
Но ее тело таких сил уже не имело. Руки у нее дрожали, а левое веко непрестанно дергалось. К тому же она страдала от головных болей.
– Ее месячные кровотечения, – рассказывала Розали, – были хуже всего, естественный цикл сбился. Это было у многих заключенных женщин, но она страдала несказанно и все просила у меня тряпки, чтобы не испачкать платье или постельное белье. Но для каждой заключенной был определенный запас бинтов. Так что я разрезала свои рубашки и положила эти тряпки ей под подушку.
Глава сто двенадцатая
Вывоз королевы из Тампля не стал неожиданностью. За четыре недели до этого однажды утром явились четыре офицера Национальной гвардии, чтобы по приказу «Комитета общественной безопасности» отвезти дофина в «более демократическое окружение». Целый час Мария-Антуанетта упрашивала, чтобы ее не разлучали с сыном.
– Месье, умоляю вас, не забирайте у меня единственного родного человека на этой земле. Ради Христа, не разлучайте меня с самым дорогим, что у меня есть, – слышала я, как она в слезах умоляла офицеров. У меня чуть не разорвалось сердце.
Они хотели оградить ребенка от ее «вредного» влияния, чтобы мальчик рос как обычный гражданин. Мария-Антуанетта знала, что она никогда его больше не увидит, и совершенно потеряла самообладание. Мужчины некоторое время смотрели на нее, потом старший холодно сказал:
– Хватит, мадам. Решайтесь: или мы сейчас убьем обоих ваших детей, или вы позволите нам выполнить приказ и забрать мальчика.
Тут она сдалась. Они с Марией-Терезой одели мальчика, еще лежавшего в постели, и сказали ему, чтобы он делал все, что от него потребуют офицеры. Дофин отчаянно цеплялся за юбку матери и плакал навзрыд. Казалось, ребенок догадывался, что теперь у него отнимут и мать.
Один из офицеров насмешливо заметил:
– Такое поведение типично для мальчиков, растущих в женском обществе.
Наследника трона передали на воспитание одному пожилому надзирателю, сапожнику по профессии, по имени Антуан Симон, ужасному сквернослову. Теперь каждый мог целыми днями слышать крики дофина, проникающие сквозь старые стены. Никто прежде не отваживался физически наказывать наследника престола. Теперь его волю сломали побоями. Несчастная мать между тем выяснила, что из определенного окна в коридоре можно видеть, как Антуан Симон со своим «приемным сыном» проходит внизу по дорожке к саду Тампля. Теперь бедная женщина часами стояла у этого окна, чтобы не пропустить то короткое мгновение, когда Людовик-Карл внизу во дворе проходит с сапожником.
– Кажется, мой маленький король по крайней мере здоров, – говорила она, немного успокаиваясь.
На следующий день все мы смогли слышать, как мальчик пел «Марсельезу» и другие революционные песни, которым его научил сапожник. Но потом случилось худшее.
– Никогда не забуду, как Людовик Семнадцатый громко поносил Бога и в непристойных выражениях проклинал свою семью и всех аристократов, – всхлипывала Мария-Антуанетта, обнимая мою госпожу и ища у нее помощи.
– Видно, что «перевоспитание» уже приносит свои плоды, – с горечью пробормотала графиня.
Теперь несчастная женщина сидела в Консьержери и не могла больше видеть своего сына. В утешение у нее осталось несколько маленьких сувениров, которые она тайком пронесла под платьем в тюрьму: крошечный портрет ребенка, его локон и маленькую желтую перчатку.
Мадам Розали сообщила директору тюрьмы, что заключенной номер 280 очень плохо.
– Я сказала ему, если вы хотите, чтобы вдова Капет дожила до судебного процесса, тогда сделайте что-нибудь для нее. Она совсем обессилела.
Мадам Ламорлье нагнала страху на аптекаря Консьержери. Он не мог допустить, чтобы умерла его самая важная заключенная.
Он прописал номеру 280 специальную смесь из воды с цветками лимона и апельсина, капель Гофмана и сиропа из адониса весеннего. Гражданин Ришар, ответственный за нее надзиратель, получил задание: вдове Капет каждый день приносить питательный суп, который должен содержать постную телятину, кусочки курятины, а также острые приправы.
– В остальном с королевой обращались ужасно. Так, например, два стражника спали на раскладушках в ее камере и неотступно следили за ней. Даже естественные надобности она вынуждена была справлять в их присутствии. При этом парни отпускали «изысканные» замечания, как ты можешь себе представить, Жюльенна. Это было унизительно не только для нее, но и для всех женщин вообще. Но так как королева никогда не жаловалась и всегда оставалась вежливой, то проявили некоторое снисхождение и послали одного стражника в Тампль, чтобы принести оттуда кое-что. Мужчина вернулся с пакетом, и заключенная обрадовалась как ребенок, когда ей разрешили его открыть. Она, наверное, надеялась получить какое-нибудь известие о детях, – рассказывала мадам Розали.
Содержимое оказалось очень скромным, но для королевы оно имело очень большое значение. Там была пара легких батистовых рубашек, перчатки, отороченные кружевами, две пары черных шелковых чулок, белый халат, несколько ночных чепцов, пояса, шали, черный вдовий чепец, а также черная перевязь из шелкового крепа, кисть для пудры и маленький тюбик помады для волос.
– В Косьержери нет шкафов, – сказала мадам Розали, – поэтому королеве оставили картонную коробку, чтобы положить туда ее пожитки.
Каждое утро вдова Капет могла теперь выбирать, что надеть – ее поношенное черное платье или белый халат. Свои длинные, теперь уже совсем поседевшие волосы она закалывала, наносила немного помады для волос на виски и у корней. В заключение она проводила кистью для пудры по морщинистому лицу – и на том ее утренний туалет заканчивался.
Глава сто тринадцатая
В Консьержери в любое время дня царило оживление, потому что все примерно триста заключенных могли принимать посетителей. После того как условия содержания королевы несколько смягчили, мадам дю Плесси сделала запрос, чтобы ей разрешили посещать Марию-Антуанетту. Моя госпожа и я теперь постоянно жили в городском дворце Плесси; не было причины держать мадам Франсину в Тампле, и она не видела причины ходить туда после того, как старого сапожника Симона окончательно сделали опекуном наследника престола. Мария-Тереза находилась в обществе своей тетки Елизаветы.
– Достаточно, если мы дважды в неделю будем узнавать, не можем ли мы что-нибудь сделать для обеих дам, – сказала графиня и с сожалением прибавила; – Мы все равно ничего не можем сделать для них. Конвент ведь хочет, чтобы они страдали.
Однажды утром мы отправились в путь, одетые как представительницы третьего сословия, не слишком хорошо, чтобы не возбуждать зависти, но и не слишком бедно.
– Это может вызвать недоверие, – сказала моя госпожа.
Мы шли быстро и, как я думаю, выглядели неплохо. Мне теперь было тридцать шесть лет, у меня все еще была хорошая фигура и привлекательное лицо. Так по крайней мере утверждали мои поклонники, и мадам Франсина, на восемь лет старше меня, – тоже хорошо сохранилась. Фигура у нее была стройная, держалась она прямо, черты лица были тонкие и благородные, не казавшиеся при этом скучными; она могла бы сойти за мою двоюродную сестру. Мы решили выдавать себя за кузин. Мы направлялись к воротам тюрьмы, где в этот ранний час уже толпился самый разный народ. Торговцы устремились в тюремный двор, чтобы продавать свои товары; передвижные кухни привезли горшки с едой и котлы с супом, чтобы заключенные не ели ужасное пойло Консьержери, которое годилось только для корма свиней, как я знала от мадам Розали.
Мы видели входящих и выходящих священников; они исповедовали приговоренных к смерти или соборовали их. Непроизвольно мы обе вздрогнули, когда подошли к часовому в сторожевой будке. Моя госпожа, улыбаясь, положила перед ним листок бумаги.
– Доброе утро, гражданин, – дружелюбно поздоровалась она, и мы обе сделали намек на реверанс.
– Не рассердить – это полдела, когда общаешься с этими надутыми хамами, – втолковывала я по дороге мадам Франсине. – Наденьте парню форму, и он сразу начинает думать, будто он сам Господь Бог или по меньшей мере его заместитель.
– У нас есть разрешение городской администрации, и мы хотели бы навестить заключенную номер двести восемьдесят, пожалуйста.
– Так-так, – ухмыльнулся мужчина у ворот, – давайте посмотрим, кому из наших гостей повезло быть осчастливленным посещением двух таких очаровательных дам. – Он склонился над журналом, где были перечислены все заключенные. Ему пришлось перелистнуть несколько страниц. Он водил указательным пальцем по столбцам и остановился на номере 280. – Так-так, – снова сказал он. – Вы, красотки, хотите навестить гражданку Марию Капет. А как вас зовут?
Он взял бумагу, которую ему подала мадам Франсина, и по слогам прочитал:
– Тереза Монье и Клодин Вателин с улицы Роз. Так-так. Вы, конечно, сестры, а, гражданки?
– Всего лишь двоюродные, гражданин, – быстро ответила я. Хотя я почти избавилась от деревенского говора, но опытное ухо могло бы распознать наше разное происхождение. Часовой уже хотел дать нам знак проходить, когда к нему подошел другой, который держался в стороне и ковырял в носу. Он указал пальцем на цифру 280 и спросил своего товарища, знает ли он, кто это. Тот безразлично покачал головой.
Мне очень хотелось крикнуть «черт», потому что второй парень очень походил на бюрократа и стал бы, чего доброго, придираться к нам, хотя у нас и было разрешение на посещение. Сколько мадам дю Плесси за него заплатила, его не касалось.
– Но мы знаем, гражданин, – нагло ответила я, наседая на него, и так как он был меньше меня ростом, то я любезно наклонилась, позволяя ему заглянуть в вырез моего платья. Может, это помогло. – Вдова Капет раньше звалась Мария-Антуанетта и была женой Людовика Укороченного.
«Неужели парень и теперь нас задержит, черт бы его побрал», – подумала я. Между тем за нами уже выстроилась очередь из посетителей.
– Что там такое, черт возьми? – сердито спросил мужской голос позади нас. – Пирожки совсем остынут, и маркиз де Лабордер, э, заключенный номер сто тридцать семь мне голову оторвет.
Тут послышались другие недовольные голоса, и наконец часовые пропустили нас, причем один из них еще бросил любопытный взгляд на большую корзину, которая висела у меня на левой руке.
Я быстро сдвинула накинутый сверху платок, достала бутылку вина и поставила ее на стол перед часовым.
– Для вас, граждане, – сладко улыбнулась я и схватила за руку свою госпожу. Бодро сказав «Идем, Тереза», я быстро потащила ее прочь.
– Вина жалко, – сердито пробормотала я, – но, думаю, королеве, которая совсем не пьет, осталось достаточно, чтобы раздать всем стражникам, которые ее охраняют.
Мадам Франсина успокоила меня:
– Ты правильно сделала, моя дорогая. Сейчас он выпьет по стаканчику со своим товарищем и, будем надеяться, в следующий раз оставит нас в покое.
В общем, стражники были очень снисходительны к тем, кого ждала виселица или эшафот. Они позволяли преступникам принимать друзей и родственников сколько хочется.
– Бедным свиньям все равно скоро кран перекроют, – сочувственно говорили они. Но на самом деле причиной было то, что страже много чего перепадало. Поспрашивав, мы наконец нашли камеру королевы, и Розали Ламорлье впустила нас.
Марии-Антуанетте не разрешили ни шитье, ни вышивание, и теперь она не знала, чем занять руки. Камера была просто отвратительная, а крошечное окошко под самым потолком не позволяло выглянуть во двор тюрьмы. На свежий воздух ее не выводили из соображений безопасности. Разговаривать она могла только с Розали и стражниками; да и с ними только при необходимости.
– Им внушили, чтобы они не позволяли мне вовлекать их в разговор, – рассказывала она усталым голосом. Она производила впечатление дряхлой женщины.
Оба стражника присутствовали и во время нашего визита. Проявив дружелюбие, они сложили свои раскладушки, иначе мы вообще не поместились бы в тесной комнате. Мария-Антуанетта не спеша распаковала корзину, в которой лежали только продукты.
Было видно, что при этом мыслями она находилась далеко. Она выставила на маленький стол три бутылки вина, бутылку водки, выложила большой кусок копченой ветчины, головку сыра, масло, пирог, длинную колбасу и ароматный хлеб, а также несколько яблок и груш. Она тут же выделила своим стражам их долю лакомств. Розали тоже перепало. Только сложенное полотенце и четыре носовых платка, в которые были завернуты хлеб и фрукты, она оставила себе.
Во всяком случае, это побудило мужчин под каким-то предлогом покинуть комнату и оставить нас одних.
– Время от времени месье Ришар приводит какого-нибудь любопытного к двери моей камеры, который может недолго поглазеть на меня, – рассказывала нам Мария-Антуанетта.
– И тот, должно быть, неплохо платит за это, – сухо ответила моя госпожа.
Мария-Антуанетта изменилась до такой степени, что, казалось, почти невозможно, чтобы некогда это была та самая женщина, которую придворные, министры, дипломаты и иностранные послы считали венцом женской красоты.
– Но я не хочу жаловаться, – улыбнулась бывшая богиня французского двора, – мне позволили читать книги.
При этом она указала на два экземпляра, лежавшие на не очень чистой подушке.
Это были «История знаменитых, кораблекрушений» и «Путешествие в Венецию».
– В этой, – королева взяла в руки последнюю книгу, – встречаются имена людей, которых я ребенком знала как гостей моих родителей в Старом венском Хофбурге.
Собственно, совершенно естественно, что воспоминания этой униженной женщины обращались в прошлое, ведь ее настоящее было ужасно, а будущее не менее страшно, подумала я, и мне пришлось овладеть с собой, чтобы не расплакаться.
Когда через час время визита истекло, Мария-Антуанетта очень сердечно поблагодарила нас и передала приветы своей невестке мадам Елизавете и детям, если мы будем в Тампле.
Мы с мадам Франсиной поспешили покинуть тюрьму. Еще несколько дней после этого мы пребывали в удрученном состоянии.