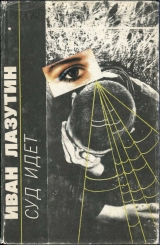
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц)
XIV
Покатая площадь Курского вокзала в вечерние часы бывает особенно оживленной. Две метровские станции, старая и новая, каждую минуту выбрасывают из своих железобетонных утроб разноязыкую пеструю толпу. Вал за валом катится и катится эта толпа и, кажется, нет ей конца. Потом она бойко растекается ручейками по улицам, ныряет в переулки, исчезает в электропоездах…
На карнизах и над крышами зданий, обрамляющих площадь, пылают разноцветные огненные рекламы. Одни предлагают хранить деньги в сберегательных кассах; другие советуют пить томатный сок, так как он полезен и дешев; третьи предостерегают родителей, чтобы они были осторожны с огнем и не оставляли детей одних в квартире… И уж, конечно, один из таких пылающих призывов напоминает, что в жизни бывают несчастные случаи, а поэтому разумно и выгодно застраховать свою жизнь, а также имущество в Госстрахе. А где-то в небесной глубине, словно гигантский восклицательный знак, над всем витринным разноцветьем пылают огненные буквы, извещающие, что по 3-процентному займу вы можете выиграть 100 тысяч рублей.
Эти броские витрины о громадных выигрышах всегда раздражали Шадрина. В них он видел что-то буржуазное, спекулятивное, не наше. Однажды на семинаре по политической экономии он долго спорил с преподавателем, доказывая, что подобная реклама не отвечает ни духу нашей власти, ни укладу нашей жизни. Шадрину казалось, что эта дразнящая реклама вредит воспитанию подрастающего поколения. Он считал: там, где деньги превращаются в культ, в азарт, они заслоняют главное – труд.
Оглушительно тарахтя, мимо пронесся мотоциклист в защитных очках и надвинутом на лоб берете. На заднем сиденье, вцепившись в его плечи, сидела молодая девушка в красной косынке, уголки которой трепыхались на ветру. Округло-литыми, оголенными выше колен ногами девушка судорожно сжимала сиденье мотоцикла. Во всей ее напряженно-скрюченной и наклоненной вперед фигуре было что-то вульгарное, грубое.
Дмитрий не раз наблюдал, как парочки с грохотом проносятся на мотоциклах по многолюдным улицам столицы. И раньше эти картины вызывали в нем чувство возмущения. Но теперь, когда рядом была Ольга, когда мысли его были кристально чистыми, он с какой-то особенной, брезгливой неприязнью проводил взглядом удаляющуюся с потоком машин молодую пару.
Они вышли на перрон.
– Седьмой вагон, – многозначительно сказал Дмитрий. – Прекрасно.
До отхода поезда оставалось двадцать минут. Поставить чемодан на багажную полку Ольге помог сосед по купе, молоденький офицер…
Вышли из вагона.
– Обещай, что при высадке ты попросишь кого-нибудь помочь снять чемодан.
– Обещаю.
В настое весны смешались сырость древних луж, горьковатый дегтярный запах пропитанных креозотом шпал, щекочущий ноздри острый душок выбеленных к 1 Мая заборов…
Дмитрий и Ольга отошли чуть в сторону, чтобы не мешать носильщикам и пассажирам.
– Митя, ты чувствуешь, уже весна! – Взгляд Ольги был обращен поверх голов снующих по перрону пассажиров. – А на юге уже цветут мимозы. Как мне хочется когда-нибудь поехать в поезде! Да так, чтобы несколько суток! До самого Владивостока! Если бы ты знал, как я люблю дорогу!
– А ты когда-нибудь была дальше Рязани? – пошутил Дмитрий. Он знал, что за всю жизнь она дальше Рязани нигде не была. Да и то в детстве, когда ее увозила туда с собой бабушка.
– А ты и рад, что я, как старуха из сибирских урманов, нигде не была?
Дмитрия забавляло почти детское раздражение Ольги, которое овладевало ею, когда он начинал или противоречить ей, или подшучивать.
– Когда вырастешь большая и закончишь свой институт, тебя пошлют торговать пушниной куда-нибудь на Север. Вот тогда-то ты досыта накатаешься и на поездах и на оленях.
Ольга выжидательно и строго посмотрела на Дмитрия.
– Ну-ну, дальше что скажешь?
– Что ну-ну? Алитет ушел в горы, торговать некому. – Дмитрий тихо засмеялся. Когда он бывал с Ольгой, его непобедимо обуревали два, казалось бы, совсем противоречивых чувства. То ему хотелось взять ее, как ребенка, на руки, ласкать, говорить нежные слова. А то находили минуты, когда он истязал ее шутками, насмешками. И чем больше Ольга злилась, тем сильнее и сильнее разгоралось в нем желание позлить ее еще.
– Поострее ничего не мог придумать?
– Ты сердишься? Хочешь, я спою тебе песенку, которую ты будешь петь эскимосам и ненцам? – Дмитрий тихо, еле слышно запел:
Цену сам платил немалую,
Не торгуйся, не скупись.
Подставляй-ка губки алые…
– Ты наха-а… – Ольга так и не договорила. Зажав в своих широких ладонях холодные щеки Ольги, Дмитрий поцеловал ее в губы.
– Как не стыдно! Ведь люди кругом!
– А что мне люди?! Хочешь, крикну на всю платформу, что люблю тебя?!
Ольга как-то сразу обмякла, потеплела. Раздражение ее погасло.
– Лечись хорошенько. Не смей курить. Вовремя ложись спать, занимайся лечебной гимнастикой… – Она совсем забыла, что кругом сновали люди. Положив на плечи Дмитрия руки, перешла на шепот: – Скажи, ты хорошо будешь вести себя на курорте?
Дмитрий ухмыльнулся.
– С утра до вечера, как чертик, буду по ушки сидеть в лечебной грязи и выпивать три ушата нарзана.
– Ты неисправим! – Ольга приглушенно засмеялась.
Неожиданно Дмитрий встрепенулся и отстранил от себя Ольгу. Она оглянулась. И то, что увидела в следующую секунду, ее глубоко растрогало. По перрону, вставая на цыпочки и заглядывая в окна вагонов, шли Ваня и Нина. В озябших руках Нина держала ветку мимозы.
Губы Дмитрия вздрагивали. Таким Ольга видела его однажды, когда из дома сообщили, что дед его, старый любимый дед, доживший до восьмидесяти годов, умер.
Шадрин шагнул навстречу детям.
Увидев Дмитрия, Нина обрадованно кинулась к нему, протягивая перед собой ветку мимозы.
– Как вы очутились здесь?
– Нам в общежитии сказали, что вы поехали на Курский вокзал, – ответила Нина.
– Вот молодцы! Вот не ожидал! – Дмитрий сжимал в руках худенькие плечи Вани.
– А мы купили перронные билеты, вот они. – Ваня показал надорванный желтенький билет, зажатый в кулаке. – И у Нины такой же.
Растроганный Дмитрий первые минуты не мог ничего сказать.
– Как вас отпустили?
– А мы не одни. Мы с вожатой. – Ваня показал в сторону, где у чугунной тумбы, улыбаясь, стояла худенькая девушка, которую Ольга видела во дворике детского дома, когда Дмитрий лежал в больнице. Ольга приветливо помахала ей рукой. Поклонился и Шадрин.
Девушка, как наседка за цыплятами, издали следила за Ваней и Ниной.
Нина протянула Дмитрию пушистую ветку мимозы.
– Это вам!
– Спасибо! Я поставлю ее сейчас же в воду.
– А вы скоро приедете назад? – спросил Ваня.
– Ровно через тридцать дней.
– Когда вернетесь, я вам покажу рассказ. Я его уже начал сочинять.
До отхода поезда оставались считанные минуты. Диктор объявил по радио, чтобы провожающие освобождали вагоны.
Дмитрий помахал рукой вожатой, неловко ткнулся губами в щеку Ольги, поднял на руки Нину – в эту минуту и он и Ольга совсем забыли, что ему нельзя поднимать ничего тяжелого, – расцеловал ее в морозные щеки, по-мужски пожал руку Вани.
Пока вагон, набирая скорость, плыл вдоль перрона, Дмитрий еще видел из тамбура четыре фигурки с поднятыми руками. Он отличал их в толпе провожающих. Когда же внизу замелькали шпалы, фигурки бесследно потонули в мареве апрельского вечера.
Чугунная чечетка под ногами становилась все чаще. А через полчаса Москва уже осталась позади. Издали она пламенела разноцветной мозаикой огней, которые радужно переливались и, как живые капли росы, приобретали все новые и новые оттенки.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
С Николаем Струмилиным Лиля познакомилась на курорте. Шумные улицы Одессы с ее модными женщинами, которые вечерами прогуливались по Дерибасовской улице, катание на лодках, дальние заплывы с «диких» пляжей, где дежурные катера не так бдительны, как на центральных, и наконец – гордость каждого одессита – театр оперы и балета – все это Лиле казалось особенным, красивым, по-европейски блестящим. Она не любила глухих приморских местечек, куда люди ехали отдохнуть и укрепить нервы. Рожденная в столице, прожившая в ней всю свою жизнь, в Одессе Лиля нашла то, что было близко ее привычкам.
Если случалось Лиле иногда в детстве недели на две уезжать с дедом в тамбовскую деревню, где он родился и вырос, то через несколько дней она начинала скучать. Деревенская тишина, которая в первые дни покоряла ее, вскоре начинала угнетать. Ей казалось, что в деревне от безделья она постепенно тупеет. На нее наваливалась такая лень и безволие, что она уже не в силах была даже читать книги. Другое дело – Одесса. Днем в этом городе можно лежать на пляже, купаться, на предельной скорости – так, чтобы по бокам лодки пенными бурунами вскипала вода, – нестись наперерез накатистым волнам. А вечерами… Тихими одесскими вечерами слушать музыку, ходить в театры, бродить по Приморскому бульвару…
И вот сегодня, гуляя по Дерибасовской, Лиля встретилась со Струмилиным. Она не знала его имени, хотя за обедами – их столы были рядом – они иногда перебрасывались шуткой, делились московскими новостями, язвили по адресу повара-толстяка, который после выходного дня то пересолом, то недосолом давал знать, как прошло у него воскресенье.
В этот вечер, когда две новые подруги Лили ушли в театр, она почувствовала себя одинокой и была рада встретить хоть кого-нибудь из знакомых. И вот – Струмилин.
– Вы одни? – удивился он.
– Все мои поклонники меня покинули, – полушутливо ответила Лиля и, вздохнув, склонила набок голову.
– Тогда примите меня в свою компанию. Я тоже давно всеми брошен, – также шутя сказал Струмилин и взял под руку Лилю. – Вы знаете, Лиля… Простите, можно мне называть вас просто Лилей?
– Пожалуйста. Не так уж я стара и солидна, чтобы не разрешить вам этого.
– Так вот, Лиля, у меня сегодня знаменательный день.
– Чем?
– День рождения. Мне уже тридцать два. Каково?!
– Вы стары, как Джамбул Джабаев. К тому же благородная седина, печальные глаза…
– Да-да, Лиля, я стар, как Джамбул Джабаев. Только стихов не пишу. А вот друг мой писал. Он погиб в Закценхаузе. Хотите, прочитаю вам его стихи о седине, которую вы назвали благородной?
– Очень хочу! Я люблю стихи.
Струмилин свернул в скверик. У беседки они остановились.
– Садитесь, пожалуйста.
– Я жду стихов.
Струмилин, опершись рукой о скамейку и глядя поверх каштанов, начал читать тихо, таинственно:
Черный купол небес в брызгах золота,
Опираясь на груды гор,
Говорит мне о том, что молодость —
Не кафе, не заезжий двор.
Что дорогу назад, в юность-местность
Замело снегом ранних седин,
Что ее золотая окрестность
Огорожена сетью морщин.
– Я не верю! Нет, нет! Эта ложь
Серповидной холодной лунности
Замахнулась, как острый нож,
На мою, на седую юность.
Посуди, виноват ли я,
Что на той, на передней линии
В двадцать лет голова моя
В знойный полдень покрылась инеем.
Коли пишешь свой звездный закон,
То черкни на полях исключение:
Ведь желтеет под грозами клен
И седеют юнцы в сражениях.
А не то – я твои эти сети
И сугробы с пути смету!
Не отдам я на белом свете
Моей юности в белом цвету!
– Великолепно! Прекрасно! Эти стихи написал ваш друг?
– Да, друг. И, представьте себе, написаны они были в карцере концлагеря. Почти перед смертью.
Струмилин тронул Лилю за локоть, и они вышли на освещенную аллею. Некоторое время шли молча.
– Вы случайно не актер? – Лиля подняла на Струмилина смущенный взгляд.
Его худощавое лицо прибалтийца (дед происходил из скандинавских рыбаков) носило на себе печать какой-то печали. Если минуту назад глаза его вспыхнули радостью, когда он увидел Лилю, то теперь они снова погасли.
– Нет, я не актер.
– Кто же вы?
– Обычный рядовой врач.
– Вот бы никогда не подумала! Я считала, что вы человек искусства. Ну, в крайнем случае, литератор или философ. Все, что угодно, только не врач!
– Вы плохо думаете о врачах. А все потому, что вы здоровы, и вам еще нет нужды обращаться к ним.
– Совершенно не поэтому. Просто потому, что мой дальний родственник тоже медик, и он не знает покоя ни днем, ни ночью. От него всегда пахнет йодом и хлороформом.
– Кто он, этот ваш родственник?
– Хирург.
– Как его фамилия?
Лиля сказала неправду, назвав первую, пришедшую на ум фамилию.
– Корольков. Ефим Степанович Корольков.
– Что-то не слышал. А московских хирургов я многих знаю.
Из окон ресторана, мимо которого они проходили, доносились звуки джаза.
– Как вы думаете отметить день рождения?
Струмилин остановился, точно вспомнив что-то очень важное.
– Вы совершенно правы! – Он посмотрел на часы. – Давайте, Лиля, справим его вдвоем.
– Вдвоем?
– Да, вдвоем.
Пожалуй, это была решающая минута, которая потом многое перевернула в жизни Лили. Откажись она идти в ресторан или предложи Струмилину просто погулять по Приморскому бульвару – возможно не было бы всего того, что случилось потом.
– А вы ручаетесь, что это не истолкуют дурно?
– Кто?
– Хотя бы наши товарищи по санаторию?
– Это не осудит даже моя жена, а до остальных мне… – Струмилин, не договорив фразы, решительно взял Лилю под руку, и они направились в ресторан.
После второй рюмки Лиля попросила Струмилина рассказать о своей жене. При слове «жена» Струмилин снова как-то сразу внутренне потух.
– Лиля, не спрашивайте больше о моей жене. О ней я могу сказать единственное – она для меня самый дорогой, самый близкий и родной на всем свете человек. Она для меня сделала очень много в жизни… – Струмилин помолчал, точно прислушиваясь к чему-то, тряхнул головой и продолжал со вздохом: – И может быть, зря! Лучше бы она этого не делала.
Такой неожиданный ответ озадачил Лилю.
– Почему вы не вместе отдыхаете?
– Ей нельзя. Она лежит в больнице.
– И вы смогли ее оставить? А сами поехали на курорт?
– Да, оставил, а сам поехал на курорт.
– Но ведь это…
– Я знаю, что вы хотите сказать. Только это напрасно. Я никуда не хотел ехать, на этом настояла жена. Самое горькое для нее было бы, если бы отпуск свой я провел в Москве. В санаторий она меня буквально прогнала, молила со слезами.
– Что с ней?
– Она тяжело больна. Гипертония, сердце… А потом нервы никуда не годятся.
– Она молодая?
– Ей двадцать восемь лет.
– Николай Сергеевич, я обещаю: все, что вы скажете, будет для меня свято. Но я прошу, скажите, что она сделала такое, за что вы ее боготворите?
– Не нужно, Лиля. Воспоминаниями своими я боюсь испортить вам вечер. В этом рассказе будет больше печального, чем радостного.
– Николай Сергеевич, неужели я из тех, кого нужно только веселить? – Во взгляде Лили вспыхнули искорки упрека.
– Нет, я не думаю так, но мне просто трудно говорить об этом. Тут всплывет все: война, госпитали, плен…
– Вы были в плену?
– Да, я был в плену.
– И долго?
– Три года.
– И там вы познакомились с женой?
– Да… Почти.
– Ох, как это интересно! – Лиля всплеснула руками, но тут же устыдилась – радость ее была не совсем уместна. – Вы извините меня, Николай Сергеевич, за мою выходку! Я просто хочу узнать о вас немножко больше.
Струмилин налил себе рюмку водки, Лиле – сухого вина.
– Давайте выпьем за таких друзей, которые знают цену дружеского долга.
– За друзей! – поддержала Лиля, и они чокнулись.
Струмилин запил водку нарзаном и закурил. Лиля тоже закурила. Глядя на Струмилина, она выпустила красивое кольцо дыма.
А Струмилин, подперев голову ладонью, смотрел куда-то через плечо Лили, туда, где на стене была нарисована темная скала и разбившаяся в пенные брызги волна.
– Наш полевой госпиталь попал в окружение под Смоленском. Это были тяжелые дни отступления. Вместе со мной в хирургическом отделении работала и Лена.
– Лена?
– Да, моя теперешняя жена. – Струмилин перевел взгляд на открытое окно, за которым бушевала говорливая вечерняя Одесса. – Вместе с тысячами других пленных нас привезли в одном эшелоне в Дрезден. До места назначения доехали не все, многие погибли в дороге: от болезней, от голода. Некоторые были расстреляны за малейшее неповиновение или просто за то, что ослабли духом и телом. Лена переносила плен легче других. Дорогой она помогала ослабевшим. – Струмилин помолчал, закурил и продолжал: – А потом… Что было потом – об этом нужно рассказывать долго. Об этом нужно не рассказывать, а писать романы. Такие романы, над которыми заплачут камни. Я работал на химическом заводе в Дрездене, Елена в это время работала у бауэра. Дважды спасала она меня от голодной смерти, дважды устраивала мне побег. За один из них она поплатилась…
– Ее жестоко наказали?
– Да, ее наказали на всю жизнь.
Скорбное выражение лица, с которым были произнесены эти слова, тронули Лилю. Расспрашивать дальше она не решалась. А захмелевший Струмилин рассказывал:
– Если бы наши части пришли в Гамбург днем позже, она вряд ли бы осталась живой.
– А теперь? Это, очевидно, сказывается на ее здоровье? – осторожно вставила Лиля.
– Теперь она тяжело больной человек. А в прошлом году в придачу ко всем ее несчастьям у нее отняли ногу. Вы представляете, что значит женщине потерять ногу?
– Это ужасно! Это ужасно! – Лиля приложила ладони к пылающим щекам. В эту минуту ей были противны бессмысленно улыбающиеся физиономии разомлевших от вина и чада женщин, которые, положив оголенные руки на плечи своих кавалеров, под звуки хохочущего саксафона плыли между столиками в голубоватых облаках папиросного дыма.
Кто-то в углу окончательно захмелел, буйно стучал кулаком по столу и выкрикивал:
– Нет, позвольте!.. Я не согласен!.. Вы бросьте мне эти штучки!
– Пойдемте, Николай Сергеевич, отсюда! Здесь так душно, а потом уже поздно.
Струмилин поднял на Лилю печальный взгляд. Кажется, он не слышал последних слов Лили.
– Вот видите, как в жизни бывает все просто и не всегда красиво. А чаще – тяжело. Позвольте мне заказать еще вина?
– Нет-нет, Николай Сергеевич, уже достаточно, мы и так много выпили. Я совсем пьяна и не знаю, как мы будем добираться до санатория.
Струмилин вылил оставшуюся водку в фужер и, не чокаясь с Лилей, выпил.
Они вышли из ресторана. Дерибасовская улица не умолкала. Со стороны моря тянул солоноватый, с запахами мазута и гари ветерок. Слышно было, как море своим крутым девятым валом накатисто билось о берег.
С Дерибасовской Лиля и Струмилин свернули на Приморский бульвар. Оба молчали и оба не чувствовали тягости от этого молчания.
Остановившись у каменной балюстрады, за которой шел крутой спуск вниз, Лиля стала пристально вглядываться в темноту, где глухо ворочалось и жило своей извечно неспокойной жизнью Черное море.
У пристаней и причалов горели огни. Цепочка огней тянулась и над узкой насыпной дамбой, которая тонкой змейкой убегала в темную и тяжелую, как расплавленный гудрон, бухту.
– У вас есть дети? – спросила Лиля, когда Струмилин пытался прикурить.
Третья спичка гасла на ветру.
– Дочь.
– Сколько ей?
– Три года.
– А раньше у вас были дети?
– Был сын, но умер четыре года назад… – Струмилин вздохнул. – До сих пор не могу примириться с мыслью, что его нет.
– Сколько было ему?
– Четыре года. Он уже учился играть на скрипке, знал много букв.
Лиле показалось, что на глазах Струмилина навернулись слезы. Она как-то сразу вся съежилась и, сложив на груди руки, круто повернулась к нему.
– Пойдемте домой, уже поздно.
Дорогой Лиля пыталась развеселить помрачневшего Струмилина, рассказывала новейшие анекдоты, тормошила его за рукав… Но, кроме вымученной вежливой улыбки на лице его, она ничего не могла заметить. Временами Лиля плечом своим ощущала, как туго напряглись сильные мышцы рук Струмилина, видела, как твердо сжимался его энергично очерченный рот, через нижнюю губу которого проходил шрам.
На улице, где находился их санаторий, дремали старые развесистые каштаны, сквозь густые кроны которых кое-где проступали рваные клочья неба, усеянного немыми печальными звездами. Каштановая аллея походила на зеленый туннель, по которому рядом шли два человека. Шли и молчали.
У ворот, где Лиле нужно было сворачивать к женскому корпусу, Струмилин остановился. Крепко сжав ее руку, он тихо сказал:
– Спасибо, Лиля. Спасибо за все. Вы добрая, хорошая. Спокойной вам ночи!
Струмилин освободил из своих ладоней руку Лили и слегка поклонился.
– Спокойной ночи, – тихо ответила Лиля. Ей что-то еще хотелось сказать на прощанье, но она раздумала. Круто повернулась и нырнула в темную аллею, где в просветах замелькало ее ситцевое платье.
II
Что тянуло Лилю к этому невеселому человеку, она никак не могла понять. Несколько раз мысленно пыталась урезонить себя, что дружить девушке с женатым человеком – это не только дурной тон, но и глупая трата времени. Не исключена возможность, что именно здесь, на курорте, она может встретить человека, с которым свяжет свою судьбу. Много разных мотивов мысленно выставляла Лиля против дружбы со Струмилиным, но всякий раз, как только оставалась одна, начинала думать о нем. Она знала, что не увлечение, не легкомысленная влюбленность, а какое-то глубокое, братское сострадание все сильнее и сильнее толкало ее к Струмилину, который ни единым словом, ни единым жестом не нарушил святую, запретную грань товарищества. Это благородство ее нового друга, который посвятил ее в тайны своей тяжелой биографии, иногда приводило Лилю в восхищение. В Струмилине она видела человека, для которого долг и чистота в дружбе превыше всего.
Но выпадали дни, когда Струмилин был по-детски беспечен и весел и не походил на того обычного Струмилина, каким всегда знала его Лиля. В такие часы он часто проводил время в бильярдной, где слыл непревзойденным игроком. Когда и где он научился этому искусству – Струмилин так и не сказал Лиле, отделавшись шуткой.
А последние два дня Струмилин почти не выходил из бильярдной. Десятки раз обыгранный им кавказец по имени Шота Лукидзе свои проигрыши переживал тяжело. А после обеда он привел неизвестного пожилого мужчину из другого санатория и, горячась и сверкая глазами, стал держать пари на проигрыш Струмилина.
На деньги Струмилин не играл. Незнакомцу из другого санатория он поставил условие: если тот проигрывает, то вместе со своим приятелем кавказцем должен лезть под бильярд и десять минут сидеть под столом. Если проиграет Струмилин – он должен просидеть под столом за двоих – двадцать минут.
И без того горячий Шота Лукидзе еще больше кипятился. Подзадоривая своего флегматичного дружка принять условия Струмилина, он не стоял на месте.
Незнакомец согласился.
Вскоре просторный зал незаметно заполнился отдыхающими. Даже женщины, которые очень редко заходили в бильярдную, и те, узнав, что один играет против двоих и что проигравшие должны сидеть под столом, пришли полюбоваться турниром.
Бледная от волнения, Лиля стояла у окна и следила за каждым движением Струмилина и его противников. Никогда она не была таким ярым болельщиком, как в эти минуты. Она не могла допустить даже мысли, чтобы хмурый и большой Струмилин, под хохот и улюлюкание всего санатория, мог сидеть под столом.
Арбитрами, которые при надобности могли прибегнуть и к физической силе, были назначены два здоровенных шахтера из Донбасса и белобрысый крепыш в морской форме, который от нетерпения затолкнуть неудачника под стол, потирал руки и приседал после каждого удара кия о костяной шар.
Когда счет был четыре три в пользу Струмилина, кавказец выхватил кий из рук своего партнера и решил бить сам. Ударил и промахнулся. Промах его болельщиками был встречен гулким вздохом. Два последующих точных удара Струмилина увеличили счет до шести. У Шота Лукидзе и его приятеля было три шара.
Вне себя от ярости кавказец сверкал глазами. Закусив нижнюю губу, он долго целился. Удар на этот раз был точный и сильный. Трудный шар висел в сетке лузы.
– Шесть четыре! – громко объявил старичок маркер, который с трудом сдерживал напирающих болельщиков.
Еще два точных шара, посланных грузином, легли в среднюю и угловую лузы.
– Шесть шесть, – торжественно провозгласил маркер.
Выражением лица, тоном голоса и всеми манерами старого бильярдиста он давал знать, что развязка близится.
В глазах Шота Лукидзе вспыхивали фосфорические зеленоватые огоньки скрытого ликования, когда он, пригнувшись и затаив дыхание, увидел, что шар плавно остановился у самой лузы. Он должен был бить.
– Прошу не шуметь, – сказал Шота и обвел окружающих горячим взглядом. Такие глаза Лиля видела у кавказцев, когда они танцуют лезгинку.
Удар был сочный, с глуховатым тяжелым цоканьем. Костяной шар пошел в лузу, даже не коснувшись железных ободков.
– Чистый! – выдохнул кто-то из толпы.
Лиля забралась на подоконник. Не думая, что это не совсем прилично, она хрустела пальцами. Боялась за Струмилина. Она не хотела видеть его сидящим под столом.
– Семь шесть! – точно заведенный механизм, отмечал ход игры знающий свое дело маркер.
Лиля следила за противниками с затаенным дыханием. По бледному лицу Струмилина она видела, что тот волновался: Теперь она молила только об одном: чтобы кавказец не забил последний, решающий шар. И ее «молитва» сбылась. От радости она чуть не вскрикнула, когда последний удар разгоряченный Шота Лукидзе сделал неточно. Почти верный шар пошел чуть левее и застрял в воротах лузы. Многие, кто с напряжением наблюдал за игрой, ахнули. Со всех сторон полетели обрывки реплик.
– Верный!
– Давай, Москва, поднажми! Тбилиси в панике.
– Не торопись, Сергеич!
– Держи кий тверже!
– Чуть левее!
Два шара, забитые Струмилиным, решили исход игры. А азарт его противников достиг высшего накала.
– Под стол!
– А ну, шахтерики, пихай их туда!
– Давай, давай, генацвали, не упирайся! Сам напросился, – кричали болельщики.
Оробевший приятель кавказца, очутившийся в крепких руках моряка и шахтера, сам послушно юркнул под стол и, не переставая улыбаться, с глупым видом водил глазами по сторонам. Шота Лукидзе затолкали под стол чуть ли не насильно. Он все рвался вперед и настаивал переиграть партию, так как во время последнего удара его якобы кто-то толкнул сзади. Но не успел он до конца высказать своей претензии, как очутился под столом рядом со своим партнером.
Десять минут в бильярдном зале стоял разноголосый хохот. Сбежалось полсанатория. Главный врач, заслышав шум из флигеля массовых игр, тоже прибежал узнать, не случилось ли что такое, за что ему придется отвечать. Две старые няни из дальнего корпуса, которые заходили в бильярдную в год раз, когда их наряжало туда на уборку начальство, переваливаясь, как белые гусыни, тоже приковыляли посмотреть, что здесь за гвалт.
Маленький, с седым ежиком коротко остриженных волос и с такой же белой щеткой бороды, главный врач только разводил руками и под общий гогот приговаривал:
– Ну и баловники же! Ну и сорванцы! До чего только не додумаются!
Прошло девять минут. Морячок, державший на ладони часы, лихо присвистнул и, взмахнув рукой, известил:
– Идет последняя минута сидения!
Яростно сверкая глазами, неукротимый кавказец несколько раз порывался вынырнуть из-под стола, но его снова и снова водворял туда высокий плечистый парень в сетчатой майке.
Лиля стояла на подоконнике и, восторженно хлопая в ладоши, скандировала:
– Замечательно! Замечательно! Николай Сергеевич, браво! Я вас поздравляю! Вы молодец!
Напрасно Лиля думала, что Струмилин не замечал ее в толпе. Избегая встретиться с ней глазами, он все время чувствовал на себе ее тревожный взгляд. Особым, внутренним зрением, он скорее ощущал, чем видел, ее в пяти шагах от себя. И эта близость Лили еще больше волновала его и подогревала в игре.
Кавказец и его партнер из-под стола вылезли под аплодисменты зала. Оба они, словно всенародно высеченные, глупо и виновато улыбались.
Когда зал несколько утих, Шота Лукидзе снова начал приставать к Струмилину.
– Давай еще играть! А?
– Нет, больше не хочу. – Струмилин старался отвязаться от разгоряченного кавказца.
– Нет, так нельзя! Так не играют! Не имеешь права! Давай еще партию!
– Струсил! – выкрикнул кто-то из болельщиков.
– Конечно, струсил! – напирал на Струмилина кавказец. – Э, а говоришь, игрок! Ты слючайно выиграл этот партий! Давай еще сыграем! Хочешь – будем на деньги играть? Хочешь, а?
– На деньги не играю.
– Ну, давай под стол играть. А?
Кавказец, которого подбадривал кто-то из зевак, наступал на Струмилина все сильнее и сильнее. Наконец он вывел его из терпения. Раздосадованный, Струмилин окинул взглядом окружающих и, найдя среди них Лилю, которая всем своим видом благословляла его на новую партию, громко произнес:
– Играю! Только при одном условии.
– Принимаю все условия! Какой твой условий? – Непоседливый кавказец уже натирал мелком кончик кия. Его партнер незаметно исчез.
– Если проиграете – лезете под стол и поете там «Сулико».
По залу прокатилась волна хохота. Кто-то громко аплодировал выдумке Струмилина.
– А если проиграешь ти? Ти что будешь петь? – Шота Лукидзе остановился, не зная, какую песню назначить своему противнику.
– Шумел камыш! – подсказал кто-то из толпы.
Слова эти тут же потонули в хохоте одобрения.
– Шумел камыш! – запальчиво повторил кавказец и, схватив из рук маркера кий, снова принялся натирать его кончик мелом. – Шумел камыш!
Вдохновение навещает не только поэтов и музыкантов. Оно иногда приходит и к игрокам. Первый удар по жребию достался Струмилину. Движения его были неторопливы и плавны, как у рыси, приготовившейся к последнему, решительному броску на свою жертву. Не замечая никого в зале, он замер, склонившись над зеленым сукном бильярдного поля.
Удар – и шар в лузе. Еще удар – и еще шар.
После третьего, мастерски забитого шара болельщики пришли в восторг.
– Давай, Москва, давай!
– Семерку, семерку, наверняка пойдет!
– Не горячись!
А ну-ка дай жизни, Калуга,
Ходи веселей, Кострома! —
фальцетом пропел в дальнем углу мужчина средних лет.
Более двадцати лет играл Струмилин в бильярд. Еще школьником начальных классов он ходил в Дом пионеров в бильярдную секцию, и постепенно игра эта стала его страстью. Но за все минувшие двадцать лет только раз выпало ему счастье забить подряд восемь шаров. Это было три года назад, в Москве, в Доме журналистов, куда они зашли «скрестить кии» со своим старым приятелем, с которым оспаривали первенство еще в Доме пионеров.
И вот теперь снова.
Под аплодисменты болельщиков, которые с каждым точным ударом все больше и больше приходили в раж, Струмилин забил все восемь шаров. Такая победа случилась у него второй раз в жизни. На лбу от напряжения выступили мелкие капельки пота.
Когда последний, восьмой шар уже покачивался в средней лузе, кавказец попытался прошмыгнуть к выходу, но тут же очутился в крепких руках моряка и шахтера. Под стол его все-таки посадили, но петь он не хотел.
Неизвестно, до какого скандала дошла бы эта забава, если б не главный врач. Видя, что взбудораженная публика настойчиво и рьяно требовала выполнить условия пари, он решил, что игра принимает нехороший оборот. Упрямый кавказец, который дрожал всем телом от позора и неудачи, готов был скорее кончить жизнь самоубийством, чем петь под столом «Сулико».








