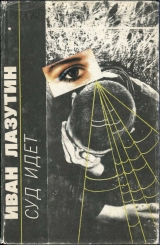
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)
XIII
Снежинки медленно и плавно переворачивались в морозном воздухе. Они падали на застывшие в немом и вечном молчании памятники, на обнесенные железными изгородями холмики и могильные плиты, на покосившиеся кресты, на продрогшие кладбищенские березы. Падая на обнаженные головы людей, на их лица, снежинки таяли, растекаясь маленькими прозрачными струйками. Не таяли снежинки только на восковом лице покойницы. Время от времени их смахивала заботливая рука уже немолодой женщины, стоящей у изголовья гроба. Это была мать Елены. Рядом с ней, прижавшись сиротливым воробышком с печальным личиком, ежилась в своей цигейковой шубке Таня. Время от времени бабушка склонялась над ней и целовала ее в пухлую румяную щеку.
Проститься с покойной пришли ее сослуживцы, старые однополчане, с которыми Струмилины поддерживали дружбу. Произносили трогательные речи. Собственно, это были не речи, а последние прощальные обращения, перемешанные со слезами и приглушенными рыданиями.
Струмилин стоял у изголовья гроба и смотрел на покойную жену. Ему казалось, что она уснула. Его и без того худые щеки ввалились еще сильнее. Залысины крутого лба, казалось, глубже врезались в шелковистые пряди мягких волос, о которые он когда-то в юности ломал расчески. Теперь эти волосы поредели, пожухли и утратили свой прежний золотистый отсвет.
А снежинки все падали и падали серебристыми узорчатыми кристалликами на восковые мертвые венки. На траурной ленте, обвивающей гроб, было написано: «Дорогой жене и матери от мужа и дочери».
Всего лишь три человека не знали покойницу при жизни. Двое из них были могильщики, на лицах которых проскальзывало нескрываемое недовольство затянувшейся панихидой. Один из них, бросая косые взгляды на родственников и друзей покойной, нетерпеливо закуривал третью папироску. Играя от безделья лопатой, он время от времени ознобно – видать, после большого похмелья – подергивал плечами. Старенькая фуфайка плохо защищала от мороза его немощное тело. Он о чем-то приглушенно переговаривался со своим напарником, пожилым человеком с болезненным лицом астматика, который время от времени широко раскрывал рот и, как выброшенная на берег рыба, крупными глотками хлебал морозный воздух.
Покойницу при жизни не знала также молодая женщина, которая стояла чуть в стороне и не сводила глаз с постаревшего и ссутулившегося Струмилина.
Это была Лиля.
Кутая лицо в серую пуховую шаль, концы которой были заправлены под воротник черной котиковой шубы, она боялась, чтоб ее не узнал Струмилин. Ничего она не видела, кроме двух лиц: лица Струмилина и Тани. Глядя на осиротевшую девочку, в глазах которой уже затаилась печаль, Лиля беззвучно плакала, незаметно вытирая слезы шерстяной варежкой.
Последнее время Лиля много думала о Струмилине, о его больной жене, о дочери. И чем больше думала о них, тем дороже становился для нее этот оттолкнувший ее человек. Тайком, через соседку, она узнавала о семье Струмилиных, несколько раз пыталась даже поговорить с ним по телефону, но всякий раз, когда трубку брал сам Струмилин, она, затаив дыхание и бледнея от страха, поспешно вешала трубку и выбегала из телефонной будки. После этого Лиля часами ходила по улицам Москвы и постоянно ловила себя на мысли: неужели она ждет смерти Елены? «Нет, нет!.. Это безумие! Это нравственный садизм… Пусть она живет!»
Но не проходило и недели, как Лиля снова с тревогой набирала номер телефона квартиры Струмилиных и, когда слышала из трубки незнакомый старческий голос соседки, подробно расспрашивала ее о самочувствии больной Лены. Наивная, бесхитростная и, как видно, очень простодушная старенькая соседка Струмилиных притушенным голосом рассказывала Лиле о том, что дни Лены сочтены, что сам Николай Сергеевич ни днем, ни ночью не отходит от постели умирающей жены, что он очень измучился, одни глаза остались.
А три дня назад тот же старушечий голос известил Лилю о смерти жены Струмилина и сообщил, что похороны будут на Преображенском кладбище в три часа дня.
Зачем она ехала на кладбище? Какая сила тянула ее туда, где она наверняка увидит безысходную тоску и печаль в любимых глазах? На что она надеялась? – Лиля не думала. Скорее всего ею двигало чисто материнское чувство необходимости быть в тяжелую минуту опорой для единственно дорогого человека.
В десять часов утра, после бессонной ночи, она позвонила новому директору универмага и сказала, что плохо себя чувствует, что на работу выйти не может.
А в третьем часу Лиля была уже у ворот Преображенского кладбища. Она долго бродила между памятниками, читала надписи на могильных плитах и время от времени с боязнью и тревогой посматривала туда, откуда должны внести на кладбище гроб с телом покойной. Но гроб все не вносили. Лиля подошла к двум могильщикам, которые только что закончили рыть могилу. Вытирая рукавицами потные лбы, они сидели на гранитной плите соседнего памятника и курили.
– Чья это могила? – спросила Лиля, взглядом показывая на свежую яму.
– Человечья, дочка, человечья, – флегматично ответил пожилой могильщик с болезненным, астматическим лицом.
– Я пришла проститься с покойной… Ее фамилия Струмилина. И не знаю, где будут хоронить. На другом конце кладбища тоже роют могилу.
Могильщики лениво переглянулись. Тот, кто помоложе, с хищноватым разбойным оскалом, затушил в снегу окурок, сплюнул сквозь зубы и кольнул Лилю недобрыми глазами.
– Кто хозяин-то, доктор, что ли?
– Да, он врач.
– Здесь, – протянул могильщик и тут же добавил: – Сейчас должны поднести, что-то задерживаются.
Лиля отошла от могилы и села неподалеку на скамейку у часовни, так, чтоб ее не смогли заметить, когда будут подходить Струмилины.
Вскоре из-за каменной арки ворот показалась траурная процессия. Гроб несли четверо высоких мужчин. Лиля издали узнала Струмилина. За гробом на атласных подушках несли боевые ордена и медали покойной. Были в процессии и военные. Рядом с пожилой женщиной, которая вела Танечку, тяжело ступал немолодой генерал. В правой руке он держал серую каракулевую папаху, левой – время от времени потирал ежик седых волос. Дальше тянулись согбенные, с заплаканными глазами женщины, молодые девушки, мужчины в военном и в штатском.
Началась гражданская панихида. Лиля поднялась со скамейки, стряхнула с шубы снег и незаметно подошла к склонившимся над гробом людям. Ей хотелось посмотреть хоть мертвое лицо Елены. Забыв о том, что ее может увидеть Струмилин, она забралась на могильный холм, опираясь рукой на покосившийся крест. Лицо покойной было торжественно умиротворенным. Даже в гробу жена Струмилина Лиле показалась благородносвятой. На лице ее не было отпечатка мук, которые переносила больная в последние месяцы жизни.
Тихо плакала мать Лены. Всхлипывала продрогшая Танечка, плакали друзья… Потом по очереди подходили к изголовью и целовали белый холодный лоб Лены.
Когда к изголовью поднесли Таню, Лиля, как от удара, закрыла лицо ладонями. Ее душили рыдания. Даже на глазах строгого генерала навернулись слезы, которые он смахнул кожаной перчаткой. Лиля видела, как по худой щеке Струмилина скатилась слеза, оставив за собой влажную полоску. Никогда не могла она представить себе плачущим этого большого, сильного человека.
Послышались глухие удары молотка – забивали крышку гроба. Кто-то из женщин не выдержал и заплакал в голос. Ее стали успокаивать. Лиля отвернулась. Больше она не в силах была смотреть на лица людей, понуро склонившихся над гробом. Потом она отчетливо слышала, как, заглушая женские всхлипывания, металлически позвякивали две железные лопаты, как глухо падали на крышку гроба сыроватые комья глины, как все тише и глуше доносились до ее слуха эти земляные звуки.
Прячась за мужские спины, Лиля избегала встретиться взглядом со Струмилиным.
Вскоре над могилой вырос коричневый глиняный холмик. Могильщики возложили на него венки. Здесь не было человека, который подавал бы команды и руководил церемонией похорон. Все получалось как-то само собой, стихийно, по неистребимо живущему в крови каждого славянина наитию, которое определяет в минуты горя всему свой черед и меру. Кое-кто из мужчин стал надевать шапки. Женщины, вздыхая, тихо переговаривались. Кто-то стал потихоньку подвигаться к тропинке, ведущей к кладбищенским воротам.
С плиты соседней могилы Лиля наблюдала за Струмилиным и за Таней. Все, кроме нее, имели право быть рядом с ними, только не она, не Лиля, для которой, может быть, эти два человека были всех дороже.
Как побитая, шла она в хвосте процессии, плывущей к воротам кладбища. А когда все вышли за арку, Лиля незаметно свернула в тихий пустынный переулок.
Пахло снегом и, как показалось Лиле, восковыми свечами. На углу небольшой лавки она прочитала вывеску: «Цветы». Вошла. Стены магазина были увешаны надгробными венками. На полу и на подоконниках стояли белые плетеные корзины с печальными гортензиями. Лиля отогрела о теплую батарею замерзшие руки. На оставшиеся деньги купила корзину цветов. Вышла на улицу и медленно побрела в сторону кладбища. Могильщики, которые полчаса назад зарыли жену Струмилина, сидели у покосившейся часовенки, разложив на газете хлеб и колбасу, разливали по стаканам водку. Мужчина с хищноватым оскалом встретился взглядом с Лилей и что-то сказал своему партнеру. Слов его Лиля не разобрала, но по выражению лица говорившего поняла: по ее адресу было сказано что-то резкое, грубое.
Корзину с цветами Лиля поставила у подножия могилы. Несколько минут постояла в молчании.
На самом донышке души нет-нет да и вспыхивала теплыми искрами смутная, пока еще неведомая надежда. «Ну кто, кто ему заменит ту, на которую он молился? О, если б он не оттолкнул! Я бы любила его, как брата. Его дочери я стала бы матерью… Услышь меня, родной!..»
XIV
Воскресенье Шадрин с утра до вечера провел в Ленинской библиотеке. Пришлось долго повозиться в архиве, перевернуть груды контрольных талонов, чтобы, наконец, к полудню, добраться до требований Баранова, которые он заполнял, находясь на свободе.
То, что узнал в этот день Шадрин, его потрясло: все книги, выписанные Барановым, были по психиатрии. Французские ученые Porot, Fribourg Blang, Mairet, виднейшие немецкие психиатры Klineberger и Крепелин, известные русские ученые Корсаков, Краснушкин, Бунеев, Осипов, Фелинская… Каких только авторов здесь не было! За полмесяца Баранов познакомился с множеством сборников по судебной психиатрии. Кое-где на полях книг встречались карандашные пометки, сделанные рукой Баранова. Некоторые абзацы были особо подчеркнуты тем же карандашом. На полях стояли пометки: «Выписать».
Сомнений не было: Баранов симулирует. «Но как искусно, как тонко и профессионально неуязвимо симулирует!» – подумал Шадрин. Он вздрогнул, когда в глубине читальни, расколов устоявшуюся академическую тишину, пронзительно прозвенел звонок. Во всем зале осталось только три человека. Дежурная бросала в его сторону из-за своей стойки предупредительные взгляды («Уже пора домой!»), а Шадрин никак не мог оторваться от книг, которые читал Баранов.
Когда вышел на улицу – в голове все смешалось. Имена известных психиатров, анамнезы, диагнозы, медицинские заключения, описанные случаи из клинической практики врачей-психиатров – все это вихрилось, путалось хаосом. И лишь одна мысль то и дело выныривала из этого нагромождения еще не устоявшихся понятий и зримых картин: «Симулирует. Гениально симулирует!»
На второй день рано утром Шадрин сидел за столиком в своем кабинете и составлял план дополнительного расследования дела Анурова и тройки. Он поспешно записывал:
1) Немедленно перевести Баранова из психобольницы в Институт судебной психиатрии. Необходима квалифицированная экспертиза. Такой волк обведет доверчивых врачей в больнице, как ягнят.
2) Как только Баранова переведут в институт на экспертизу, немедленно сообщить врачам-экспертам то, что Баранов в течение двух недель (почти весь отпуск) просидел в читальне Ленинской библиотеки, занимаясь психиатрией. Указать книги и сборники, которые он читал.
3) Еще раз хорошенько проверить версию – почему Ануров, Шарапов и Фридман так усиленно сваливают 80 % вины на Баранова? Может быть, потому, что он «душевнобольной»? Не было ли предварительного сговора этой ловкой тройки с Барановым, который добровольно взвалил на себя тяжелую и мучительную ношу симулянта, надев маску душевнобольного?
4) Повторно (под этим углом) допросить Фридмана и Шарапова.
Закончив писать, Шадрин позвонил в больницу, где лежал Баранов. Его интересовало состояние здоровья подследственного. Однако, к великому удивлению Шадрина, дежурный врач сообщила, что Баранова с диагнозом шизофрении выписали в субботу.
– Как выписали?! – возмущенно прокричал он в трубку, еле сдерживая себя, чтобы не сказать, какую позорную и непростительную ошибку они допустили. – Кто дал такое распоряжение?
Дежурный врач ответила, что Баранова выписали с разрешения главного врача и прокурора района Богданова сразу же, как только комиссия дала свое заключение о его заболевании.
– Но он же тяжело болен! Можно ли выписывать человека в таком состоянии? – не унимался Шадрин, теперь уже несколько изменив тактику в разговоре.
На это дежурный врач сообщила, что больного Баранова выписали на поруки жены, что лечение он будет проходить амбулаторно, у районного психиатра.
На этом разговор закончился. Шадрин ходил по кабинету и нервно курил. «Да, теперь Баранов на свободе. Теперь лови в поле ветра. На руках у него охранная грамота, для закона он неуязвим… Шизофрения. Представляю, как облегченно вздохнет эта тройка. Теперь они отделаются легким ушибом».
Баранов одним жестом… жестом шизофреника снял с них пятнадцать-двадцать лет лишения свободы.
Шадрин подошел к окну. Он вспомнил: один из советских психиатров писал, что преступники часто прибегают к симуляции душевной болезни. Он даже сделал несколько записей в блокноте. Шадрин метнулся к столу и раскрыл блокнот. На одной из страниц было записано: «В 1943 г. Осипов отметил, что по мере развития психиатрии и ее популяризации способы симулирования психозов становятся тоньше и сложнее».
Шадрин был глубоко убежден, что Баранов ловко провел психиатров и теперь похихикивает над ними. Но что делать? Что мог предпринять он, Шадрин, рядовой следователь прокуратуры, когда разговор идет о здоровье человека? Имел ли он моральное право восстать против мнения специалистов и, опираясь на одну лишь интуицию и следовательское чутье, заявить о своих подозрениях в категорической форме? Не посмеются ли над ним? Не сочтут ли его коллеги просто-напросто выскочкой, который от усердия не стоит на месте и бьет копытом, как необъезженный конь?
Ответов на эти вопросы Шадрин не находил.
С этими мыслями он вошел в кабинет к прокурору и обстоятельно доложил о своих подозрениях и соображениях. Показал даже выписки, которые сделал в Ленинской библиотеке.
Богданов слушал Шадрина молча, не перебивая, и, когда тот кончил, он устало вздохнул.
– Все?
– Разве этого мало? – робко возмутился Шадрин. Он ждал, что прокурор похвалит его за старания, за то, что он, не считаясь с собой, пожертвовал во имя дела воскресеньем.
– Все это просто не нужно. Органы расследования имеют дело с людьми здоровыми. Больные – объект врачей. Пусть они и колдуют над Барановым. – Он поднял на Шадрина явно недовольный взгляд. – Вы что – не согласны с медицинским заключением специалистов? Ставите под сомнение диагноз людей, которые этому отдали полжизни?
– Да, не согласен, – твердо ответил Шадрин.
– И что же вы хотите? – мягко спросил Богданов, Шадрин с каждой минутой раздражал его все более и более.
– Я настаиваю, чтобы Баранова направили на квалифицированную судебно-психиатрическую экспертизу.
– Мы этого сделать не можем.
– Мы это сделать должны!
Богданов встал, слегка потянулся и, сдув со стола табачинки, спросил, не глядя на Шадрина:
– А если я этого вам не позволю?
– Тогда я вынужден буду написать рапорт прокурору города. Тут дело не только в одном Баранове и в его симуляции. Дело в том, что его квазишизофрения развяжет руки Анурову, Шарапову и Фридману. А я уверен, что здесь кроется тонкая, заранее расписанная игра. И ее нужно распутать. Это мой долг. Я веду это дело.
– Хорошо. – Прокурор сел в свое кресло и, поджав губы, некоторое время сидел молча, вперившись взглядом в пуговицу пиджака Шадрина. – Я разрешаю вам направить Баранова на судебную экспертизу в институт Сербского. Но знайте, товарищ Шадрин, если диагноз Баранова подтвердится, если расследование затянется по вашей вине, мне это не понравится. Я уважаю настойчивых и твердых людей. Но не люблю спесивых и выскочек. Знайте это наперед.
Последняя фраза прозвучала как пощечина. Шадрин стоял перед прокурором и не знал, что ответить.
– Готовьте постановление, я подпишу.
Шадрин вышел.
В этот же день Баранова направили на экспертизу в Судебно-психиатрический институт имени Сербского.
Когда Шадрин возвращался с работы, на ум неожиданно пришла мысль, вычитанная в одной из статей по психиатрии. Оказывается, нередко наблюдаются случаи, когда некоторые душевнобольные, зная о своем недуге, начинали усиленно читать литературу по психиатрии. А у некоторых больных пристрастие к такой литературе становится порой идеей-фикс.
«А что, если врачи-психиатры правы? – с тревогой подумал Шадрин. – Что, если Баранов вот именно такой больной?.. Тогда Богданов прав: я выскочка, я просто шарлатан, а не следователь…»
Не успокоившись, Шадрин заехал в Ленинскую библиотеку и еще раз внимательно перечитал статью, в которой описывались случаи, когда душевнобольные (чаще всего это бывает с шизофрениками) усиленно изучают психиатрию.
– Да-а… – вздохнул Шадрин, выходя из библиотеки. – Семь раз отмерь – один раз отрежь… Еще древние римляне говорили: «Festina lenta»[1]1
Торопись медленно (лат.).
[Закрыть].
XV
– Наталья Андреевна, вы просили историю болезни Баранова.
Профессор Введенская оторвалась от газеты.
– Да… Хорошо… Пожалуйста, оставьте. А журнал наблюдения?
– Здесь.
– Как сегодня ведет себя Баранов?
– Беспокойнее.
– Ну, хорошо. Ступайте. Нет, прошу вас, Ирина Петровна, пожалуйста, передайте моему ассистенту, чтобы он спустился вниз и встретил в бюро пропусков следователя по фамилии Шадрин. Пусть приведет его ко мне.
Профессор Введенская просмотрела историю болезни Баранова и остановилась на журнале наблюдений. Она внимательно читала записи:
«18 марта. Утро.
Т° – 36,7. От завтрака отказался. По-прежнему ходит на носках. Стали уговаривать принять пищу, заявил, что он разгадал намерения врачей и сестер, что у них все равно ничего не получится. Даже если им и удастся отравить его, все равно труд его жизни в их руки не попадет.
Так и не дотронувшись до пищи, лег в постель. Пролежал неподвижно до обхода. При виде врачей испытывает беспокойство. Спросили: чем встревожен? Ответил: «А все-таки она вертится». Больше от него не добились ни слова.
До обеда лежал в постели. Когда мимо его койки проходили больные, зажимал рот и нос руками. Зачем? Ответить отказался.
Вечер.
Т° – 36,7. С трудом уговорили принять обеденную пищу. Диетсестре пришлось на глазах у больного съесть из его тарелки несколько ложек. Только тогда притронулся к еде. После обеда залез под кровать. Вытащили с трудом, сопротивлялся. Утверждал, что чем выше, тем пары цианистого калия плотнее. Вероятность отравления вверху больше.
Плакал. Просил соседа выбросить пачку отравленных сигарет. Пачку выбросили на его глазах. Несколько успокоился. Пообещал за это соседу принять его в своей резиденции в числе первых паломников-посетителей. Заявил, что его очередь будет после Рокфеллера, Ротшильда и Форда. На вопрос сестры: «Когда будет прием, в какие часы?» – ответил: «Как только моя идея завладеет умами человечества».
Весь вечер чувствовал себя возбужденным. С больными необщителен. Сторонится их. Все просил карандаш. Дали карандаш, но писать не стал. Что-то затаил.
После ужина умилился до слез, когда набожный Федотов упал перед его койкой на колени и долго на него молился. Пообещал принять Федотова пятым. Только просил его, чтоб он молился на него и по утрам. Уснул вовремя.
19 марта. Утро.
Т° – 36,5. С трудом заставили умыться. Зубы чистить отказался – убеждал, что ночью кто-то подсыпал ему в зубной порошок белого цианистого калия. Бросил порошок в урну. Когда шел в столовую, опасливо обошел ее. До самого обхода держал нос и рот зажатыми. После обхода осенила идея. Намочил полотенце и завязал им рот и нос. Стал дышать через мокрое полотенце. Явления мутизма ярко выражены».
В кабинет тихо постучали. Введенская, чтобы, очевидно, не забыть при беседе, записала в настольном календаре: «Шадрин, следователь».
В сопровождении молодого ассистента вошел Шадрин.
– Чем могу быть полезной, товарищ Шадрин? – приветливо улыбаясь, спросила Введенская, вставая из-за стола. – Вы так настойчиво добивались встречи со мной…
Шадрину бросилось в глаза: несмотря на свои сорок лет, Введенская, как и три года назад, когда он слушал ее лекции по судебной психиатрии, по-прежнему была красива той неувядающей женской красотой, с которой рождаются, которую проносят через всю жизнь. Только ранняя седина серебрилась заметнее. Улыбка, придававшая ее лицу выражение мягкого обаяния, была все той же, какой ее три года назад видел Шадрин, когда Наталья Андреевна стояла за кафедрой.
В кабинете не было ничего казенного, сугубо больничного, у окна и по углам стояли цветы. Мягкие кресла покрыты гобеленовой тканью, такой же гобеленовой шторкой задернута вешалка.
– По праву вашего бывшего студента я пришел к вам с просьбой, Наталья Андреевна.
Введенская в первую минуту старалась припомнить Шадрина, но так и не припомнила – за ее педагогическую деятельность перед ней прошли тысячи студентов.
– Слушаю вас.
– Я хочу узнать о состоянии здоровья Баранова, который находится здесь на экспертизе.
– Почему он вас так волнует?
Шадрин рассказал о своих подозрениях, сомнениях, о том, что «болезнь» Баранова меняет всю картину расследования серьезного государственного преступления, что диагноз душевнобольного спасает от наказания не только Баранова, но и других лиц, которым на руку его заболевание. Рассказал о «научном труде» Баранова, с которого он снял копию и принес ей, Наталье Андреевне. Рассказал о том, что много часов провел в Ленинской библиотеке, подозревая Баранова в симуляции. Но главное… Главное, что привело Шадрина к профессору Введенской, – это были записи Баранова, найденные в потайнике на даче.
Шадрин достал из папки целую кипу исписанных листов и положил на стол.
– По-моему, это ключ к той роли, которую так искусно играл Баранов.
– Хорошо, товарищ Шадрин, я все это внимательно прочитаю. Только заранее хочу огорчить вас как следователя: знайте, что шизофреники часто кропотливо и упорно изучают медицинскую литературу о своем заболевании. Нередко делают записи, прячут их от родных и близких, иногда даже пытаются сказать свое слово о психиатрии…
– Я читал об этом в ваших статьях, – уныло ответил Шадрин, – но в данном случае… в случае с Барановым… – Он поднял голову. – Я почему-то на сто процентов уверен, что он чистый симулянт. Подсказывает чутье, оно не дает покоя. Я уверен, что Баранов – хитрейший и умнейший делец. Он уже заранее чувствовал, что над ним сгущаются облака, а поэтому решил еще до возбуждения уголовного дела начать свою тонкую игру.
– Все это мы проверим.
– Нельзя ли это сделать побыстрей, Наталья Андреевна?
– Каким образом? – Введенская смотрела на Шадрина, улыбаясь.
– Как-то на лекциях вы говорили, что в Америке в таких случаях для диагностики прибегают к электрическому шоку. Нельзя ли испробовать этот метод? Ведь ничего не случится, здоровью не повредит, а дело не терпит, из рук правосудия ускользают крупные дельцы…
Введенская встала и прошлась по кабинету.
– Электрический шок, говорите?.. Вы должны помнить из лекций, товарищ Шадрин, что наш основной принцип – это гуманизм, предельное внимание и постоянное наблюдение за больным…
На щеках Введенской неожиданно проступил румянец.
Шадрин почувствовал, что поступил неосторожно, напомнив об электрическом шоке. Он вспомнил, что на лекциях Введенская не раз подчеркивала, в чем состоит основной принцип советской судебной психиатрии.
Он поспешил исправиться:
– Наталья Андреевна… простите, я совсем не то хотел сказать… Я просто, очевидно, слишком поверил в свои сомнения и твердо решил, что Баранов – чистый симулянт. Отсюда моя некоторая жестокость. Я не осмеливаюсь больше отнимать у вас время, но хочу просить о единственном. Прочтите, пожалуйста, при мне вот эти страницы. Они написаны рукой Баранова. Тогда, может быть, вам станет понятным, почему я предложил американский метод.
Введенская ничего не ответила и принялась читать мелко исписанные листы.
Пока она читала, Шадрин внимательно следил за выражением ее лица, пытался уловить на нем малейшие нюансы впечатлений от прочитанного, старался почувствовать в нем хоть крохотное согласие с его подозрениями, которые у него переросли в уверенность. Но лицо профессора было непроницаемым. Она продолжала читать записи Баранова.
1. «Мэре (Mairet) рассматривает симуляции применительно ко времени криминального акта. Он выделяет:
а) Предшествующую, или превентивную, симуляцию (persimulation), проводимую в период, предшествующий преступлению, с целью подготовки окружающих лиц к тому, чтобы они восприняли преступление как акт, совершенный в состоянии душевного заболевания.
б) Симуляцию в период совершения преступления (intersimulation) с целью сокрытия истинных мотивов преступления.
в) Симуляцию после совершения преступления (postsimulation), как защитное поведение для избежания ответственности.
Mairet отмечает, что первая форма встречается очень редко, вторая – чаще, наиболее частая – третья форма».
Самое верное, когда все эти три формы слиты воедино. Такая железная «триада» может оказаться не по зубам даже психиатрам.
Наталья Андреевна подняла на Шадрина глаза и долго молча смотрела на него. Ей было не по себе. Выписки были из ее статьи, напечатанной еще до войны в «Проблемах судебной психиатрии». Эту статью она помнила отлично, из-за нее даже поссорилась с одним из членов редколлегии журнала.
– Вы хотите что-то сказать, Наталья Андреевна? – спросил Шадрин.
– Нет, нет… Я просто думаю, странное совпадение…
И она снова погрузилась в чтение.
2. «Ответ шизофреника всегда неожидан, разнообразен, за исключением тех стереотипных ответов, когда шизофреник на различные вопросы отвечает одним словом или одной фразой. Обычно один и тот же вопрос, заданный в разное время, не вызывает одного и того же ответа. Это вполне понятно, т. к. каждый раз вопрос сочетается с новыми образами, «облекается иной плотью» (Эпштейн). Эпштейн с целью эксперимента задавал шизофренику один и тот же вопрос и получал каждый раз новый ответ, имеющий самое отдаленное отношение к существу поставленного вопроса».
Продумать и принять за вооружение. При необходимости – это неплохой элемент тактики. Но только при необходимости. Злоупотреблять им нельзя.
3. «Симулируются обычно лишь отдельные симптомы того или иного психоза, часто противоречиво собранные из различных форм. Эта нетипичность, лоскутность симптоматики чаще всего и заставляют заподозрить притворство. Еще Корсаков в одной из своих экспертиз писал: «Полная гармония симптомов между собой и соответствие их установленному в науке типу болезни дают возможность сделать категорическое заключение, что болезнь не притворная, а действительная».
Слишком утрированное преподношение «болезненной» симптоматики и смешение симптомов различных психозов, не укладывающееся ни в какие клинические рамки, помогает сравнительно быстро вскрывать притворство».
Гармония симптомов. Никакой окрошки! Иначе – крах.
Во всем – мера. Переиграть опаснее, чем не доиграть.
Наталья Андреевна тихо вздохнула, закрыла тетрадь и откинулась на спинку кресла. Улыбаясь, она смотрела на Шадрина.
– Любопытно, очень любопытно…
– Разве это не полное доказательство того, что Баранов тончайший симулянт? Прошу вас обратить внимание на последнюю запись.
– Я на все обратила внимание, товарищ Шадрин.
– Наталья Андреевна, разве этого мало, чтобы сегодня же объявить Баранову, что его игра раскрыта, и перевести его из клиники в Таганскую тюрьму? Его ждут допросы по делу.
– К сожалению, всего этого мало. Но эти записи для нас не последний аргумент. Спасибо, что вы принесли их. Они помогут ускорить диагностику.
Шадрин горячился:
– Какая же тут еще нужна диагностика, когда все ясно?!
– Товарищ Шадрин, положитесь на науку. Если в больнице была допущена ошибка, то в нашем учреждении ее не произойдет. До тех пор пока Баранов не подвергнется полному клиническому обследованию, о Таганской тюрьме забудьте.
– Разрешите еще вопрос, Наталья Андреевна?
– Пожалуйста.
– Теоретически возможно, чтобы эти записи принадлежали душевнобольному человеку?
– Вполне, – ответила Введенская и спрятала в письменный стол журнал наблюдений и записи Баранова.
Шадрин поблагодарил профессора и уже в самых дверях спросил:
– Сколько дней нужно ждать, Наталья Андреевна, чтобы вы сделали окончательное заключение о состоянии здоровья Баранова?
– Столько, сколько на это потребуется.
Шадрин вышел из кабинета.
Уже на улице он подумал: «Да… Вот заварил кашу!.. Вот это Баранов!.. Если он и в самом деле здоровый человек, то при других, счастливых обстоятельствах из него мог бы получиться железный борец. Плохо, что вся его сила, воля и ум пошли по дороге зла».
Вспомнились слова Богданова: «Я уважаю настойчивых и твердых людей. Но не люблю спесивых и выскочек».
На сердце было и тревожно, и смутно. До сих пор не было никакой определенности.








