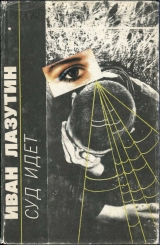
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 35 страниц)
XI
О случае в райкоме Сашка не сказал никому. Ходил нелюдимый, то и дело вздыхал. По ночам вставал курить, чего за ним мать раньше никогда не замечала. На третий день он все-таки решил поделиться горем своим с Дмитрием. Тот сидел в горенке за столом и что-то писал. Сашка подошел к нему тихо, неслышно ступая на носки. Из-за спины он случайно прочитал: «Здравствуй, милая Оля!»
– Мне нужно с тобой поговорить.
Дмитрий закрыл письмо листом бумаги и, плюнув на оселок, принялся точить бритву.
– Разъясни мне, как юрист, имеют право они судить меня или нет?
– За что?
Сашка подробно рассказал о своем посещении райкома и о разговоре с Кирбаем.
– Где сейчас портрет? – не поднимая головы, спросил Дмитрий.
– Стоит в чулане.
– Что ты с ним думаешь делать?
Сашка робко пожал плечами.
– Ума не приложу! Рвать жалко, а вешать… боюсь.
– Повесь дома.
– А не попадет?
– За что?
– Ведь к нам ходят люди, дойдет до Кирбая, что портрет висит, возьмет да и припишет что-нибудь.
Направляя на широком отцовском ремне бритву, Дмитрий сказал:
– Тебя попугали. Ничего за это не будет. А вообще-то, конечно, чтобы рисовать портреты для общественных мест, нужно быть художником. Но это уже другая сторона дела.
После разговора с Дмитрием у Сашки отлегло на сердце. Он сразу повеселел, бодро заходил по избе, бросился в чулан и принес портрет. Освободив лучший угол горенки, где рядками висели фотографии, он пристроил его на самом видном месте и позвал со двора мать.
– Ну, как? – спросил он ее.
– Хорошо… Даже жалко в клуб отдавать.
– А я его никому и не отдам. Пусть висит дома.
Мать поверила Сашке и согласилась с ним: пусть пока повисит дома.
На работу Сашка ушел повеселевший. Попавшийся ему у калитки Васька Чобот тоже заметил перемену в его настроении.
– Все в порядке, Чобот! Картина висит.
– Что, пуклость приделал? – спросил он, кося одним глазом куда-то на огород.
– Конечно! – Сашка дружески потрепал Чобота по шее и направился танцующей походкой вниз по улице.
Старший Шадрин смотрел вслед Сашке и думал: «Весь в отца, даже походка и та отцовская!»
Дмитрий вышел в огород. Мать и Иринка пололи картошку. Дмитрий принялся им помогать, но, вспомнив наказ доктора – избегать низких наклонов, – взялся за ремонт изгороди. С непривычки пальцы рук дрожали. Это он заметил, когда сел отдохнуть у канавы. И снова мучительно захотелось курить. Лег на спину, заложил под голову руки. В небе плыли хлопья облаков. То они походили на профили человеческих голов, то, расплываясь, образовывали контуры различных предметов. Вот это облако чем-то неуловимым напоминало Ольгу, потом оно расплылось, образовав нечеткий силуэт двугорбого верблюда. Дмитрию стало весело от такой метаморфозы. «Обязательно напишу ей завтра об этом, – подумал он, и взгляд его случайно упал на божью коровку, которая ползла по указательному пальцу. Дмитрий принялся следить за ее движениями. Вот она выползла к ногтю, обогнула его и поползла по ладони. «Глупая, ну чего ты ищешь, чего тебе надо, куда ты тычешься? – С этой мыслью он легонько прижал насекомое мизинцем и, видя, что оно не ищет защиты, когда снова отнял мизинец, подумал: Если бы тебе хитрость клопа да прыть блохи, разве ты была бы такой Машей-растеряшей».
Окликнула мать.
– Митя, к тебе гости!
Дмитрий поднял голову и увидел: навстречу ему по стежке шел пожилой мужчина в начищенных яловых сапогах. Несмотря на жару, одет он был в черный суконный пиджак. Не сразу Шадрин узнал в госте Филиппка Блинкова. Только большая родинка на правой щеке, иссеченной морщинами, помогла ему вспомнить, как лет десять назад, еще до войны, он задумывался: отчего у Филиппка на щеке выросла такая большая бородавка, похожая на жухлый старый желудь, с которого слетела кожура?
– С приездом, Егорыч! – сказал Филиппок и, сняв фуражку, поклонился лысой головой.
– Здравствуйте, дядя Филипп, здравствуйте! – Дмитрий приподнялся с земли и, шагая между рядами картошки, вышел на стежку.
– Я к тебе, Егорыч, по сурьезному делу.
Дмитрий видел, что это был уже не тот строгий Филиппок, которого ребятишки боялись как огня и только к нему одному не забирались в огород: ходили слухи, что по ночам Филиппок с ружьем сидит в подсолнухах и подкарауливает огородников. Давно это было, лет пятнадцать назад. Теперь перед Шадриным стоял худощавый мужик лет пятидесяти пяти и кротко смотрел ему в глаза.
– Если по делу, то пойдемте в избу, посидим, поговорим. – Дмитрий тронул Филиппка за локоть.
Время шло к вечеру. На кирпичном заводе, который растянулся своими длинными соломенными сараями за базаром, восемь раз пробили в рельсу. Над головой Со свистом пронеслась утка, Дмитрий не успел поднять голову, как она скрылась из виду. Где-то в болотах заводила свою тоскливую песню выпь.
Дмитрий пропустил вперед себя Филиппка, закрыл ворота, и они вошли в избу. Филиппок положил на сундук фуражку и неторопливо, но уверенно достал из кармана бутылку водки.
– Ты бы мать кликнул, дала бы чем занюхать, – сказал он деловито и вместе с тем с какой-то затаенной опаской: а вдруг сын Егора стал таким интеллигентом, что не захочет с ним выпить по чарке.
– Это уж лишнее, дядя Филипп. Поговорить можно и без этого, – смущенно произнес Дмитрий, боясь отказом обидеть соседа. – Тем более в такую жару.
– Мы по махонькой, Егорыч, отца твоего помянем. Любил, покойничек, он ее, страсть как любил! Но никогда она его не валила. Чур знал, с умом пил. Ведь мы с ним по молодости дружками были. Это уж потом жизнь нас раскидала, как ветром семена.
Дмитрий слазил в погреб, достал со льда тарелку студня, нарезал большие ломти пахнущего анисом пшеничного хлеба и поставил на стол два граненых стакана.
– Только мне совсем немножко, я от нее отвык, дядя Филипп.
– А ты к ней и не привыкал, – с ухмылкой сказал Филиппок. Разрезав пополам луковицу, он обмакнул одну половину в соль. – Я к тебе, Егорыч, по важному делу. За советом пришел. Скажи мне: куда писать жалобу на этого змея?
Филиппок налил полстакана Дмитрию и столько же себе.
– Вы про какого змея?
– Завелся у нас в селе один такой.
– Меня пока еще никто не укусил.
– Ну и слава богу, что не выполз он на твою дорожку. А вот на чью он выползает, тем, брат, худо бывает. Завьется на шее и давит.
Затяжка в разговоре уже начинала раздражать Дмитрия.
– Говорите яснее, дядя Филиппок, кто вас обидел?
– Давай сначала за твое здоровье и за твой приезд выпьем, а потом потолкуем. Я тебе все расскажу. Хотя я и неграмотный, а правду понимаю и люблю ее не хуже любого грамотного. Молюсь я на нее, на эту правду.
Чокнулись. Выпили молча. Луковица сочно хрустнула на крепких зубах Филиппка. На тарелке крупно дрожали под ножом мутноватые отвалы студня.
– Кто же это вам так насолил? – спросил Дмитрий, не спуская глаз с Филиппка, который закусывал неторопливо и с каким-то особенным крестьянским уважением к пище. Отделившиеся от ломтя хлебные крошки он смел в ладонь и ловко подбросил в рот.
– Фамилия ему Кирбай. Ты его должен знать. – Филиппок махнул рукой. – Да кто его не знает, адиота!
– Чем же он встал вам поперек дороги?
– Не только поперек дороги, а поперек горла. Да не рыбной косточкой, а бараньей костью. И не мне одному, Егорыч. Он стал поперек горла и еще кое-кому. Вот как раз за этим-то я к тебе и пришел. Ты, наверно, слыхал про Гараську, моего зятя, да ты его должен помнить. Нюрку мою перед войной сосватал…
– Как же, помню, помню хорошо.
– Взяли его. – Филиппок хмуро отвернулся в сторону. – Упекли.
– За что?
– Как нетрудовой элемент, как обчественный дармоед.
– Он что, нигде не работает?
– Сейчас не работает, но это не по его воле… Ты вот послушай меня и тогда все поймешь. – Филиппок налил еще по полстакана водки и окунул вторую половину луковицы в соль. – Давай-ка, Егорыч, за твою учебу, чтобы толк в ней был. Говорят, ты на прокурора вышел?
– Да, вышел.
– Ну вот, теперь ты человек ученый, тебе и карты в руки.
Снова чокнулись. Филиппок опрокинул водку одним глотком. Дмитрий пить не стал.
– Ты чего же?
– Мне хватит, – наотрез отказался Дмитрий, отодвигая стакан в сторону.
– Рассказывать буду все по порядку, как на духу. – Глаза Филиппка заметно поблескивали. – Выпросил Гараська в прошлое лето у председателя колхоза Волково займище. Ты его, наверное, помнишь, это за Куликовым станом, болото болотом. Никто никогда там не косил, подъезду никакого нет. Кочки такие, что голову сломишь. Договорились исполу: половину колхозу, половину Гараське. Мы сейчас так и косим. И колхоз вроде не в обиде, и мы своим коровенкам накашиваем копен по тридцать. – Филиппок вздохнул. – Ты же знаешь, что Гараська с войны вернулся изрикошетенный весь, одних тяжелых ранений шесть, не считая контузии и легких ранений, левая нога на четверть короче, плечо перебито, двух ребер нет… Одним словом, несладко ему было с утра до вечера шкандыбать по кочкам с косой. Да и дорога-то туда, почитай, семь верст. Это только сказать легко… Шестьдесят копен инвалиду второй группы накосить! Я, бывало, выйду на денек-другой пособить ему – душа кровью обливается! Из последних жил мужик вылазил, считай, что на одной лихости косил, а не на силушке. А ночами все косточки ноют. Нюрка плачет, молит его: «Брось ты это сено проклятое, проживем и без коровы не хуже других, живут же люди и без коров…» Но ты ведь знаешь, какой Гараська карахтерный человек: кровь из носа, а на своем поставит. Целый месяц пропадал на Волковом займище, чуть ли не ползком елозил, а поставил все-таки шестьдесят копен. Сметать я ему пособил. Нюрке от маленького никуда не отойти, вот он и мыкался один-одинешенек. Добрых четыре стожка мы с ним поставили, сенцо хоть и неважное, но кое-где попадался и визилек, прямо хоть заместо чая заваривай. Пообещал и мне возок подбросить овцам. – Филиппок замолк, тяжело вздохнул и тоскливо посмотрел в окно.
– Ну и что же дальше? – спросил Дмитрий.
– А дальше получилось так: как только выпал первый снежок, поехал Гараська за сеном, а вернулся вдрызг пьяный. С горя напился. Притащили чуть живого. Все четыре стожка, как языком слизнули. Даже одонков не оставили, так порожняком и приехал.
– Кто же увез сено?
– Кто же? Кирбай.
– Так можно же отобрать у него это сено, раз с председателем колхоза была договоренность косить исполу.
– Эх, Егорыч, Егорыч!.. Вот тут-то она вся и заковыка!.. Вот тут-то нашего брата и учат лиходеи. Ему бы бумажку, навроде договора, составить с председателем, печатью заверить: так, мол, и так, косить исполу, законно и благородно, и все было бы чин по чину. А бумажки-то этой он и не составил. А тут как на грех старого председателя сковырнули, зашибал здорово, поставили нового из другого района, тот ничего не знает и не ведает. Кинулся тогда Гараська к старому председателю, чтобы подтвердил, что была договоренность, тот затрясся весь и отказался выдать бумажку. На него и без Гараськи заводили уже целое дело, будто он разбазаривал за водку самые лучшие колхозные покосы. Кинулся Гараська к прокурору, тот тоже требует бумажку. От прокурора – к председателю райисполкома, этот и слушать не стал. Ходил он и в райком, и в райзо… Куда только не ходил!.. Нигде ничего не добился. Взяло его горе, и пошел он в третий раз к самому Кирбаю. Тот не хотел его даже принимать. Гараська самовольно ворвался к нему, и тут-то расходились его нервы. Контуженный он. Сам-то он уже не помнит, а слух прошел, что чуть чернильницей Кирбая не укокошил. Вынесли моего Гараську без памяти. А на второй день отдали под суд. И что же ты думаешь? Судили за хулиганство и за оскорбление в общественном месте. Дали два года условно. Сам Кирбай приходил на суд, докладывал, как все это получилось.
– А сено вернули?
– Эх, что ты, Егорыч!.. С сильным не борись, с богатым не судись. Нешто старики зазря придумали эту пословицу. – Филиппок взял в свои заскорузлые, потрескавшиеся пальцы бутылку и, звякая горлышком о стенку стакана, вылил остатки водки. – Ты меня не осуди, Егорыч, что я третий раз причащаюсь, это я оттого, что в душе накипело. Так-то я не особенно ею балуюсь, разве только по воскресеньям да по праздникам. – С этими словами Филиппок одним махом выпил содержимое стакана, даже не поморщился.
– Первая – колом, вторая – соколом, а третья – ласточкой, – сказал он и закусил студнем.
Дмитрий, не дотронувшись до своего стакана, слушал Филиппка и отчетливо представлял обиду, которую должен носить в душе Герасим.
– А дальше как пошло?
– Дальше на убогую старуху посыпались все прорухи. Корову кормить нечем, продал ее Гараська под рождество и запил. Никогда в жизни запоем не страдал, можно сказать, даже не любил он ее, а тут словно кто его сглазил: каждый божий день, каждый божий день! Нюрку стал поколачивать, когда та прятала деньги. Так вот мужик и покатился, с работы уволили за прогул. А как выпьет – и пошел костерить Кирбая и в печенки и в селезенки. Уж каких только слов не припечатает ему! Ничего не стал бояться! Ну ясно, шила в мешке не утаишь, до того дошло, что Гараська начал славить его почем зря. Вызывает его раз к себе Кирбай и заявляет: если до него еще докатится слух, что Гараська подрывает его авторитет, то загонит туда, где Макар телят не пас. Недельки на две Гараська угомонился, а потом опять стал выпивать. А как выпьет, так снова за Кирбая. До того опять дополз слушок, что не бросает поносить его Гараська. Вот он и упек его как нетрудовой элемент. В субботу сходом будут судить и решать.
– Что же ему теперь угрожает? – спросил Дмитрий.
– Ясное дело, что. – Филиппок покачал головой. – Колыма, а то и подальше загонят. У Кирбая это свободно. Он в тридцать седьмом не таких мужичков укатал, а этого, как куренка, проглотит.
– Да-а. – Дмитрий заложил руки за спину, прошелся по кухне. – У него есть дети?
– Что ты, Егорыч, сам-пят! Трое, и один одного меньше.
– Сколько месяцев он без работы?
– Да, поди, уж с полгода будет. Какая там работа: куда ни ткнется – нигде не принимают. А известное дело – человек судим, да и Кирбай всех настрополил, чтоб не принимали. Изжить решил мужика, вот тебе и баста! – Филиппок стукнул кулаком по столу. – Но это ему не удастся! Сам выступлю на сходе! Так и рубану при всем честном народе, за что поедом ест мужика. – Филиппок снова стукнул кулаком по столу. – Я ему не Гараська! На мне он зубы сломит! Где сядет, там и слезет! Мы не таких ретивых осаживали! Он еще под стол пешком ходил, когда Филиппок Колчака бил! У меня на гражданской два ранения и заслуги есть!.. Эх, Егорыч, если б ты знал, какие дружки мы были с твоим отцом! В одном полку службу мотали, одной шинелью накрывались. Не дождался он тебя, не дождался!.. – Филиппок шершавой ладонью смахнул со щеки слезу и скрипнул зубами. – А ведь как ждал! Из последних жил тянулся, все вас на ноги хотел поставить. – Снова непрошеная слеза омыла огрубелую, покрытую морщинами щеку Филиппка. – Ты мне, Егорыч, жалобу составь, выручать нужно Гараську, загубят они его, а ведь он всю жизнь, с самого малолетства в работе, а тут на тебе – обчественный паразит, нетрудовой алемент… Ведь слова-то какие обидные!
В глубине души закипела обида и у Дмитрия. Сдерживая эту обиду, он посуровел лицом.
– Дядя Филипп, у Герасима есть документы, что он инвалид Отечественной войны?
– А как же, голубь ты мой ясный? Он от государства пенсию получает. У него есть пенсионное удостоверение.
Дмитрий вплотную подошел к Филиппу и, строго глядя ему в глаза, спросил:
– Все, что вы говорили мне про покос, про суд, про корову, это правда? Вы ничего тут не прибавили?
Филиппок повернулся к иконе, висевшей в переднем углу, и перекрестился.
– Вот тебе святая икона! Не сойти мне с этого места, если я хоть малость прибавил или соврал. Егорыч!.. Ведь мы с твоим отцом!.. – Филиппок заскрипел зубами, прослезился и пьяно замотал головой. – Егорыч, мы с твоим отцом!..
– Дядя Филипп! – Дмитрий плотно сжал огрубелую кисть Филиппка. – Я обещаю вам помочь. Только вы об этом пока никому не говорите. Я продумаю все хорошенько, а вы принесете мне завтра инвалидные документы. Еще раз предупреждаю: об этом пока никому ни слова.
– Да нешто я баба? Режь – слова не выроню! Кремень я в этом деле, Егорыч!
Долго еще Филиппок изливал перед Дмитрием свою душу. В десятый раз вспомнил он дни, когда он в молодости дружил с его отцом.
– Нас, бывало, водой не разольешь. А чтобы в обиду друг друга дать – шалишь, брат!
От Шадриных Филиппок ушел совсем запьяневшим. Перед уходом он допил оставшуюся в стакане Дмитрия водку и у порога, не надевая фуражки, проговорил:
– Егорыч, на тебя вся надежа! Только ты один можешь приструнить этого паларыча!
Дмитрий проводил Филиппка за калитку и присел на лавочке у палисадника.
Тяжело было на душе после ухода Филиппка. В глазах неотступно стояли мрачные картины самоуправства Кирбая. Пьяный Герасим, слезы его жены, продажа коровы, увольнение с работы…
По земле ползли длинные тени от изб. Надвигался вечер. Плач выпи казался еще тоскливее. Во дворе Васьки Чобота жалобно мычал теленок. С переулка доносился гусиный гогот и писк: маленькая девочка с выгоревшими, почти льняными волосенками длинной хворостиной гнала гусиный выводок. Виляя хвостом и глухо стуча о землю широкими лапами, у ног извивался Пират. Дмитрий смотрел в его умные печальные глаза, и ему казалось, что Пират хочет что-то сказать, но не может.
– Пират, Пират… – Дмитрий ласково трепал пса по шее, а сам думал о Герасиме, о четырех стожках сена, о портрете, который нарисовал Сашка, и о его разговоре с Кирбаем.
XII
Дмитрий решил проведать своего старого школьного друга Семена Реутова. По словам Сашки, он уже три года работал секретарем райкома комсомола.
– Ты куда, Митя? – Захаровна разогнула натруженную спину и навалилась грудью на тяпку. – Скоро ужинать.
– Через часок приду, мама. Я к Семену Реутову.
Втайне любуясь сыном, мать долго смотрела ему вслед. Смотрела до тех пор, пока он не скрылся за избами, выстроенными в последние годы за шадринским огородом.
Семен Реутов был дома. Он смазывал дегтем Колеса детской самодельной тележки. При виде Дмитрия Семен в первую минуту растерялся. Стоял с растопыренными, вымазанными в дегте руками. Потом заторопился:
– Вот это молодец! Вот это здорово, что заглянул! А я слышал, что ты приехал, думал к тебе завтра заскочить, а ты сам, как новый гривенник. И не просто Димка Шадрин, а прокурор московский!
– Ну, ты это брось, товарищ секретарь райкома. Это у тебя там технических секретарей штат да кабинет свой, а я пока живу по принципу: все мое я ношу с собой.
– Да-а… А ты здорово изменился. – Семен покачал рыжей головой, похожей на копну осенних, тронутых багрянцем листьев.
– Да и тебя не сразу узнаешь. Разве лишь шевелюра все так же горит, как солнце.
Семену шел тридцатый год. Он всего на год был старше Дмитрия, но у него уже двое детей. Старшей дочери, очень похожей на отца, шел пятый год. Упираясь грязными ручонками в спинку самодельной тележки на деревянных колесах, напиленных от березового бревна, она катала по двору младшего братишку, который тоже был копией отца: с такими же пламенными волосами и чистыми голубыми глазами. Не спуская взгляда с незнакомого человека, мальчишка мусолил большой ломоть хлеба.
– А ты меня обогнал, Семен! Здорово обогнал! Смотри, у тебя уже кормилец растет, дочь скоро невестой станет!
– Дурацкое дело нехитрое, – протянул Семен, наливая в умывальник воды. – Зато науками ты обошел меня так, что я и за жизнь тебя не догоню.
В это время из сеней вышла жена Семена. Молодая русая женщина лет двадцати шести. Ее красивые полные руки, отдающие шоколадной матовостью, были обнажены, локти вымазаны в тесте. Откуда-то с огородов прилетевший ветерок с разлету бросился ей в ноги и, подхватив подол ситцевого сарафана, обнажил выше колен не тронутые загаром тугие молочно-белые ноги. Поймав на себе беглый взгляд Дмитрия, женщина вспыхнула стыдливым румянцем и, как-то сразу растерявшись, застенчивой девочкой убежала в сенки. Взгляд Шадрина перехватил и Семен, но сделал вид, что не заметил.
– Оксана! – крикнул ей вслед Семен. – Ты бы сбегала! – Повернувшись к Дмитрию, объяснил: – Неделя, как пекарня на ремонте, вот сама и возится с квашней. Да ты ведь, кажется, незнаком с моей женой?
– Нет. Она что, нездешняя?
– Что ты! Хохлушка, с войны привез. Как демобилизовался, так сразу же вписал в красноармейскую книжку.
Шадрин догадался, куда Семен посылает жену, и подошел к нему:
– Если ты насчет этого, – Дмитрий щелкнул указательным пальцем по горлу, – то оставь. Мы это в другой раз. Я как-нибудь зайду специально, тогда посидим как следует. А сейчас я к тебе по важному делу.
Лицо Семена стало сосредоточенным, деловым.
– Что ж, рад быть полезным. Тогда пройдем в избу, поговорим.
– Я хотел бы один на один.
– Оксана!
Оксана не отозвалась.
Вытирая полотенцем руки, Семен крикнул громче:
– Ты что, оглохла?
На пороге появилась Оксана. Она уже успела смыть с рук тесто, надеть босоножки и причесаться.
– Познакомься, Дима, это моя благоверная. Рожденная под звездным украинским небом в деревне с поэтическим названием Кобеляки.
Оксана сошла с крыльца и несмело протянула Дмитрию руку.
– Ну, а тебя она по школьным фотографиям знает. Одно время я даже чуть не приревновал ее к тебе.
– Он что, и раньше был такой просмешник? – стараясь шуткой поддержать разговор, с заметным украинским акцентом певуче спросила Оксана.
– Еще хуже. Его даже били за это. Всем ребятам давал клички. Меня лично прозвал Отеллой в тапочках.
– А мне придумал такое имя, что даже сказать совестно, – смущенно призналась Оксана.
– Здравствуйте! – Семен развел руками. – Да если б у меня в паспорте и во всех документах стояло, что я родился в деревне Кобеляки, я бы повесился в грудном возрасте. Твое счастье, что вы всей родней опоили меня самогонкой и полупьяного за руку свели в загс. А то ни в жизнь не женился бы на тебе! Ты только подумай, Димка, Ко-бе-ля-ки! Это звучит гордо!
Не выдерживая больше злых насмешек мужа, Оксана ударила его ладонью вдоль спины так, что в груди у него что-то екнуло.
– А ты – куркуль сибирский!
– Нет, ты видишь, видишь, Дима, что они, жены-то, делают? Это при тебе, а что без тебя!.. Нет, не женись, век не женись! Особенно на хохлушке…
Кокетливо покачивая крутыми бедрами, Оксана скрылась в сенках.
Дмитрий заметил: Семен проводил жену влюбленным взглядом. Ему сразу стало как-то даже завидно: вот так бы и ему, Дмитрию, уже давно пора. Красивая жена, здоровые дети, уют…
Голубоглазый малыш, которого сестренка высадила из тележки, подбежал к отцу и, с опаской поглядывая на Дмитрия, протянул мизинец.
– Ты чего, сынок?
– Кази маме, миись, миись и боси не диись!
Семен захохотал, Дмитрий не понял детского лепета.
– Что он сказал?
– Он заставляет, чтобы я пошел к матери, скрестил с ней мизинцы и сказал ей: «Мирись, мирись, и больше не дерись». – Повернувшись к сыну, Семен погладил его по голове. – Хорошо, сынок, пойду сейчас и скажу матери, чтоб она больше не дралась. Заступник растет. Ну, пойдем, Шадрин. – Семен пропустил вперед себя Дмитрия.
«Украинская чистота», – подумал Дмитрий, окинув взглядом горенку. Покрытые лаком полы блестели. Нигде не видно ни пылинки, все аккуратно расставлено, на стеклах окон и на зеркале ни единого пятнышка от мух, да и мух-то в избе не было. Передняя стена горенки завешана фотографиями. На подоконниках стояли цветы. На окнах висели накрахмаленные белоснежные тюлевые шторы. Над пышной постелью, взбитой, как царское ложе из лебяжьего пуха, висел украинский ковер ручной работы. По полу от дверей до стены тянулся самотканный половик с украинским орнаментом. На стене висело двуствольное ружье.
– Охотишься или от воров? – спросил Дмитрий, взглядом показывая на ружье.
– Балуюсь иногда. Но редко. Все некогда, текучка заедает.
Семен проворно вышел в кухню, о чем-то пошептался с женой и снова вернулся, плотно закрыв за собой дверь.
– Что у тебя?
– Знаешь, Семен, только будем откровенны. Я у вас тут всего-навсего гость, а тебе здесь жить и работать… Но все равно – давай начистоту.
Семен недоуменно склонил голову, точно к чему-то прислушиваясь.
– Тебе не кажется, что Кирбай подмял под себя всех и делает то, что пожелает его левая нога?
Семен насторожился, глядя на Дмитрия немигающими голубыми глазами.
– Сначала расскажу то, что знаю о нем, потом послушаю тебя. Для меня интересно твое мнение.
Не торопясь, Дмитрий подробно рассказал, что знал сам и что слышал от других о Кирбае. Не утаил и историю с портретом, который нарисовал Сашка, и о жалобе Филиппка, и о его зяте Герасиме.
Семен сидел на венском стуле и, склонив голову, исподлобья зло смотрел куда-то в одну точку на письменном столе. Дмитрию в эту минуту он казался и старше и отчужденней. Это уже был не тот Семка Рыжий, которого он знал до войны, с кем когда-то пытался уехать в Москву. Перед ним сидел секретарь райкома комсомола, работающий плечом к плечу с Кирбаем.
– Ты кончил? – не шелохнувшись, спросил Семен, когда Дмитрий замолк.
– Да.
– Теперь послушай меня. – Семен встал со стула и со скрещенными на груди руками – это была его привычка – принялся ходить по комнате, глядя себе под ноги. – Ты знаешь о Кирбае сотую долю, и у тебя уже чешутся кулаки, тебе уже не терпится схватиться с ним. Хотел бы я знать, какую гранату, чего там гранату – атомную бомбу носил бы ты за пазухой против Кирбая, если б ты знал то, что знаю о нем я. Я уверен, ты сейчас встанешь в позу сатира, разведешь руками и скажешь: «Что же вы тут бездействуете, размазни и хлюпики?! Разложили бы его да высекли как следует! А если не поможет – гоните по шее в конюха с начальников!» Все это так, дружище, все так! – Семен остановился и смотрел куда-то в потолок. – То, что он непробиваемый пенек, круглый остолоп с ликбезом за плечами и узурпатор, знаю не только я, не только ты – знают все в районе. Но Кирбай стоит, как утес! Да, да, он стоит, как утес! От него, как брызги пены, как морские ракушки, отлетают самые заядлые критики. Ты знаешь, что я ношу из-за него выговор по партийной линии?
– За что?
Все время, пока говорил Семен, Дмитрий не спускал с него глаз. Он узнавал его и не узнавал. «Ты ли это, Рыжий?! Как здорово, что ты такой боец и честный малый!»
– Ты спрашиваешь, за что я ношу партийный выговор? Отвечу. Формально за то, что секретарь райкома комсомола притупил революционную бдительность и допустил проникновение в сознание некоторых комсомольцев нездорового настроения, которое, как написали в протоколе, выразилось в преклонении перед заграницей. Это формально. Фактически же за то, что месяца за два до этого выговора на бюро райкома партии Семен Реутов осмелился покритиковать Кирбая за его диктаторский стиль в работе. Пытался, видите ли, по-телячьи лягнуть его копытом, а он опутал меня нащипанными фактами и фактиками и на бюро так отшлепал, что я и сейчас хожу с красными ягодицами!
Семен подошел к окну и, глядя вдаль, где синела кромка озера, продолжал:
– Ты помнишь первого секретаря райкома Филатова?
– Как же не помнить? Хороший был мужик. Кстати, где он сейчас? Наверное, пошел на повышение?
– Повысили… Произвели из офицеров в ефрейторы. Был первым секретарем, да еще каким секретарем, а сейчас инструктором в Елпатьевском районе.
– Это почему же?
– Не ужился с Кирбаем.
– Каким образом?
– Не захотел плясать под его дудку, вел свою линию. Причем настоящую, партийную линию. А тот так подобрал к секретарю ключики, что навесил на него два строгача за провал идеологической работы и добился перевода в другой район. Вот так-то, брат, мы и живем, хлеб жуем, а о калачах только мечтаем.
– На чем же он держится? – спросил Дмитрий.
– А вот этого я сам не разберу. Пока вижу только одно астрономическое хамство, удивительную подлость и… мне кажется, что в области, а может быть, и выше у него есть крепкая рука, которая невидимо для других поддерживает его и ведет.
– Кто же может быть этой рукой?
Семен пожал плечами.
– Пока это тайна.
– Не в обкоме же партии?
– Что ты! – Семен настороженно посмотрел на дверь и тихо сказал: – Пробовали и из обкома его осадить – ничего не вышло. После этого он стал еще злее.
– А как у них отношения с первым секретарем?
– О, это сложная шарада! Смотрю я на них и не знаю, кто кого возьмет. Пока присматриваются друг к другу, нащупывают слабые и сильные места друг у друга… Но в одном я уверен, что теперешний первый секретарь орешек крепкий, о него можно в два счета зубы сломать. Член партии с семнадцатого года. Обком прислал его к нам поднимать район. Ведь докатились до того, что, стыдно сказать, занимали предпоследнее место в области.
– Как думаешь, этот вытянет?
– Уже вытягивает. День и ночь в разъездах. Больной весь, посмотреть – в чем душа держится, а силища страшная! И где он ее только берет? Этот, я думаю, или уложит Кирбая, или наделает такой тарарам, что всем чертям будет тошно.
– Зачем же укладывать Кирбая? Нужно добиться более разумного: пусть он каждую минуту чувствует, что над ним стоит партия, директивам которой он обязан подчиняться от «а» до «я».
– Твоя философия умозрительна, Дмитрий. Ее еще можно применить к тем, у кого от власти начинает кружиться голова, но не для тех, кто по-поросячьему нагло хрюкает. Таких сложившихся и уверовавших в свою правоту негодяев нужно гнать из органов и ставить туда Ядровых! Тех, для кого воля партии во всех ее масштабах – Центральный Комитет, обком, райком, первичная организация – есть закон, есть святая святых! А ведь Кирбай носит в кармане партийный билет, а молится своему богу – министру государственной безопасности и тем совершенно секретным шифрованным указаниям и приказам, которые спущены сверху.
– Ты сейчас упомянул о Ядрове. Кто это?
– Первый секретарь райкома партии. Я о нем уже говорил тебе. Полгода в нашем районе.
– Где он сейчас?
– Лежит второй месяц в обкомовской клинике. Что-то печень у него барахлит.
– Пьет?
– «Ессентуки» и «Боржом». Причем за неделю выпивает ящик. Даже с собой возит. Я как-нибудь тебе расскажу о нем. Золотой человек. Умница! – Семен покачал головой. – Вот это ленинец! До последней жилки ленинец! Нет ничего для себя, все для партии, для дела. Мне пришлось весной с ним неделю месить грязь на райкомовском «козлике», и вот тут-то я почувствовал, какими должны быть настоящие коммунисты. – Семен вздохнул. – Был я у него дома. Живет, как Рахметов. Ничего из этих вот наших мещанских удобств. – Семен показал рукой на ковер, ружье, цветы, тюлевые шторы… – Только чистота одна да книг полквартиры, вот и все, что я у него видел.
– Мы ушли в сторону, Семен. Что ты посоветуешь мне сделать насчет Герасима Бармина?








