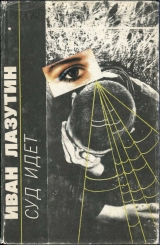
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 35 страниц)
XVII
Вторая половина дня прошла в сборах. Больше часа Дмитрий писал письмо на имя первого секретаря обкома партии. Копию решил направить областному прокурору. Когда закончил, то внимательно перечитал написанное и вычеркнул несколько фраз. «Чем короче, тем убедительнее». Эту истину он постиг, будучи на следовательской практике в прокуратуре, где пришлось перечитать целые кипы заявлений от граждан.
Переписал начисто жалобу, сложил ее вчетверо и всунул под обложку партийного билета. Волновал предстоящий разговор в обкоме, где на пути к первому секретарю наверняка встанут инструкторы и помощники. Он во что бы то ни стало должен добиться личного приема.
Расхаживая по горенке, Дмитрий мысленно слагал первые фразы, с которыми он обратится к секретарю обкома. «Главное – не размениваться на мелочи! Главное не утопить в этих мелочах самое существенное, важное! И факты. Только факты!.. А после разговора обязательно оставить письменную жалобу. Устная беседа хороша, но что написано пером, то не вырубишь топором».
Для матери отъезд Дмитрия в город был неожиданным. Вначале она, грешным делом, подумала, что за неделю сыну надоело дома и он решил поехать погостить к тетке в Новосибирск. Когда же Дмитрий убедил ее, что он едет всего на один день и не в гости, а по делам, она не стала допытываться зачем и принялась собирать сына в дорогу.
На скорые поезда, которые всего лишь на одну-две минуты останавливались на маленькой станции, билетов не давали. Чтобы бесполезно не торчать ночь на станции, Дмитрий решил ехать с вечерним поездом, который за свою неторопливость и особую любовь ко всем столбам и мелким разъездам почему-то прозвали «пятьсот веселым».
– Садись, похлебай на дорожку куриного бульона, – сказала Захаровна, доставая из печки глиняный горшок.
– Зачем вы зарубили курицу, ведь она несется?
– А с чем же ты поедешь? – точно оправдываясь, ответила мать.
«Эх, мама, мама!.. – хотелось сказать Дмитрию. – Когда же ты доживешь до таких дней, когда сыновья твои смогут хоть в сотой доле ответить на твою заботу и ласку? Ведь только подумать: двадцать восемь лет, а она нянчится со мной, как с маленьким ребенком. Курица, бульон, парное молочко, пуховая подушка…»
Дмитрий ел с аппетитом, а мать, тайком поглядывая на него, радовалась, что угодила. Ей всегда казалось, что старший сын худ. И, словно прочитав ее мысль, Дмитрий встал из-за стола, отпустил на одну дырку брючный ремень.
– Я начинаю безобразно толстеть. Это никуда не годится. Ты меня просто закормила.
Для матери, пожалуй, это было и высшей похвалой и самой милой шуткой.
– Не говори чего не следует-то, на-ка вот блинцов с творожком съешь, гляди, какие румяные!
Чтобы не обижать мать, Дмитрий съел два блинца. Он даже не заметил, как за спиной его бесшумно появился Васька Чобот. Усевшись на пороге, он молча наблюдал, как обедал старший Шадрин. Когда тот заговорил о полноте, Чобот протянул с порога:
– А ты, дядь Мить, в бане парься!
– Что? – Дмитрий всем корпусом повернулся на стуле.
Чобот вскочил с порога.
– Я говорю, ты в бане парься. Вот бабка Бородиниха всегда так делает. Как станет ей от жира тяжело ходить, она сядет на полдня в бане, а жир из нее так и вытекает, так и вытапливается.
Заметив Чобота, Захаровна погрозила ему гусиным крылом, которым она сметала со стола хлебные крошки.
– Опять пришел, окаянный! Сейчас, как есть, мать прилетит и скажет, что привадили. Лучше уходи с богом, от скандала подальше.
Васька неохотно вышел из сеней, по пути бурча:
– Я к дяде Саше пришел. Он мне обещал кнут сплесть.
– Из чего? – окликнул Чобота Дмитрий.
– Из ремней.
– А ну, где у тебя ремни?
Чобот вытащил из-за пазухи сложенный вчетверо широкий сыромятный чересседельник.
– Где взял?
Чобот покраснел и отступил на шаг.
– Нашел.
– Где нашел?
– Вон там, – он показал рукой в сторону трех телег, стоявших на улице перед палисадником Ионовых. Привязанные за поводья лошади похрустывали овес.
– Это же чересседельник, Чобот! Ты ведь украл его!
Чобот отступил еще на несколько шагов. Видя, что лицо Дмитрия стало еще суровее, он стреканул со двора Шадриных.
Дмитрий отнес чересседельник хозяину, но воришку выдавать не стал и свалил весь грех на несмышленного соседского мальчишку.
Сказав матери, что идет прогуляться к озеру, Дмитрий вышел огородами на выгон, пересек пустынный базар, где между прилавками сновали стайками вездесущие воробьи, и направился в сторону ряма.
Озеро, окаймленное зеленовато-дымчатым рямом, издали казалось синим. Каждая тропка, каждый бугорок Дмитрию был здесь знаком. Не умиление, не радость и, конечно, не восторг наполняли все его существо. Грусть… Тихая, глубокая грусть сосала душу и точно нашептывала: «Прощайся со всем этим… Тебя ждут каменные города… Пожар огненных разноцветных реклам, комфортабельные автомобили, столичное метро… Важные люди… А мы что? Мы жалкие бугорки и канавки. На нас растет полынь, да полевые ромашки, да васильки. Вот и вся красота наша. А ведь когда-то и мы были хороши. Когда-то и к нам ты бегал по весне и рвал первые подснежники… Мы помним тебя еще босоногим мальчишкой с цыпками на ногах, когда ты с ребятишками играл здесь в лапту и по дороге на озеро скакал с товарищами вперегонки… Мы все помним, хоть и сказать не можем, потому что нет у нас языка… А вот эту опушку не забыл ли ты? На ней вы расстреливали «пленных», когда играли в военную игру. Помнишь, как однажды поставили тебя спиной к осине на расстрел, как подоспевшие «красные» спасли тебя от казни, и ты за храбрость, что не хотел выдавать своих, получил орден Красного Знамени, сделанный из красной тряпицы. Мы даже помним, как пионерским галстуком перевязывал тебе «раны» твой лучший друг – «однополчанин». Разве ты забыл его? Его звали Леней Ракитиным. Отчаянный и честный был мальчик. А сейчас его уже нет в живых, он остался лежать под Касторной в сорок втором году. Мы не видели, как он погиб, но мы знаем, что такие, как Леня Ракитин, погибают мужественно… А вот в этой рощице ты вместе с братишкой Сашей ломал березовые веники. В густой траве, в осоке, куда никогда не попадает солнце, вы искали куманику, и когда находили ягоду, то бежали друг к другу показывать… Помнит тебя и озеро. Ты слышишь, как оно бьется о торфяной берег и всхлипывает? На берегу его в трауре поникли камыши. Ты прислушайся – это озеро потихоньку рыдает. Ему тоже грустно, что на берегах его уже не будет звучать твой мальчишеский смех, не будет за вами гоняться рыбак старик Кондрат Рюшкин, из сетей которого вы однажды вытащили на уху дюжину карасей…»
Дмитрий сел на высокую кочку, поросшую брусничником, смотрел вдаль, туда, где зеленела кайма далекого горизонта. Он слушал, как тоскует серое немое озеро, мягко тычась в торфяной берег своими покатыми литыми волнами.
«Хорошо женщинам – они могут плакать, когда на них накатывается тоска. Поплачет – и легче. А тут хоть впору завыть, пока никто не слышит, – да не можешь…»
Дмитрий разделся и вошел в воду.
Он плыл, перевернувшись на спину. Когда-то в детстве, кажется в девятом классе, он переплывал озеро поперек. А ширина его, как говорили местные рыбаки, больше двух километров.
Чтобы не сбиться с курса и не вилять, Дмитрий взял за ориентир неподвижно застывшую над головой пепельную тучку, похожую на овчинку белого ягненка. Ритмично поднимая и опуская руки, он плыл, плыл… Ни о чем не думалось. Наступали минуты, когда Дмитрий забывал, что он плывет, что он в воде, что пора повернуть к берегу. Взгляд его приковала светло-серая овчинка в голубом небе.
Так прошло минут двадцать, пока Дмитрия, наконец, не обожгла беспокойная мысль: «А что, если судорога сведет ногу?» Это и раньше всегда его пугало при дальних заплывах, хотя за всю жизнь только раз ногу Дмитрия сводила судорога, и то не в воде, а ночью, во сне. Слышал он и от других, как тонули от судороги опытные и сильные пловцы.
Дмитрий повернул назад и поплыл саженками. Берег был далеко. Первый раз он купается в озере один. Первый раз на него напал необъяснимый страх. Почти на полкорпуса выскакивая из воды, он все стремительнее и сильнее выбрасывал вперед руки. Но вот, наконец, недалек и берег.
Из воды вышел, пошатываясь. Сердце билось сильными толчками, как после продолжительного быстрого бега. «Стареем понемногу… Страхи в воде, сердцебиение, одышка…»
Дмитрий долго еще бродил по берегу, пробовал вытащить затонувшую старую плоскодонку, на треть торчавшую из воды. Но одному ему не под силу оказалась набухшая лодка, бросил ее и направился по тропинке к селу.
Смолистый запах багульника, смешанный с винным настоем перепрелого мха, щекотал ноздри, бодрил. На опушку леса Дмитрий вышел облегченный, ощущая прилив свежих сил и желание пробежаться.
Когда подходил к своему огороду, в грядках моркови бабки Меркуловны увидел Ваську Чобота.
«Вот пострел, забрался!» – подумал Дмитрий и, подняв под ногами ком сырой земли, запустил его в Чобота. И громко свистнул, улюлюкая.
Увидев Дмитрия, Чобот с быстротой кошки нырнул в буйную ботву картофеля, из которой поднимались широколистные подсолнухи. Дмитрий видел, как Чобот по-пластунски полз к своему огороду.
– Держите его, держите! – кричал Дмитрий, хлопая в ладоши.
Чобот исчез в одно мгновение, точно растаял. Только подходя к изгороди, Дмитрий с бугра заметил глубокую, буйно заросшую лебедой канаву, которая разделяла огороды Васьки Чобота и бабки Меркуловны. «Вон ты куда юркнул, Чобот», – подумал Дмитрий.
Вечером вернулся Сашка. Он был возбужден и, судя по прерывистому дыханию, долго бежал.
– Опять что-нибудь стряслось? – тревожно спросила Захаровна.
Сашка махнул рукой и принялся дрожащими пальцами сворачивать самокрутку.
– Где Митяшка?
На голос брата из горенки вышел Дмитрий.
– Что с тобой?
– Выпустили!
– Кого выпустили?
– Гараську, Цыплакова и Федосова.
– Кто выпустил?
– Сам Кирбай. Пришел в третьем часу с Кругляковым. По одному вызвали троих и велели идти домой.
– А кто такой Федосов?
– Из Бухтарлинки, тоже ни за что упекли.
– Ты слышал, о чем с ними разговаривали?
– Майор – тот особенно не разглагольствовал, а Кругляков юлил, как таракан на горячей сковороде. Всю вину валил на председателей сельсоветов, дескать, те их понапрасну записали в списки, а они вот разобрались как следует и решили троих отпустить.
Дмитрий почувствовал, как к щекам его приливает кровь. Буйная радость рвалась наружу, но он сдерживал себя. Ему хотелось схватить Сашку в охапку, закружить вокруг себя, но он притушил этот порыв ребячества.
– Мама, поездку в город отставить!
Захаровна ничего не понимала. Она знала, что такое скоропалительное решение не ездить в город Дмитрием было принято в связи с новостью, которую только что сообщил Сашка. Но связать два этих момента не могла. Стоя посреди кухни, она недоуменно моргала глазами, пока, наконец, на ум ей не пришел вчерашний разговор о зяте Филиппка Герасиме Бармине.
Только теперь она поняла, зачем собирался сын в Новосибирск.
– Вот и хорошо, вот и дома посидишь, чего там не видал в городе-то – пыль да шум. Чай, в Москве этой невидали хватает.
– Курицу вот только зря загубили! Сколько бы за лето она нанесла!.. – Дмитрий огорченно покачал головой. – Поторопились.
И вдруг Дмитрий заметил, как по лицу матери проплыли серые тени, оно как-то сразу исказилось в немом испуге.
– О, господи Иисусе-Христе!.. Зачем это он к нам подкатил? – Захаровна перекрестилась.
Через распахнутое окно Дмитрий увидел, как к перекладине ворот Кирбай привязывал повод. Чистокровный рысак, запряженный в легкую глянцевито блестевшую черную пролетку, не стоял на месте. На круто поставленной морде вороного была надета уздечка с медным, до блеска надраенным набором. Всхрапывая, конь бил копытом о землю.
Сашка побледнел и вышел в сенки. Он со страхом вспомнил о портрете, о патенте, которого у него нет.
Портрет висел в горенке на самом видном месте.
Пират с могучим грудным рыканьем кинулся на незнакомца.
Дмитрий вышел во двор. То ли пес его испугал, то ли многое пришлось передумать Кирбаю за эти несколько часов, но это уже был не тот непреклонный человек, который так недавно Шадрину казался жестоким и опасным. У калитки стоял улыбчивый, седеющий толстяк. Не решаясь проходить во двор, он от души ругался:
– Да убери ты этого шайтана! Это же не собака, а чистый лев! И где ты только такого раздобыл? Он на волка пойдет, не струсит. А лапищи-то, лапищи какие!..
Дмитрий проводил майора в избу.
Отдуваясь и вытирая со лба пот, Кирбай попросил воды. Захаровна хлопотливо кинулась за чистым стаканом.
– Не нужно, Захаровна, давай из ковша. Мы люди негордые, к нам никакая зараза не пристает.
Руки Захаровны тряслись, когда она подавала Кирбаю воду. «Господи! За что это он меня по отчеству величает?..»
Кирбай выпил целый ковш и аппетитно крякнул.
– Ну и жарища проклятая! А я к тебе, Георгиевич…
По этому «к тебе» Дмитрий понял все. Теперь Кирбай ему показался даже жалким.
– Я вас слушаю.
Кирбай сел на сундук и, хлопнув рукояткой кнута по голенищу, простодушно сказал:
– А ты был прав!
– В чем?
– Зря я поверил председателям сельсоветов. Ведь вот канальи, даже через колхозные собрания не пропустили. Взять хотя бы Цыплакова. Бабы подрались из-за огорода, он возьми и объяви бедному мужичонке хазават. Чуть не съел. А этот растяпа Самойлов, тоже мне, прислал инвалида второй группы.
– Как его фамилия?
– Федосов, из Бухтарлинки.
– А Бармин Герасим?
– Отпустил и Бармина… – Кирбай махнул рукой. – Правда, этого отпустил только из уважения к тебе, Георгиевич. А так, если честно разобраться, – давно Колыма о нем плачет.
Кирбай встал, прошелся по кухне, постучал кнутовищем по сундуку. И тоном, словно между ними никогда не было недомолвок, сказал:
– Но все это поправимо и уже поправили. Это, как говорят немцы, плюсквамперфект. А нас интересует футурум, будущее. Тебе нужно отдыхать. Ведь не на баталии же сюда приехал. Дай голове отдохнуть от Москвы. Поди, своих забот полный рот. Завтра открывается охота. Не махнуть ли нам денька на три в Бухтарлинку? Там утья – тучи! Сами так и прут под ружье.
Этот неожиданный перелом в Кирбае, который еще сегодня утром грозил ему чуть ли не тюрьмой, смутил Дмитрия.
– Я бы с удовольствием, но у меня нет ружья.
Кирбай оживился.
– За этим дело не встанет. У меня их три. Припасы уже готовы, чучела и кряквы тоже на ходу.
– Спасибо, но я не могу. Дня на два я собирался съездить в город. А потом не такой уж я заядлый охотник, чтобы ходить с вами в паре. До войны два раза приходилось бродить по болотам – вот и весь мой охотничий стаж.
– В Бухтарлинке уток можно бить из рогаток! – попробовал уговаривать Кирбай. – Там местные ребятишки жарят по ним из самопалов.
Сашка, краем уха подслушивающий из сеней разговор брата с Кирбаем, от счастья был на седьмом небе. Все эти две недели после посещения райкома он со дня на день ждал, что за ним приедут или его вызовут куда следует.
– Как же вы теперь будете отменять решение схода? – спросил Шадрин.
– Что-нибудь будем делать. Лошадь об четырех ногах, и та спотыкается. Помнишь, у Ленина сказано: умен тот, кто делает ошибки не очень существенные, и кто умеет легко и быстро исправлять их. – Приободрившись оттого, что нашел надежный щит, Кирбай захохотал. – Мы тоже, брат, на периферии марксизм-ленинизм изучаем.
– Это хорошо, что так случилось… – неопределенно ответил Дмитрий, стараясь не встречаться взглядом с Кирбаем. В течение всего разговора он чувствовал неловкость.
– Ну так как – мир? – Улыбка Кирбая была кривой, он словно прицеливался.
Дмитрий пожал плечами.
– Я не из тех, кто сквалыжничает и помнит обиды. Но… кое-что все-таки трудно забыть.
– Ну, это ты брось! Это уж ты, Георгиевич, в злопамятство ударился! В нашей работе иногда таких чертей наломаешь, что потом одумаешься – аж жуть берет. Хоть головой об стенку бейся. Вот и тут так получилось. – Кирбай снова хохотнул и похлопал по плечу Дмитрия. – А ты тоже хорош! Напоследок мне такого леща закатил, что я даже зашатался. Потолок в кабинете показался с овчинку. Такого вовек не слышал ни от кого.
Дмитрий стоял у окна. Барабаня ногтями о стекло, он наблюдал, как вороной рысак роет копытом землю. Выросший словно из-под земли Васька Чобот уже ощупывал резиновые шины колес.
– Некоторых своих слов, товарищ Майор, я взять назад не могу. За приглашение на охоту еще раз спасибо, но ехать мне нельзя. Через три дня уезжаю.
– Далеко?
– В Москву. Ждет работа. Выбрался всего на неделю из-за болезни матери.
Кирбай еще раз прошелся по кухне, выпил полковша воды, сел на сундук.
– С охотой, Георгиевич, ты как хочешь, а с этим самым… Если я хватил через край, ты, конечно, забудь. Это я говорю чистосердечно. Накалил ты меня здорово, вот я и приплел тут ни к селу ни к городу и дядю твоего, и всякую чертовщину.
Жалким показался Дмитрию Кирбай. Ему хотелось как можно скорее расстаться с этим человеком. Но тот сидел, не собираясь уходить.
– В Москве хочешь докладывать?
– Хотел. Даже написал рапорт. Вот он. – Шадрин достал из грудного кармана листы, которые он тут же бережно свернул и положил в карман.
– А сейчас?
– Сейчас воздержусь.
Кирбай встал.
– Зря, совсем зря. Помнить зло – это не по-партийному. Это походит на месть. Я к тебе от чистого сердца приехал, а ты все камень за пазухой держишь.
– Я же вам сказал, что о ваших ошибках, которые вы вовремя исправили, доводить до сведения ЦК я не собираюсь. Но забыть то, что вы мне сказали сегодня, не могу. Как хотите, а не могу!
В дверь постучали. И тут же, не дожидаясь ответа, в избу вошел Семен Реутов. Судя по его удивленным глазам и той растерянности, которая была запечатлена во всем его облике, Дмитрий решил, что Семен шел огородами и из-за высокого тына, затянутого буйным хмелем, не заметил кирбаевского жеребца, привязанного к воротам. А вороного его и легкую пролетку на селе знали все.
– Здравствуйте, – нерешительно поздоровался Семен, остановившись у порога. – Не помешал?
– Милости прошу! – Дмитрий шагнул навстречу Семену и крепко пожал ему руку.
– Что, не ожидал здесь встретить? – добродушно улыбаясь, спросил Кирбай.
– Честно признаться – не ожидал.
– Ехал мимо и заехал к Георгиевичу. Приглашаю на охоту. Посмотреть хочу, как москвичи влет бьют. Да вот никак не уговорю. Все не отоспится. Ты как сам-то, думаешь завтра пойти?
– Да зарядил десятка четыре, вечерком думаю полазить по камышам.
– Чего там по камышам! Давай втроем махнем в Бухтарлинку.
– В Бухтарлинку? – Семен вопросительно посмотрел на Дмитрия. – А что? Это идея!
– Не могу! – твердо отрезал Шадрин, стоя с заложенными за спину руками.
Семен о чем-то подумал, что-то прикинул.
– Я тоже, пожалуй, не поднимусь. Во-первых, жена не отпустит, да и работы сейчас по горло. А ехать на один вечер, да потом оттуда ковылять ночью двенадцать километров, – только маята одна.
Семен сел к столу, закурил. Теперь он чувствовал себя несколько свободнее.
– А ты зря, Дмитрий, отказываешься. Я бы на твоем месте за милую душу съездил. В Бухтарлинку съезжаются за тысячи километров заядлые охотники. К моему соседу два дня назад приехал аж из Харькова. Но этот прямо-таки фанатик. Он и отпуск свой специально к открытию охоты приурочил. Кроме Бухтарлинки, ничего не признает. В прошлом году за десять дней набил сто пятьдесят штук. Его портрет даже в газете напечатали.
– Ты видишь, куда я тебя тяну? – перебил Семена Кирбай, глядя на Дмитрия.
– Мать обидится. Через три дня уезжаю, а когда придется еще приехать – не знаю.
Кирбай встал, разминая затекшие плечи, хлопнул кнутовищем по сапогу.
– Если надумаешь – заходи. Ружьишко найдется, припасов тоже хватит на двоих. – И уже в самых дверях крепко сжал руку Дмитрия, словно что-то желая сказать и не решаясь. Наконец проговорил: – Не поминай лихом, Георгиевич. Кто его знает, может быть, еще как-нибудь встретимся. Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда могут сойтись. Заходи и ты, Реутов. Есть о чем потолковать.
Во взгляде Кирбая, который он бросил на Семена, Дмитрий прочитал и другое: «Обожди, сосунок, прижму я тебя на узенькой дорожке!»
– Ладно, зайду, – ответил Семен.
Дмитрий проводил гостя до ворот, защищая его от беспокойного пса.
Кирбай грузно сел в пролетку, махнул на прощание фуражкой и выехал на дорогу. На сердце Дмитрия отлегло.
Екая селезенкой, вороной пошел размашистой плавной рысью, оставляя за собой серые выхлопы сухой дорожной пыли, похожие на дымчатые облачка.
Пролетка скрылась в переулке.
Вернувшись домой, Дмитрий похлопал по плечу Семена, который Кирбая провожать не вышел.
– Ты знаешь что?
– Что?
– Освободили троих: Бармина, Цыплакова и еще Федосова, помнишь, мужика в пестрой рубахе, с рыжей бородкой, он сидел в середине.
– Что ты говоришь?! – удивленно воскликнул Семен. – Неужели тебе удалось сломить этого динозавра?! Ну, поздравляю, поздравляю!.. Об него у нас многие ломали зубы. – Семен покачал головой. – Ты гляди, гляди, каких дров ты наломал! Вот если об этом узнает Ядров! Кроме него, оказывается, еще нашелся человек, который сумел взнуздать Кирбая.
– А что – Ядрова он побаивается?
– О! Ты не знаешь Ядрова! Когда говорит – гипнотизирует. А логика!.. Если б ты хоть раз послушал его, когда он выступает! А как он будет хохотать, когда узнает, что Кирбая приструнил вчерашний студент!
– Ты думаешь, если бы Ядров был в районе, то решение схода было бы другим?
– Уверен абсолютно. Такого безобразия при нем не случилось бы. Кругляков не в счет – манная каша.
Во дворе залаял Пират. А через минуту без стука вслед за Сашкой в избу ввалились Филиппок и Герасим. От обоих попахивало самогонкой.
– Егорыч!.. – Герасим как вошел, так и бухнулся на колени перед опешившим Дмитрием. – Ты мне дороже отца родного… – Не успел он договорить, как Дмитрий подхватил его под руки и поставил на ноги.
– Да что вы!.. Да разве так можно?
В глазах Герасима стояли слезы.
– Умирать буду – детям накажу, чтобы помнили, какое добро ты сделал для меня. – Повернувшись к Филиппку, он сказал: – Отец, ставь!
Филиппок достал из отдувавшихся карманов две бутылки водки.
– Сегодня грех не выпить. За Гараськино ослобождение и за твое, Егорыч, здоровье! А также за то, чтоб тебе хорошо везло по службе. Я знаю, ты далеко пойдешь, у тебя замашки отцовы, а с отцом твоим, Егорыч, мы вот с таких лет… – Он поднял ладонь на уровне стола. – Были дружками – не разольешь водой. А где же меньшак?
– На покосе. Он у нас один все хозяйство тянет. А этому бесу… – Захаровна с укоризной посмотрела на Сашку, – одни только девки да танцульки на уме.
Сашка гоголем выгнул шею и постучал кулаком в грудь.
– Я рабочий класс! И прошу меня не трогать.
Чуя, что и ему перепадет стаканчик, Сашка охотно полез в подполье за студнем и салом. Пошла под водку и курица, приготовленная в дорогу. Семен хотел уйти, но его пристыдил Дмитрий.
– Ты что, гнушаешься?!
– Гнушаюсь?! – Семен решительно шагнул к печке, повесил на гвоздь фуражку и взмахнул рыжей копной волос.
– Пить так пить! – Он достал из кармана поллитровку и поставил на стол. – Только заранее договоримся – по улице не горланить и… все остальное прочее. Ясно? – сказал он, глядя на Филиппка и Герасима.
– Ну, ясное море! Об чем спрашиваешь!.. Нешто мы с Гараськой не понимаем, с кем честь выпала за одним столом сидеть, как ровня с ровней. Ты, Семен, не думай, что раз мы неучи, так, значит, своего ума не нажили. Ум, сынок, не в школе одной занимают, его в жизни из-под земли добывают, он в борозде лежит. Захаровна, садись и ты, помянем покойного Егора. Любитель был выпить. Но скажу по совести, никогда ум не пропивал. Крепок был мужик, ох и крепок!.. Царство ему небесное. – Филиппок перекрестился на угол, где висела иконка.
Пили дотемна. Разговаривали вразнобой. Растроганный Герасим несколько раз бросался на шею Дмитрию, обдавая его водочным перегаром.
– Егорыч, век не забуду! Из могилы ты меня вырыл!.. – Огрубевшей ладонью Герасим вытирал слезы.
Откуда появилась четвертая бутылка водки – Дмитрий не понял. Он был уже изрядно пьян, когда мать зажгла лампу и, склонившись над его ухом, сказала:
– Может быть, хватит? Ведь ты уже и так на себя не похож.
– Мама!.. Мама!.. – Дмитрий обнял мать и поцеловал ее в щеку.
А в двенадцатом часу, когда со двора Шадриных, обнявшись и поддерживая друг друга, вышли Филиппок, Семен и Герасим, в окно кухни кто-то постучал.
– Сейчас! – откликнулась Захаровна, укладывавшая Дмитрия в горенке. В чулане одного оставить боялась – вдруг упадет. – Кто там?
– Примите телеграмму!
Захаровна расписалась в разносной книге почтальона и, проводив девушку, перекрестилась. В первую минуту она не решилась распечатать телеграмму, но, поглядев на спящего сына, который, как в детстве, раскинув руки, лежал на кровати, разорвала ленточку на бланке. Беззвучно шевеля губами, она читала:
«Митя приезжай скорее. Вызывают прокуратуру.
Страшно соскучилась. Целую Ольга».
Захаровна разгладила шершавой ладонью телеграмму, подняла глаза к закопченной иконке, перекрестилась.
– Дай бог им счастья!
Лежа в постели, она долго прислушивалась к ровному дыханию сына. Временами через выбитый глазок окна доносились с улицы всхлипы гармошки и разудалый, лихой голос Сашки.
«Пусть погуляет, пока молодой…» – подумала Захаровна.
…Кирбай в этот вечер долго сидел в своем кабинете. Прислушиваясь, как уныло, почти бесшумно тюкают по водосточной трубе крупные капли дождя, он задумался. Многое пронеслось в голове его с того часа, как он вышел от Шадриных. Таких поражений у него еще не было. Об этом, конечно, завтра же узнают в селе и будут судачить: мол, даже его, Кирбая, и то сумели приструнить. А Герасим Бармин?.. Тот теперь затаит такую обиду, что в Москву напишет. «Но пусть пишет – бумага все вытерпит. Жалобы сейчас не в моде, их читают в отделах писем и пересылают для решения местным властям, А чаще всего она попадает в руки тому, на кого жалуются».
Пододвинув к себе чистый лист бумаги, Кирбай крупными, разборчивыми буквами написал:
«Москва. В Министерство государственной безопасности. Копия – прокурору г. Москвы.
Считаю необходимым сообщить, что при проведении мероприятия важного государственного значения…»
Это было написанное по форме секретное донесение о враждебном поведении коммуниста Дмитрия Шадрина в родном селе. Не забыл также Кирбай особо подчеркнуть, что дядя Шадрина в 1937 году как враг народа был репрессирован по 58-й статье.
Кирбай все писал и писал… А крупные капли дождя уныло тюкали и тюкали по водосточной трубе.








