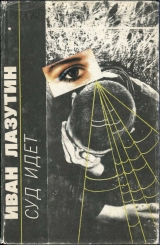
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 35 страниц)
XVI
Богданов сидел в своем прокурорском кабинете и внимательно читал протоколы допроса Анурова. Как юрист с опытом, он не мог не видеть, что допрос Шадрин провел на профессиональном уровне. Не упущены даже мелочи, которые на первый взгляд могли показаться несущественными. Оторвав взгляд от папки, он посмотрел в окно, встал, прошелся к двери. С самого утра его мучил вопрос: как тоньше завести с Шадриным разговор о деле Анурова и его компании. Расследование подходит к концу.
Из института судебной психиатрии о Баранове нет никаких сведений. Значит, диагноз больницы не опровергнут. А это во многом облегчает положение Анурова и его подручных. Нужно писать обвинительное заключение, а какая-то тайная тревога, не переставая, гложет его мозг и шепчет: «Смотри, Богданов, с Ануровым ты можешь влететь в нехорошую историю. Ануров коварный человек. Чего доброго, он может пойти на подлость и сказать лишнее. Ему поможет жена. Твоя же собственная жена… Зачем ей нужно было принимать от него ценные подарки? Особенно эти нейлоновые кофточки и французские туфли… Век живи и век учись».
Богданов отлично знал, что, согласно процессуальному кодексу, следователь не может вести дело, в котором замешан его родственник или друг. Он должен написать об этом рапорт прокурору и передать дело другому следователю. Вспоминая Анурова, он успокаивал себя тем, что тот приходится ему десятой водой на киселе. К тому же дело Анурова ведет не он сам, а подчиненные ему следователи. «А потом уже поздно писать об этом рапорт. Положено столько труда!.. Это нужно было делать с первого дня, когда только что возбудили дело против Анурова. Думаю, что все обойдется хорошо. Вот только Шадрин слишком ополчился против Анурова. Аж осатанел… И все из-за взятки, которую тот, старый дурак, вздумал предложить так нагло…»
Богданов вызвал Шадрина.
– Как дела? – спросил он, как только Шадрин закрыл за собой дверь.
– Подходим к концу.
– Есть какие-нибудь новости из института судебной психиатрии?
– Пока нет.
– Я так и знал. Здесь вы явно перестарались. Как говорится, проявили сверхбдительность.
Шадрин пожал плечами.
– Как знать, это еще неизвестно.
Богданов перевел взгляд на Шадрина и, точно прощупывая его, спросил:
– Как думаете квалифицировать?
– По Указу от четвертого июня.
– А не слишком ли?
– Думаю, что нет. Почти на миллион хищений! Мне непонятно, почему это дело расследуется районной прокуратурой? Ведь есть особое положение о том, что только городская прокуратура может вести такие дела.
– В городской прокуратуре завал. Это дело поручено расследовать нам. Но это другой вопрос. Я хотел поговорить с вами по существу. Вот вы несколько раз с особым нажимом смакуете сумму хищения.
– А разве это не существенно?
– Весьма существенно в оценке преступных действий Баранова. Ануров, Фридман и Шарапов – всего-навсего спекулянты.
Богданов набрал в авторучку чернил и, не давая ответить Шадрину, продолжал:
– Хищение есть хищение. Тут, конечно, нужно быть строгим, как нас обязывает к этому закон. Но не следует забывать железные принципы коммунистической гуманности.
– Не совсем понимаю вас, Николай Гордеевич.
Богданов встал. Глубокие складки у его рта изогнулись полукружьями и придали лицу озабоченный, усталый вид.
– Я познакомился с делом и вижу, что к Анурову вы относитесь с особым пристрастием. Все говорит за то, что вы хотите его представить суду обособленным в этой четверке. Он у вас перетягивает и Шарапова, и Фридмана.
– А разве это не так?
– Формально так, но не забывайте, что Ануров – коммунист с двадцать девятого года. Один тот факт, что его исключили из партии, – разве это не казнь? А если и закон еще повесит на него двадцатипудовую гирю лишения свободы, то он уже не встанет, он погибнет навсегда. У него в прошлом немало заслуг. А потом семья, дети… И, если хотите, он уже далеко не мальчик. Сколько ему?
– Сорок девять.
– Вот видите, если суд даст ему лет пятнадцать, то под семьдесят он вернется истлевшей портянкой. Потом не нужно забывать, товарищ Шадрин, что нас уже не раз предупреждали сверху, что в последнее время в квалификации мы зачастую бываем слишком жестоки. Однажды нас даже пожурили за такое усердие.
– Но тогда шел разговор о хищении мешка муки и нескольких килограммов колбасы.
Заложив за борт кителя руку, Богданов прошелся вдоль стола, что-то отметил в записной книжке и снова сел в кресло.
– Поймите же вы, наконец, дело тут не в одной денежной стороне, дело в самом принципе! Хищение государственной собственности! – На словах «государственная собственность» Богданов сделал особое ударение. – Сегодня он украл мешок муки, завтра он угонит машину с продуктами, а на следующей неделе его аппетиты возрастут, и он протянет руку за эшелоном. А потом вы же сами прекрасно знаете, что может быть сейчас для народа важнее, чем продукты питания. Лично я не считаю, что мы слишком строго подошли к Иванову, когда состав его преступления квалифицировали по Указу от четвертого июня.
Шадрин сдержанно возразил.
– Насколько я помню, у Иванова тоже была семья, жена, мать-старуха, трое детей, сам он работал всего-навсего грузчиком. Он воровал от нужды, а здесь – роскошь, разврат, купались в шампанском и закусывали ананасами.
– Остановитесь, Шадрин! Вы путаетесь в вещах, в которых отчетливо разбирается студент первого курса. Не вам же мне повторять в третий раз, что не материальная нужда, не нищета являются в нашей стране источником преступления. Эта точка зрения на происхождение преступности применительна только к буржуазному обществу. – Богданов с минуту помолчал, потом проникновенно и гневно продолжал: – Разве я не вижу, что вся эта четверка – мерзавцы и негодяи! Но учтите также и то, что райком партии вряд ли поддержит нас за такую строгость. Были уже звонки.
С каждой минутой Шадрина все сильнее и сильнее охватывало раздражение. Он чувствовал, что скоро ему начнут читать популярную лекцию о том, что такое социалистическая законность и что коммунистическое общество лучше капиталистического.
– Какие будут последние указания?
– Учитесь прислушиваться к совету старших и выполнять то, что рекомендует начальство.
– Конкретно?
– К этой четверке отнеситесь гуманней, когда будете писать обвинительное заключение.
– Мотивы?
– Я вам назвал их. А потом вы же прекрасно знаете, что львиная доля всех прибылей от спекулятивной продажи шла Баранову.
Дмитрий смотрел на отлетевший рант на своем стоптанном ботинке и, угрюмо нахмурившись, молчал.
– Можно подумать, что вы решаете вопрос жизни и смерти изменников Родины, – попытался шутить Богданов.
– Я на это не могу пойти, товарищ прокурор, – тихо произнес Шадрин.
– Почему? – Губы Богданова сжались, словно от боли.
– Я уверен, что по делу этой четверки, а в особенности Анурова, суд применит меру наказания по Указу от четвертого июня. И нам придется краснеть за свою излишнюю гуманность.
– Товарищ Шадрин, – Богданов отечески улыбнулся и покачал головой. – Я уже двадцать лет работаю в органах прокуратуры. Вы понимаете – двадцать лет! Начал с секретаря. Вы же всего-навсего без году неделя за этим столом. Я – прокурор. Вы – только следователь.
– С подобной субординацией я знаком уже давно, еще в Пинских болотах на Белорусском фронте!
– Кем вы воевали?
– Офицер разведки.
– Это видно. Все разведчики – анархисты.
– Мне об этом никогда не говорили.
– Вы много рассуждаете.
– Я отвечаю на ваши вопросы.
– Вы должны выполнять мои указания.
– В пределах, предусмотренных законом.
Богданов снова заложил правую руку за борт своего прокурорского кителя, откинул назад голову и замер на месте, пристально рассматривая Шадрина.
– Что ж, мое дело предупредить, рекомендовать, ваше – выполнять или не выполнять. Вы свободны. Не забудьте, завтра вечером партийное собрание. На повестке дня стоит вопрос о работе молодых специалистов. Будьте благоразумны. – Богданов сел в кресло и, не глядя на Шадрина, отодвинул в сторону дело Анурова.
Шадрин вышел из кабинета прокурора. Только теперь он по-настоящему понял, что все, чему его учили в университете, – все это профессорские сказки, над которыми здесь, на практике, смеются старые работники, когда этими сказками руководствуются молодые специалисты.
XVII
Вечером состоялось партийное собрание. Пришел на собрание инструктор из райкома партии и представитель из прокуратуры города – тот самый товарищ, который полгода назад, на Государственной комиссии, во время распределения направил Шадрина работать в прокуратуру.
Первым вопросом в повестке дня стояло: «Подготовка к предстоящим выборам в Верховный Совет». С докладом по этому вопросу выступал секретарь партийной организации старший следователь Бардюков.
Многолетний опыт прошлых предвыборных кампаний настолько был знаком всем, что распределение обязанностей среди коммунистов прокуратуры прошло без малейших заминок – каждому уже не раз приходилось работать и агитатором, и пропагандистом, и непосредственно на избирательном участке.
Шадрину было поручено возглавить бригаду агитаторов по избирательному участку, над которым шефствовала парторганизация прокуратуры.
Пока решался первый вопрос, Богданов сидел за своим столом, покрытым зеленым сукном, и писал. Инструктор из райкома партии, низкорослый парень в серой гимнастерке, внимательно слушал Бардюкова и время от времени что-то заносил себе в блокнот. Иногда в знак согласия он покачивал головой – это было в те моменты, когда докладчик натыкался на него взглядом. И вообще чувствовал себя инструктор хозяином собрания. Чтобы придать своей особе важность и осанку ответственного работника, он поминутно поглаживал гладко выбритую голову и выгибал шею, в которую врезался белый целлулоидный воротник серого кителя.
Представитель из прокуратуры, Варламов, сидел в жестком кресле у окна и время от времени украдкой зевал, аккуратно прикрывая рот ладонью. В повестке дня его интересовал второй вопрос – работа молодых специалистов. На опыте районных прокуратур, куда за последние пять лет было направлено много молодых специалистов, он должен через месяц сделать обстоятельный отчет прокурору города. В прокуратуру, где работал Шадрин, за последние два года направили трех молодых специалистов, которые сидели тут же на партийном собрании. Только одного Шадрина Варламов запомнил в лицо. Курьезный случай при распределении, когда ему, конкурируя, пришлось «отобрать» выпускника Шадрина у представителя Моссовета, врезался в память. А главное, Шадрин запомнился своей смелой убежденностью и независимостью в суждениях.
Вот и теперь, рассматривая лица сидящих на собрании, он снова и снова возвращался памятью к Шадрину. Чем-то – а чем, он даже не мог понять – нравилось ему его худощавое бледное лицо с твердыми чертами.
С Варламовым Дмитрий поздоровался еще в начале собрания, когда тот разговаривал с прокурором. По лицу Варламова Шадрин понял, что тот, узнав его, о чем-то хотел спросить, но, передумав, только с улыбкой кивнул головой и снова повернулся к прокурору.
Когда приступили ко второму вопросу, Варламов заметно оживился. Громко откашлявшись, он обвел взглядом сидящих в кабинете. Богданов кончил писать. Первым, на кого упал его взгляд, был Дмитрий Шадрин.
По второму вопросу докладывал помощник прокурора Наседкин. Его недолюбливали. Это был бесхарактерный человек, на стол которого кто-то однажды положил лист бумаги, на котором крупными буквами было выведено: «И нашим и вашим, поплачем и спляшем». Выше надписи была нарисована карикатура, изображавшая Наседкина.
С первых же слов Наседкина Шадрин понял, что с тезисами его выступления Богданов не только знакомился, но сам их продиктовал ему.
Сделав небольшое вступление, Наседкин перешел к персональным характеристикам молодых специалистов, которые были направлены в их прокуратуру за последние три-четыре года.
Второй год работал следователем Артюхин. В прокуратуру он был направлен после окончания двухгодичной юридической школы. Более неграмотного и ограниченного человека Дмитрий в жизни своей не встречал. Как-то раз – это было в первый месяц работы Шадрина – старший следователь Бардюков дал ему текст обвинительного заключения, попросив поправить ошибки и «выровнять стиль». Дмитрий принялся читать этот документ и вначале, грешным делом, даже подумал: «Испытывает. Хочет сыграть морскую шутку». И тут же, не дочитав до конца обвинительное заключение, возвратил его Бардюкову.
– Хотя я и салажонок в следственном деле, но якорь точить не собираюсь.
– Какой якорь? Ты что? – удивился Бардюков.
И Дмитрий рассказал, как на флоте разыгрывают новичков:
– Придет эдакий восемнадцатилетний юнец на корабль, и все ему в диковинку, на все смотрит широченными глазами, приказание старших выполняет сломя голову. И вот вызывает такого салажонка старый матрос, дослужившийся до шеврона – на флоте старослужащих называют «сундуками», – и говорит: «Иванов, якорь затупился. Ваше решение?» Тот стоит и моргает глазами и не знает, что ему нужно делать. А старый матрос в сердцах покачает головой и начнет отчитывать: «Эх ты, зелень сухопутная! Не можешь сообразить. На, иди поточи!» И подаст новичку подпилок. Тот козырнет и летит на кормовую часть корабля, где многотонной громадой раскорячился якорь. Усядется этакий салажонок – Иванов, Петров, Сидоров – у якоря и точит… Точит его старательно, а самая маленькая грань у якоря – как у слона нога. Часа через два осенит его догадка, вот он и плетется назад под свист и хохот старой матросни. На лице обида, стыдится, а жаловаться на флоте не положено – без шутки моряку жить нельзя Вот так-то, товарищ старший следователь, и вы со мной хотели подшутить.
Но Бардюков не шутил. Обвинительное заключение было написано Артюхиным. Причем написано таким красивым каллиграфическим почерком, каким обычно пишут на кандидатских и профессорских дипломах во Всесоюзной аттестационной комиссии при Министерстве высшего образования.
Более двух десятков орфографических и около десятка синтаксических ошибок исправил Шадрин в тексте, написанном на двух страницах. Вначале Дмитрий возмутился: как могли совершенно неграмотного человека направить в прокуратуру следователем? Потом, уже недели через две, ближе присмотревшись к Артюхину, он стал жалеть его и тайком от других следователей править, а иногда даже заново переписывать тексты его обвинительных заключений.
Артюхин с войны вернулся без ноги и некоторое время работал инспектором в райсобесе. Потом с помощью райкома партии устроился в юридическую школу. У него было двое детей и больная мать. Жена где-то вначале работала лифтершей, а потом ее уволили по сокращению штатов. С тех пор на иждивении Артюхина, получающего восемьсот девяносто рублей, было четыре человека. Все чувствовали и видели его материальную нужду. Обедал он всегда на три рубля, курил только «Прибой» и виновато смотрел в глаза своим коллегам. К Шадрину он относился с каким-то благоговением и затаенной доброй завистью: чем дальше, тем чаще и чаще помогал ему Шадрин в оформлении документов, которые шли на подпись прокурору и в суд.
Характеристику молодому специалисту Артюхину Наседкин закончил словами:
– Главное, товарищи, человек старается. И в пример другим скажу, что некоторым нашим молодым работникам – я не буду называть фамилии – у товарища Артюхина нужно поучиться аккуратности и исполнительности. Может быть, он и не остер на язык, как, скажем, товарищ Шадрин, зато он от прокурора за полтора года не имеет ни одного замечания и является дисциплинированным следователем, дела всегда заканчивает к сроку.
Наседкин сделал паузу и поднял перед собой указательный палец.
– Но тут же хочу оговориться, что не все у Артюхина хорошо.
Наседкин отпил из стакана глоток воды и посмотрел на Варламова, который сидел неподвижно и, как это было видно по лицу его, чем-то был недоволен. Стараясь понять, чем же был недоволен Варламов, Наседкин незаметно перевел взгляд на прокурора, но, не прочитав в его лице ничего такого, что могло бы быть ориентиром в его дальнейшем выступлении, уставился на инструктора из райкома, который по-прежнему что-то строчил в своем увесистом блокноте, на толстой корке которого было вытиснено: «Делегат районной партийной конференции».
– Так вот, товарищи, скажем откровенно, что слог у Артюхина прямо-таки хромает, и, я скажу, здорово хромает. Хромает на обе ноги. По части грамоты и оборотов при письме у него дело обстоит неблагополучно. Но я думаю… – Наседкин сделал затяжную паузу. – Но я думаю, что и с этим товарищ Артюхин справится. Человек он молодой, растущий, фронтовик, инвалид Отечественной войны, а поэтому только остается пожелать ему учесть наши замечания и засучив рукава приняться за дело… Теперь что касается следователя Кобзева, который работает в нашей прокуратуре уже больше года. К этому, как и к Артюхину, тоже не придерешься…
И Наседкин минут десять рассказывал собранию о том, как под руководством опытного следователя Бардюкова вырос грамотный, с оперативной сноровкой специалист. Временами Наседкин посматривал в сторону Варламова – тот одобрительно улыбался и в знак согласия кивал головой.
А следователь Кобзев, склонив от стыда свою крупную, не по возрасту рано лысеющую голову, слушал похвалу помощника прокурора и думал: «Болван! Какой болван! Тебе не людей характеризовать, а баранов взвешивать в «Заготскоте». Поставил на весы, кинул гири, записал в ведомости и кричи: «Следующий!..»
Кобзев был ядовитым и остроумным молодым человеком. В черных и всегда улыбающихся глазах его плясали насмешливые огоньки. Он и допрашивал-то так, точно начинал разыгрывать человека: «А скажите мне, гражданин такой-то, при каких обстоятельствах и с кем вы совершили кражу у этой хорошенькой танцовщицы?» Больше всего не прощал Кобзев людям их тупость и слепое угодничество перед начальством – те самые черты, которыми так щедро была отмечена личность Наседкина. И тут Кобзев впервые по-настоящему поверил в мудрость, что похвала дурака обиднее упрека мудреца.
А Наседкин все хвалил и хвалил Кобзева. И главное, хвалил за то, за что больше всего следовало бы его ругать. Будучи излишне горячим, а порою даже несдержанным и резким с начальством, в докладе Наседкина он был представлен собранию как образец исполнительности и точности. И снова все добродетели Кобзева Наседкин рисовал на мрачном фоне отрицательных качеств молодого следователя Шадрина, о котором, как уже все поняли, речь пойдет особо.
Часто Наседкин сбивался. Ища поддержки, он обращал свой взор к прокурору. Тот одобрительно, точно благословляя, закрывал глаза и утвердительно покачивал головой.
Дошла, наконец, очередь и до Шадрина. Дмитрий заранее почувствовал, что нечего ему ждать добра от выступления Наседкина. Но то, что он услышал сейчас, было свыше его ожидания. Ни одного поощрительного жеста, ни одного теплого, доброго словечка не прозвучало в сухом и монотонном речитативе помощника прокурора. Дмитрий сидел и чувствовал, как горячие приливы крови подступали к его щекам, как от этих приливов набухали ладони, как в горле что-то першило, щекотало. Такое физическое чувство он испытывал и раньше. Но где, когда?.. Он силился вспомнить и не мог.
За какие-то последние несколько минут, пока его имя несколько раз упомянули недобрым словом, он почувствовал, как в нем растет и встает на дыбы доселе дремавший дух бунтарства.
Но обиднее всего было слышать, что ругал его Наседкин за то, в чем он был безукоризненно добросовестен и честен. Все было свалено в кучу: и зазнайка, и неаккуратный в ведении документации, и нескромный в обращении со старшими, и ленив в работе… Когда же Наседкин дошел до того, как пишет Шадрин обвинительные заключения, то он оживился и, рассчитывая посмешить собрание, попробовал шутить:
– Читаешь его обвинительное заключение – и хоть за живот берись. Не документ юридический, а поэма! Прямо наподобие «Василия Теркина». Как в жизни говорят, так он и бухает в обвинительном заключении. И ведь сколько раз ему указывали, что юридический язык – это язык особый, тут нужны годы, чтобы как следует набить на нем руку, а он норовит одним махом семерых убивахом. Да еще артачится, когда ему указывают, как нужно правильно писать…
Никто из сидевших в прокурорском кабинете не улыбнулся. Варламов сидел в своем жестком кресле, привалившись левым плечом к горячей батарее парового отопления, и тайком наблюдал за Шадриным.
«Тут что-то не то, что-то явно не то…» – билась в голове Варламова мысль, а почему «не то» – он еще не давал себе ясного отчета.
Артюхин, который полчаса назад переживал минуты огромного напряжения, теперь сидел с благодушным видом святого угодника и тайком (хотя все курили открыто) курил в кулак. Время от времени он преданно и как-то по-детски доверчиво смотрел своими светло-серыми глазами на докладчика и взглядом заверял: «Будьте уверены. С завтрашнего дня буду работать с засученными рукавами, как вы указали. Что-что, а по части обвинительных заключений я добьюсь сдвига. Все на это положу…» Смутным, отдаленным эхом, расплывшимся где-то вдалеке, доносились до сознания Артюхина слова Наседкина. «Шадрин, Шадрин, Шадрин…» – отдавалось в его ушах, и он считал вполне нормальным, что Шадрина ругали. Если начальство ругает – значит, на пользу. Это строгое правило Артюхин вбил себе в голову как непреложный закон жизни и теперь думал только об одном: скорей бы кончалось собрание. Дома его ждала семья, огромная сковорода жареной картошки и, как это всегда водится в день получки, четвертинка перцовки, которую он уже успел украдкой купить в обеденный перерыв в соседнем гастрономе.
Совсем другие мысли тревожили Кобзева. Все еще неженатый в свои двадцать девять лет (за это не раз упрекало его начальство и советовало «положительно» решить этот пункт биографии), он не рвался домой. Посматривая на часы, он прикидывал в уме: успеет или не успеет сделать заказ в Ленинской библиотеке. Последние два года Кобзев работал над диссертацией о формах и границах психологического воздействия на подследственного во время допроса. За пять лет следовательской практики он пропустил через свои руки не одну сотню преступников. Детально анализируя каждый допрос, он приходил к убеждению, что не может быть шаблонного мерила в психологической позиции следователя. Кобзев был уверен: чтобы добиться истины кратчайшим путем, нужно в каждом конкретном случае искать свои особые пути и тропинки к сердцу и разуму преступника. И в этом неисчислимом сонме путей и дорожек Кобзев вначале смутно, а потом все отчетливее и отчетливее различал широкие грунтовые дороги, в которые, как ручейки в могучие реки, впадали эти узенькие тропинки. Обо всем этом он и хотел сказать в своей диссертации. За работой хороших и плохих следователей он наблюдал последние два года, пользуясь особым допуском во все прокуратуры Москвы. Перевидал всяких преступников: начиная от невинных овечек, которые с удесятеренным страхом смотрят на свои содеянные проступки и трепещут перед следователем как осиновые листы. Видел и головорезов, которым убить человека легче, чем достать из колодца ведро воды. А как они, эти убийцы, возводившие свои преступления в доблесть, держали себя на допросах! Кажется, атрофировано все: боязнь за собственную жизнь, чувство угрызения совести, жалость к слабым, у которых беспощадная рука отнимает жизнь. Осталась одна скотская, тупая алчность и злоба в глазах, которые нагло улыбались тогда, когда видели, что другим больно. Эти глаза никогда не знают слез. Однако видел Кобзев и таких следователей (о, какие это были ясные головы и горячие сердца!), которые ценой нравственных усилий и поисков все-таки находили особые струны в душе отпетого преступника. И тогда эти струны звучали по-человечески, ломались звериные нормы жиганского кодекса. Жизнь!.. Знание жизни – вот что, по глубокому убеждению диссертанта Кобзева, было первоосновой метода психологического воздействия на преступника.
Не раз Кобзев присутствовал, когда допрашивал Шадрин. Молодой следователь интересовал его с самого первого дня работы в прокуратуре. Впервые Кобзев пошел к нему на допрос с мыслью о том, чтобы потом, в особом разделе диссертации, где он будет рассказывать об ошибках молодых следователей, привести новые примеры неопытности и недостаточного знания жизни и приемов допроса.
Тогда Шадрин допрашивал опытного рецидивиста, задержанного за соучастие в ограблении депутата Верховного Совета. Кобзев никак не ожидал (он даже не придал этому особого значения), что на детали политического характера Шадрин построит весь свой допрос. Вначале он подавил преступника, впервые ограбившего представителя власти, известием о том, кто ограблен. Потом стал бросать на него хитрые сети обещаний и надежд на снисхождение: в случае чистосердечного признания депутат имеет право облегчить участь подследственного. Еще несколько точных и умело поставленных вопросов – и допрашиваемый признался, назвав основного грабителя. Других материальных улик для раскрытия этого преступления не было. Было одно подозрение.
С этого допроса Кобзев ушел обуреваемый новыми мыслями, новыми догадками. Он тут же кинулся в Ленинскую библиотеку и по свежим следам, по памяти, восстановил допрос Шадрина, вчерне набросав новый раздел: «Политическая конъюнктура во время допроса».
С тех пор Кобзев не раз бывал на допросах у Шадрина. Скрывая цель посещений, он всякий раз восхищался его точной, продуманной работой, которая коренилась на особом приеме молодого следователя, умеющего быстро оценивать обстановку и неожиданно перестраивать всю тактику допроса. Кобзев любовался работой Шадрина и приходил к твердому выводу: для того чтобы быть хорошим следователем, кроме ума и опыта, нужно обладать талантом аналитического проникновения в душу подследственного. Проникнуть в эту душу не затем, чтобы только понять, какая эта душа, а чтобы заставить эту душу сказать то, чего требует материальная истина: правду, признание. Кобзев видел, что Шадрину это удавалось легче и тоньше, чем другим, даже опытным следователям. И вот теперь он, диссертант Кобзев, сидит на партийном собрании и слушает, как малограмотный, ограниченный Наседкин, который прожужжал всем уши своими рассказами о том, что в их времена университетов в деревне не было, что учились они за меру картошки… как этот самый трусливый Наседкин топчет в грязь то, что нужно отделить, приподнять на руки и сказать другим: «Вот! Смотрите, как нужно работать! А ведь человек всего-навсего полгода на оперативной работе».
Наседкин закончил доклад заверением, что в своей повседневной работе они отдадут все силы на то, чтобы оправдать перед партией и правительством высокое звание советского юриста.
В прокуренном кабинете прокурора – не выручала даже широко открытая форточка – застыла тишина. Никто не смотрел в глаза друг другу. Все чувствовали, что Наседкин перегнул, что нельзя так, как обухом по голове, ошарашивать молодого следователя. Тем более, кроме хорошего, никто о Шадрине в прокуратуре за полгода работы не говорил.
Наседкин оглядел сидящих и перешел к прениям. Снова в глухом кольце замкнулась тишина. Было только слышно, как булькала вода из горлышка графина, бьющегося о стакан в дрожащих руках Наседкина.
– Что же мы молчим, товарищи? Разве нам не о чем сказать? Вот вы, например, товарищ Артюхин! Что вы можете сказать о своей работе и как вы считаете критику в ваш адрес и в адрес ваших товарищей – справедливой или несправедливой?
Артюхин, обжигая сигаретой пальцы, растерянно моргал. Опираясь на палочку, он встал.
– Я считаю, товарищи, что критика помощника прокурора в адрес молодых специалистов была совершенно справедливой.
Наседкин сделал резкий жест в сторону секретаря собрания. Этот жест означал: «Нужно обязательно записать!»
Артюхин продолжал:
– Нам, молодым следователям, и особенно, как это видно из доклада, товарищу Шадрину следует учесть в своей дальнейшей работе и не допускать впредь тех ошибок, которые мы допускали. Что касается меня, то я могу заверить партийное собрание, что постараюсь улучшить свою работу и изжить недостатки, которые у меня имели место.
– Самокритично! Вполне самокритично! – приободрил его Наседкин, с некоторой опаской посматривающий в сторону завозившегося в углу Кобзева, от которого он мог ожидать всего.
Когда Артюхин сел, Наседкин обратился к Кобзеву:
– А вы, товарищ Кобзев, что желаете сказать в ответ на оценку вашей работы, а также работы ваших товарищей?
Кобзев сидел с опущенной головой и не подавал признаков, что он слышал вопрос Наседкина.
– Я обращаюсь к вам, товарищ Кобзев. Как вы относитесь к критике и что вы можете предложить для дальнейшего улучшения?
Кобзев, лениво раскачиваясь, встал. Насмешливые огоньки в его глазах заплясали зло и желчно. Этот взгляд всегда смущал и выводил из себя Наседкина.
– То, что я слышал сейчас в пространном докладе помощника прокурора, мне почему-то напоминает прием древних софистов, которые могли белое представить черным, а черное – белым.
Прокурор, которому не понравилась эта эзоповская форма выражения мысли, раздраженно оборвал Кобзева:
– Конкретней, Кобзев! Здесь вам не семинар по логике. Все знают, что вы строчите диссертацию и наизусть выучили много мудрых слов. Говорите о деле, яснее и проще.
Слова Богданова подлили масла в огонь. Вспыльчивый по характеру, Кобзев не в силах был сдерживать поднимающегося в нем возмущения.
– Хорошо, я скажу просто. Доклад Наседкина мне не понравился. Фальшивый он. От начала и до конца фальшивый. Разумеется, как у следователя молодого, у Шадрина есть некоторые ошибки. Но представить его на партийном собрании в таком ложном и неблаговидном свете – это несправедливо. Это не критика, а дубина! Шадрин – талантливый и грамотный следователь. И не он ходит учиться составлять документацию к Наседкину, а Наседкин в день по семь раз бегает к Шадрину и поручает ему оформлять наиболее ответственные документы. – Кобзев передохнул и осмотрел сидящих. – Что касается Артюхина, которого здесь хвалили, то я бы лично от этих похвал воздержался. Это пока еще не следователь. Почему? Все знают. Чтобы постичь высшую математику, нужно освоить элементарную школьную арифметику. А Артюхину, как и товарищу Наседкину, нужно начинать с элементарной школьной грамматики. С азов человеческой культуры.
– Расскажите лучше о себе! – вставил реплику прокурор.
– Что я могу сказать о себе, когда меня сегодня так старательно хвалили? Работаю, строчу, как вы выразились, диссертацию и заучиваю мудрые латинские слова.
Кобзев сел. Пальцы его рук дрожали. Теперь он чувствовал, что перехватил через край. Но было уже поздно. Незримая, тайная война между ним и помощником прокурора теперь уже перешла в открытую. И первым войну эту начал он, подчиненный Кобзев. Он уличил начальника в безграмотности, в непорядочном отношении к своему подчиненному Шадрину.








