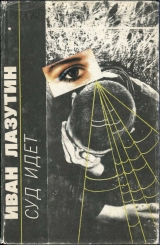
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)
Семен задумался, потом вздохнул.
– Тебе нечего терять. Ты сел в свою карету и уехал в Питер. Я на твоем месте, пожалуй, тоже бы сцепился с ним. Да так сцепился, что перья из обоих полетели! Только меня от этого уволь. Я пока от выговора не очухался, а ты сам видишь, у меня семья, двое детей. Ты меня предупредил – будем откровенны, как друзья, так вот, я тебя, как друга, прошу – не впутывай пока меня в это дело. Сейчас он может меня совсем раздавить. Я даже знаю формулировку, которую он гирей повесит мне на шею: «Утрата бдительности». Это штамп, но штамп кирбаевский, испытанный, неотразимый.
– Не таким ты был, Семен, раньше, не таким я хотел тебя видеть. Трусишь.
– Слушай, Дмитрий, мне самому больно об этом говорить, но что я могу сделать сейчас? Тебе не приходилось видеть на войне, как солдат с гранатой в руке бросается на вражеский танк? Бросается один на один!
– Ну так что из этого?
– А то, что у этого солдата в руках граната. Ты понимаешь, граната! А у меня в руках даже этой гранаты нет. Есть одна винтовка, да и та с одним патроном. Могу ли я идти с ней против танка? Есть ли хоть один шанс из ста, что я не кончу этот свой крестовый поход под гусеницами? Причем кончу, как раздавленный червь.
– Так что же ты решил? Сложить оружие? Любоваться, как Кирбай будет и дальше ходить по головам?
– Ну, Дмитрий, ты слишком просто, по-партизански смотришь на вещи. В душе я боец, ты это знаешь. Но на войне не всегда бойцы наступают. Иногда они занимают оборону, а случается, что нужно и отступить. И отступают! Но отступают организованно, со смыслом, с тем, чтобы, собрав силы, перейти в контрнаступление. Пусть тебя не посмешит такая возвышенная параллель, но тактикой больших сражений иногда руководствуются и маленькие люди, если в душе они бойцы.
– Ты отступаешь? – мрачно спросил Дмитрий.
– Нет, я в обороне. Я коплю силы, чтобы, организовавшись, сняв выговор, нащупать больные места у Кирбая и ударить по нему неожиданно, да так ударить, чтобы он не смог никогда зализать свои раны. – Семен вздохнул, заложив руки в карманы, прошелся по комнате. – Осуждай меня, ругай меня, но все это мной продумано и взвешено. Я не хочу глупо, как баран, идти под топор мясника. Из меня в последний год и так порядочно выдрали шерсти. Я не хочу с винтовкой в руках ложиться под гусеницы кирбаевского танка. Уж если лечь, то лечь со смыслом, со связкой гранат на груди.
– Я понимаю тебя, Семен. – Дмитрий хмуро помолчал, потом продолжал: – Обещаю в это дело тебя не впутывать.
– Более того, о Кирбае мы с тобой не говорили. Все, что ты узнал о нем, ты узнал помимо меня. Это моя просьба.
– Хорошо. – Дмитрий встал и собрался уходить. – Ты пока передохни, Семен. А мне видеть все это тяжело. Я обвешан кругом гранатами. И если я буду с ними сидеть в окопе и слушать, как мимо, надо мной несутся вражеские танки, – я уже не солдат. Я дезертир и трус. Оружие куют для того, чтобы им уничтожать зло. Нашим с тобой оружием является наш партийный долг, гражданская совесть. Бывай здоров. Заходи, если не таишь в душе обиду за мою прямоту. Напоследок припомню тебе один случай. Это было на Первом Белорусском фронте. Кажется, под Жлобином. Был бой, рота шла в обход деревушки. В ней засели немцы. Тяжелый бой. И вот одного солдата ранили в левую руку и в ногу. Перебитая рука висела, как плеть. Левая щека разворочена осколком, на шинель с лица стекает кровь. Но солдат не побежал в полевой госпиталь залечивать раны, с тем чтобы, поправившись, вновь взять оружие. Он даже прогнал от себя санитарку, которая подбежала к нему. С трудом встал, примостил автомат в развилку березы и продолжал вести прицельный огонь. Стрелял одной рукой… А когда кончились патроны – выхватил из-за пояса гранату. Ковылял, падал, а все-таки кинулся вперед, вслед за авангардом роты. Подумай, Семен, над философией этого солдата. Еще раз бывай здоров! Не поминай лихом.
– Спасибо, Дмитрий. Верно, что ты говорил от чистого сердца. – Семен взял Шадрина за плечи и, глядя ему в глаза, строго сказал: – Ты уже уходишь. А я думал, что посидишь. Ведь ни разу в жизни мы с тобой не выпили даже четвертинки. Останься! У меня есть изумительные грузди, сам собирал на прошлой неделе, похрустывают… Ну, останься же!
– Нет, Семен, я сегодня уже прикладывался. А потом мне врачи строго-настрого запретили. Если уж у тебя так горит выпить со мной – приду в воскресенье, к вечерку, прибереги грибки.
В голубых глазах Семена колыхнулась горечь и приметная обида.
– Растравил и уходишь. А ты знаешь, вот поговорил с тобой – и вроде бы на душе легче стало. С другими об этом говорить начистоту не решаюсь. А то, может, посидели бы? И жена обидится, она ведь у меня хорошая, хохлушка. Сейчас нам таких пельменей поставит на стол, что ты пальчики оближешь.
– Не могу, Семен, ей богу, не могу. Не обижайся. Если хочешь – приду в воскресенье.
– Только чтоб без обмана. – Семен протянул Шадрину руку.
– Сказал – значит, приду.
– Клянись на мече!
«Клятва на мече» – это было увлечение детских лет. Начитавшись приключенческих романов, они подражали героям, копируя их выражения и слова.
Дмитрий вытащил из-под печки рогач и торжественно замер на месте.
– Клянусь на мече!
Старые друзья расхохотались и, полуобнявшись, вышли во двор.
Солнце коснулось зеленой кромки горизонта. С крыльца Дмитрий видел свою избу. По двору с чугуном в руках шла мать. Со стороны кирпичного завода доносилось щелканье кнута и раскатистое: «Куда!..» Это пастух гнал стадо.
Двухлетний сынишка Семена, брошенный сестрой без присмотра, взобрался на крышу хлева. Он хотел поймать пестрого котенка, который жалобно пищал, примостившись на кончике стропилы. Отступать котенку было некуда: он мог попасть в лапы преследователя. Прыгать на землю боялся – высоко.
– Ах ты, разбойник этакий!.. Ты куда забрался? А ну, поди сюда! – Семен кинулся за лестницей, приставил ее к плетню и снял с крыши перепуганного сына. – Ты у меня сегодня заработал на орехи! – Приговаривая, он шлепал сына по ягодицам. – А ну, марш сейчас же домой!
Мальчик простучал босыми пятками по порожкам крыльца и скрылся в сенках.
Домой Дмитрий возвращался огородами. Уже выпала роса. Как ни старался он высоко поднимать ноги – домой пришел с мокрыми до колен брюками.
На ужин мать сварила уху из свежих карасей, купленных у известного на все село рыбака Кондрата Рюшкина. Две трети жизни он провел на озере, пропах до костей рыбьей чешуей, камышами и мокрыми сетями. С виду Кондрат походил на старого неказистого ерша: с маленьким личиком, поросшим серой колючей щетиной, и шустрыми зоркими глазами.
Ужинал Дмитрий молча. А когда вылез из-за стола, мать, видя, что сын ел плохо, озабоченно спросила:
– Нешто мочи нет или невкусно?
– Вкусно, очень вкусно, мама! Но не могу же я в день десять раз садиться за стол. Филиппок пришел – ешь с ним. Заглянул к Семену Реутову – там тоже пичкали. Пришел домой – и здесь садись за стол. Да что у меня, живот – бездонная бочка?
– Может, молочка парного кружечку? – Захаровна кинулась в чулан и тут же вернулась с крынкой.
Чтобы не обидеть мать, Дмитрий, как в молодости, «быком» выпил полкрынки молока и, отдуваясь, вернул ее матери.
– Теперь всю ночь будут черти сниться!
В избе было душно.
Дмитрий лег в чулане на кровать, сооруженную из трех досок, положенных на козлы.
Заснуть не мог долго. Из головы не выходил зять Филиппка и рассказ Семена Реутова. Лежа с закрытыми глазами, он продумывал предстоящий разговор с Кирбаем. И чем больше думал о встрече с ним, тем сильнее распалял себя. В ушах постукивали молоточки. Но сон не приходил. В чулане пахло дегтем, плесенью погреба и прелой кожаной обувью, которая валялась в углу – на всякий случай. Из-за плетневой стенки, обмазанной глиной, доносились тяжелые коровьи вздохи. Было слышно, как она жевала жвачку. В углу, в ящике с инструментами, оставшимися от отца, скребла о дерево мышь. В круглую дыру от выбитого сучка сочился лимонный свет луны. Со стороны болот неслось тоскливое кугуканье выпи, которой вторил печальными подсвистами кулик. Где-то на конце улицы под гармонь тоненький девичий голосок выводил «Страдание». Из-за огородов доносился приглушенный собачий вой.
«Чего ее раздирает?» – раздраженно подумал Дмитрий и накрыл подушкой голову, чтоб не слышать этого протяжного, холодящего душу воя. Раньше, в детстве, собачий вой по ночам повергал его в безотчетный страх. Димка глубоко верил народной примете: если воет собака, то это или к покойнику, или к пожару. Теперь он не верил в приметы, но на душе, как и в детстве, было тоскливо.
«Семка Рыжий, кто бы подумал?! Секретарь райкома! А ведь был-то кто?» И Дмитрий вспомнил, как они с Семеном десять лет назад пустились из родного села в большую жизнь в поисках счастья и заработков. Курс держали на Москву. Ко дню отъезда готовились долго и тщательно, втайне от матерей обсуждали мельчайшие неожиданности в предстоящей дальней дороге. Несколько раз ходили на станцию разгружать вагоны с углем и строевым лесом. Заработанные деньги прятали в потайниках. Берегли каждую копейку, которую удавалось заработать урывками, случайно. Рыжий даже продал свой вечный двигатель, который он сам же изобрел и с помощью кузнеца Прошки решил доказать миру, что школьные учебники по физике врут.
И вот вечный двигатель продан за пятьдесят рублей Ваське Королеву, сыну директора раймага. Васька сгорал от зависти, глядя, как Рыжий вместе с кузнецом с утра до вечера стучали в кузне. Его не только в пай, даже близко к кузнице не подпускали – боялись, увидит чертежи. Полгода Рыжий и кузнец Прошка, который свято верил в успех их тайного открытия, мастерили адскую машину. Запустили ее и ждали… Думали, что двигаться она будет вечно… Прошка даже помолился в минуту торжественного пуска двигателя. Но он тут же остановился. Сколько они потом ни бились и ни ломали голову над чертежами – двигаться вечно машина не хотела.
Вырученные за двигатель деньги Рыжий разделил поровну с Прошкой, а свою долю положил на чердак, где у него был потайничок у печного чувала.
Димка продал всех своих голубей и тоже поздно вечером полез прятать выручку в погреб, где стоял вечный мрак, где пахло плесенью и сыростью.
К ноябрю они скопили по триста рублей каждый и решили тронуться в путь. Все было припасено к отъезду: только что полученные новенькие паспорта, справки из сельсовета, школьные табели… Даже удостоверения на значки «ПВХО» и «БГТО» и те были аккуратно завернуты вместе с документами и деньгами. Рыжий очень горевал, что прошлым летом не сдал норму на «Ворошиловского стрелка».
Лежа на душных полатях и слушая, как где-то в печной трубе сверчок выводит однообразную руладу, Димка со щемящей сладостью думал, как месяца через два после его отъезда, перед Новым годом, к ним в избу войдет рябая почтальонша со своей пузатой сумкой и скажет: «Тетя Маруся, вам перевод». – «Да это от кого же, господи?! Кто же это мог послать-то?» И почтальонша, которая еще на почте досконально изучила, от кого перевод и с какой припиской, безразлично скажет: «Да, наверное, от Митяшки, поди, чай, лопатой там гребет деньги-то».
Удостоверившись, что деньги действительно от Митяшки, мать вдруг зальется горькими и радостными слезами. Горькими оттого, что как он там, сердечный, куликует один свою долю на чужой стороне? И сладко станет матери оттого, что не кто-нибудь, а сын ее, Митяшка, прислал деньги. Помощник.
Отчетливо представляя себе эту картину, Димка лежал на печи с закрытыми глазами и глотал слезы. Теперь уже он прикидывал, сколько на первый случай пошлет матери денег. «Сто? Нет, это, пожалуй, многовато. В первый месяц всего-навсего заработаешь не больше ста пятидесяти… Пошлю пока семьдесят. Оставлю себе на рубашку, моя красная уже поползла у ворота, а серая мала. Пошлю пока семьдесят. Сто пошлю после Нового года, от другой получки…»
И так до тех пор, пока надтреснутый клекот сверчка не тонул в кислой духоте полатей и Митька не засыпал.
Мать поплакала, поплакала и согласилась. В ноябрьскую слякоть, когда непролазная грязь была наполовину перемешана со снегом, она проводила Димку на станцию. По пути зашли за Рыжим. Отца не было дома. Мать Семена, прощаясь с сыном, заревела в голос и кинулась на колени перед иконами.
– Хотя бы отца дождался…
Отец Рыжего две недели назад подрядился в «Заготскоте» и уехал на месяц во Владивосток. Зная крутой нрав отца, Рыжий воспользовался этим случаем и решил покинуть родительский дом.
Мать Семки была на последнем месяце беременности, а поэтому на вокзал ее не пустили.
Осенние дни в Сибири короткие. Не успеешь повернуться – глядишь, уже вечер обволакивает серой хмарью потонувшее в грязи село, где у каждой избы, под окнами, сиротливо оплакивают свою голытьбу босоногие посиневшие тополя.
На вокзал пришли к тому часу, когда должен проходить «Максимка». На него были самые дешевые билеты, да и стоял он на мелких станциях всех дольше. Если не достанешь билет, то есть надежда «договориться» с проводником. Все эти незатейливые хитрости захолустной станции знали и Димка и Рыжий. На всякий случай оба отделили от своих денег по двадцатке, чтобы «сунуть» проводнику. Они были готовы ехать и в тамбуре.
Томительное ожидание поезда. Через каждые десять минут Димка и Рыжий выбегали смотреть время. Единственные на всю станцию часы с причудливыми узорными стрелками висели в тесной комнатенке диспетчера, который преждевременно постарел и высох от бесконечных, опостылевших ему вопросов: «Сколько времени?», «Вышел ли с соседней станции поезд?» Эти два вопроса он слышит подряд много-много лет, с первого дня работы диспетчером. Вначале они его раздражали, он нервничал, ругался и гнал от окошечка нетерпеливых пассажиров, которые не могли сами понять по причудливым стрелкам – сколько времени. Потом, с годами, он смирился, сдал и даже в полусонном состоянии, не заставляя дрогнуть ни один нерв, покорно отвечал на два вечных вопроса: «Сколько времени?» и «Вышел ли поезд из соседней станции?»
Во всей станции не было ни одной лавки. Разморенные пассажиры сидели и лежали прямо на грязном полу, подложив под головы мешки, котомки, привалившись плечом к сундучкам или баулам. И каждый норовил усесться поближе к кассе: чтобы в случае чего быть первым у заветного окошечка, из которого должно показаться круглое лицо старика кассира Лесовика. А Лесовик для истомившегося пассажира был бог и царь.
Поезда проходили мимо и мимо. Билетов Лесовик не выдавал.
Редко кому удавалось «сунуть» проводникам. Это тоже нужно уметь. А потом смотря на кого нарвешься. Иному посулишь деньги, а он возьмет и вытолкнет тебя с мешком из тамбура да еще и по шее добавит. Всякие слухи ходили о проводниках.
Когда красный огонек хвостового вагона замирал в ночной мгле, полушубки, фуфайки и зипуны снова молча плыли к станции и снова опускались на пол, стараясь подгадать поближе к окошку Лесовика. Под ежеминутные взрыды разбитых дверей полушубки и фуфайки клонились все ниже и ниже к полу. По щеке здоровенного парня, который стремился в город на заработки, текла слюна. Так сладко спят только дети и утомленные люди. Не проходило и часа, как в разных углах станции звучал мощный, на разные голоса, храп. И так до тех пор, пока дежурный диспетчер не выходил из своей тесной каморки на улицу и не бил в станционный колокол.
Заслышав сквозь сон два удара в колокол (это означало, что поезд вышел из соседней станции), на грязном полу, как по команде «Встать!», фуфайки и полушубки шевелились снова. И все тянулись к закрытому окошечку кассы, давили друг друга. Пробиваясь поближе к квадратному вырезу в стене, люди тупо смотрели на обитое железными обручами окошко и чего-то ждали.
Окошко не открывалось. Те, что посмелее, пробовали робко стучать. За стеной словно умерли. Тогда стук повторялся громче и настойчивее. Окошечко открывалось, и все, затаив дыхание, ждали. Но дребезжащий, полусонный голос старичка кассира спокойно извещал: «Билетов на семьдесят второй нет». И захлопывал окно.
Тогда котомки, мешки и баулы плыли на темный перрон, который едва освещался двумя белесыми электрическими лампочками. А справа, со стороны Бухтарлинки, надвигались три огненных глаза. Один – вверх, два – у самой земли. Вот они все сильнее и сильнее разрастались, сливались в один сплошной огненный треугольник, было слышно, как надсадно и с визгом паровоз пускает пары. Наконец сутолока перрона тонула в чугунном грохоте и в пестром мелькании огней, падающих из плывущих вагонов.
Но и на этот раз Димке и Рыжему не удалось «сунуть» проводнику. Они обегали почти все вагоны, уверяли проводников, что поедут «не задаром», что заплатят неплохую цену, но равнодушные проводники с зябкими лицами или молчали, или грубо окрикивали: «Проваливай!»
Глотая обиду (как тут не возьмет досада, когда Димка своими глазами видел, как в седьмой вагон села Пестуниха, толстая баба, которая каждое воскресенье торгует на базаре леденцами, пряниками и иголками), Димка и Рыжий возвращались в прокуренную станцию. Следом за ними плелась и Захаровна.
Можно за военные доблести носить ордена, можно с боями освобождать родные города, можно разрывать колючую проволоку концлагеря и выпускать из фашистской неволи братьев своих и сестер… Можно плакать от счастья, когда живым и здоровым вернулся из плена сын или брат, на которого уже давно пришла похоронная… Мало ли бывает на свете радостей, от которых мы готовы и плакать и смеяться.
Но есть другая радость. Осатанелая, хмельная, безрадостная радость… При этой радости от счастья боятся улыбаться. При этой радости крепче прижимают к груди мешок, в руке билет (билет!!! Вы слышите – билет!!!) зажат намертво. Пот ест глаза, дырявый тулупишко путается в ногах, сваливается с плеч, а паровоз уже пускает свистящие пары… Вот уже и диспетчер три раза ударил в колокол. А общий, хвостовой, вагон еще далеко. Седьмой, восьмой, девятый… о боже!.. Вагонам нет конца и края! Где же он, родимый, тринадцатый? Вот уже лязгнули буфера вагонов, заскрипели колеса, зашатались вагоны… Но вот он… вот он, тринадцатый!.. Ты суешь кондуктору билет, задыхаясь, тычешь перед собой мешок, карабкаешься на высокие ступени…
А через пять минут, придя в себя, ты уже сидишь в парном купе. Сбросил с плеч тулуп, положил на колени папку и забыл, что трое суток валялся на грязном полу прокуренной станции. В вагоне душно и тесно. И клонится, клонится усталая голова на грудь. Потом все мешается с монотонным стуком колес. И ты, сидя, засыпаешь счастливым сном человека, на которого одновременно свалились все земные радости: и счастье за полученный орден, и восторг освободителя полоненного города, и радость от встречи с дорогим человеком, которого ты считал давно потерянным… Вот она какая бывает радость, замешанная на дрожжах томительного ожидания, втиснутая в плошку грязной захолустной станции и выпеченная на огне всепоглощающего, безумного желания уехать. А куда? Что там впереди? Это еще не видно сквозь сырую и темную хлябь ноябрьской ночи.
Три поезда пропустили Димка и Рыжий, и ни на один из них не давали билетов. Захаровна никак не могла поверить, что нет мест. Она считала, что все беды исходили от кассира Лесовика. Кутаясь в потертую клетчатую шаль, она вздыхала.
– Разве без подмазки билет достанешь? Вон Пестуниха, только что пришла и сразу села.
– Да она без билета, мама, – отмахивался от нее Димка и тщетно пытался доказать матери, что если с соседней станции не сообщат о свободных местах, то Лесовик не имеет права продать ни одного билета. Об этом он случайно узнал из разговора пассажира в очках, который сидел на чемодане и только он один во всей станции не бросался к заветному окну Лесовика.
– А как же она села?
– Сунула проводнику.
Разговор на этом затих. У самых дверей стоял большой оцинкованный жбан с водой. К жбану была цепью прикована жестяная кружка, сделанная из консервной банки. Кружка стояла на подоконнике. Никто не заметил, как к окну подошел двухлетний карапуз и, неуклюже протягивая ручонки, потянул на себя цепь. Кружка упала, из нее на грудь малыша полилась вода. Кто-то пил и оставил в ней воду. Мальчишка, которому холодная вода залилась за шиворот, вскрикнул пронзительным голосом. К нему подоспела женщина в фуфайке и, вместо того чтобы сменить на ребенке мокрую рубашку и пожалеть, принялась хлестать его ладонью. Мальчишка закричал сильней. Женщина пришла в еще большую ярость. Задрав на сыне шубенку, сшитую из суконных обносков, она теперь била с каким-то неистовством и приговаривала:
– Вот тебе! Вот тебе!
От крика ребенок вначале захлебнулся, потом неожиданно затих, И как-то сразу перестал плакать.
Последняя надежда – на владивостокский поезд. Говорят, что иногда на него дают сразу по четыре, по пять билетов.
И снова те же два удара в колокол, снова возня у кассы и бессмысленные взгляды, упершиеся в обитое железными обручами окошечко. Высокий мужчина с бородавкой на щеке, у которого на спине дубленого полушубка чернели два дегтярных пятна, постучал в окно прокуренным желтым пальцем. Разрубленный ноготь на пальце сросся ребром.
Наконец открылось заветное окошко, и в нем показалась все та же взъерошенная седая голова Лесовика. Моргая маленькими слезящимися глазками, он протяжно проговорил:
– Только мягкие.
Стоящие у кассы молча переглянулись. Слово «мягкие» прозвучало чем-то чужим, недосягаемым.
Лесовик уже хотел было закрывать окошко, но Димка придержал его рукой.
– Сколько стоит мягкий до Москвы?
Лесовик ответил:
– Триста семьдесят рублей восемьдесят копеек.
Эта цифра всех точно оглушила и отшатнула от окошка.
– А что, если в мягкий взять? – так, чтобы не слышала мать, спросил Димка у Рыжего.
– А не хватит денег, – буркнул Рыжий, продолжая обжигать пальцы окурком, который он только что вытащил откуда-то из фуражки.
– А мы пока не до Москвы, докуда денег хватит.
Захаровна сидела у дверей рядом с вещами и не слышала разговора Димки и Рыжего.
– А давай! Там заработаем денег и до Москвы доедем.
Димка постучал в окошечко. Лесник был сердит.
– Чего надо? Сказал же, что только мягкие места!
– А докуда за двести пятьдесят рублей можно доехать на мягком? – На всякий случай Димка решил по полсотни оставить на расходы, пока будут искать работу.
Оказалось, что на эти деньги можно доехать до Свердловска.
– Давай два!
И вот билеты в руках. Подходит поезд. Все бегут вдоль состава, клянчат, умоляют посадить «хучь в тамбур».
Проводник осветил фонарем лицо Димки и Рыжего. Недоверчиво осмотрел их и только потом взял билеты. Ничего не поделаешь – билет как билет, и хотя ты в рваном зипуне и с котомкой за плечами, а сажай в мягкий.
Димка простился с матерью и следом за Рыжим забрался в тамбур.
Поезд тронулся.
Что-то горячее подкатилось к горлу Димки. Он видел, как проплывала за окном родная, тускло освещенная станция, видел флегматичного диспетчера, который стоял у колокола и взглядом провожал уходящий скорый поезд. На душе стало пустынно.
Что делать дальше, куда идти – Димка и Рыжий не знали. Загородив проход в устланном ковровой дорожкой коридоре, они растерянно озирались и переминались с ноги на ногу. Не ездили они в мягких вагонах. Вот если бы в общем – там проще, там все понятно. Всяко приходилось: и на крышах, и на подножке, и в тамбуре, и даже лежа на полу между нижними полками. А вот в мягком сроду не приходилось.
Нигде не видно ни скамеек, ни полок, которые в представлении Рыжего должны быть очень мягкими.
Так прошло минут пять, пока какой-то подвыпивший толстяк в шелковой пижаме, которому два парня с мешками показались подозрительными, не позвал проводника и не отругал его за то, что он напустил целый вагон «безбилетной шантрапы».
При этих словах Димка оробел: оба билета остались у проводника. «А что, если скажет, что мы без билета влезли? Возьмет и откажется, что забрал у нас билеты…»
Но проводник оказался душевным человеком и даже шутником. Он подмигнул Димке и поманил пальцем Рыжего.
– Пойдемте. Вот ваше купе. Чего в коридоре раскрылились?
Подхватив вещи, Димка и Рыжий вошли в купе.
Димка оробел еще больше. Полная дама в пестром шелковом халате, прижавшись жирной спиной к стенке, уставилась на них такими глазами, словно ей только что сказали: «Тетка, кошелек на стол!»
Заикаясь, она проговорила что-то невразумительное, но смысл ее слов заключался в том, что Димка и Рыжий, по всей вероятности, не сюда попали.
– Размещайтесь вот здесь, на верхних! – Проводник взглядом показал на полки, обтянутые зеленым бархатом. Сказал и захлопнул за собой дверь. В зеркале Димка и Рыжий увидели свои озабоченные физиономии.
Легко сказать «Размещайтесь!». А как размещаться – даже не намекнул. Но Рыжий сообразил: раз верхние полки принадлежат им, значит, на этих полках можно хоть сколько лежать, сидеть и класть свои вещи. С этой успокоительной мыслью он поднял на руках свой округлый, сбитый из фанеры баульчик, поставил его на мягкий матрац к изголовью, а рядом с ним кинул мешок с хлебом и салом. То же самое сделал и Димка. Видя, что никаких возражений с нижних полок не поступило, Димка осмелел и шепнул Рыжему:
– Лезем?
– Лезем.
– А сапоги куда? – все тем же шепотом спросил Димка, но Рыжий в ответ пожал плечами и кивнул головой наверх.
Тут Димка увидел на полу лакированные ботинки спящего на нижней полке пассажира с усиками, который лежал на спине, вытянув вдоль тела руки. Димка догадался, что сапогам наверху не место, тем более таким грязным. И он принялся разуваться. Разуваться начал и Рыжий. Боясь присесть на койки своих соседей, они неуклюже толкали друг друга и прыгали на одной ноге. Чуть не свалившись на даму, которая еще не успела оправиться от пережитого страха, Рыжий, наконец, сел на пол и стал снимать с ноги тесный сапог.
Удушливый запах потных портянок волнами поплыл по купе. Даже Димка, у которого третий день был насморк, и тот покосился на Рыжего: уж больно ядовито несло от его портянок.
– Ну и ну!.. – укоризненным шепотком упрекнул его Димка.
– А от самого-то еще почище… – огрызнулся Рыжий и старался побыстрее засунуть влажные портянки в голенище сапог.
Потом они, как по команде, ласточками взвились на свои полки.
Димка заметил, как пассажир с черными усиками на секунду открыл глаза и, наткнувшись на взгляд Димки, тут же закрыл их. Вначале Димка не придал этому никакого значения. Поудобнее примостив в изголовье мешок с продуктами, он накрылся полушубком и жестом дал понять Рыжему: как всем порядочным пассажирам в мягких вагонах, им полагается спать. Но у Рыжего получилась оплошность. Пока он возился с мешком, никак не укладывающимся так, чтоб на него можно было удобно положить голову, из кармана его брюк посыпалась вниз махорка. Попал или не попал табак в глаза или в рот даме в цветастом халате, но она так исступленно принялась плеваться и махать руками, что Рыжий в испуге прижался к стенке и натянул на голову длинное пальто, перешитое из отцовской шинели.
– Что вы делаете?! Вы же сыплете на меня табак!
– Извините, тетенька, это я нечаянно, карман худой, – виновато пробурчал Рыжий и еще плотней прижался к стене. В голове его мелькнуло опасение – чего доброго возьмут да и ссадят на следующей станции за такие штуки, даже билета не отдадут.
Наконец дама успокоилась. Укладываясь в постель, она достала из сумочки флакон духов и принялась разбрызгивать их на подушку, на пол, на постель… В ноздри Димке ударило ароматом. Так хорошо пахнет только в парикмахерской, в центре села, куда он ходил в два месяца раз стричься. Правда, на одеколон не было денег, но он видел, как другие одеколонятся.
Дама в халате выключила большой свет и оставила слабо мерцающий софитный ночничок.
Димке не спалось. Личность пассажира с усиками ему показалась подозрительной. А потом – зачем он сквозь прищур смотрел на них, когда они раздевались? Почему он сразу закрыл глаза и притворился спящим, когда встретился взглядом с ним?
Тревожные мысли одна за другой поползли нелепой чередой в усталой Димкиной голове. Откуда ни возьмись, на ум пришел рассказ соседа, который недавно приехал из Новосибирска и насмотрелся там таких ужасов, что зарекся совсем ездить в город. Евлампий, так звали соседа, говорил, что настоящие крупные воры ходят в лакированных штиблетах, при часах, носят шляпы и ставят на зуб золотую коронку. О нем никогда не подумаешь, что он вор. А обделает так, что и глазом не моргнешь, как останешься без денег и без документов.
Димка вытянул голову и пристально посмотрел на спящего внизу соседа. И на этот раз ему показалось, что гражданин с усиками сквозь узкий прищур из-под опущенных длинных ресниц смотрит на него и улыбается краешками губ. У этого тоже золотые зубы и модные лакированные штиблеты. Димка начал искать взглядом шляпу. Шляпы не было видно. Закрыв глаза, он целиком превратился в слух. Решил не спать до утра. Днем будут спать с Рыжим поочередно, как наказывала мать.
За какой-то час он несколько раз вытягивал голову и посматривал за своими сапогами. Димка не раз слыхал, что вор не гнушается ничем. Остаться без сапог в чужих краях, да еще зимой – невеселое дело.
Не знал и не подозревал Димка, что дама в пестром халате ни на секунду не сомкнула глаз: каждое высовывание головы Димки ей казалось разведкой. «Ждут, когда усну…» – думала она и громко кашляла, давая знать, что она не спит, что она не из тех, кого легко обчистить.
Рыжий тем временем переживал другие муки. Он прибросил бы еще двадцатку к тому, что заплатил за мягкий билет, лишь бы ехать сейчас в простом, жестком вагоне с нормальными людьми, в порядочной обстановке. Он вскоре захрапел заливистым тоненьким свистом.
Тут же уснул и Димка.
Проснулись они в десятом часу утра. Проснулись почти одновременно, почувствовав, что ноги и руки коченеют от холода. Когда Димка открыл глаза, то увидел: купе было пусто. Окно и дверь настежь открыты. Между полками тянуло пронизывающим сквозняком. Первым делом кинулся посмотреть, целы ли сапоги, потом ощупал документы, пришитые под мышкой на нижней рубахе, ощупал мешок с продуктами, потрогал висячий замок на бауле. Все было цело.
Рыжий тоже проснулся. Кутаясь от холода в пальто, он не попадал зуб на зуб.
В купе вошел проводник. Переводя взгляд с одного на другого, он строго проговорил:
– А ну, марш в коридор проветриваться!
Пока не было никого в купе, оба поспешно кинулись обуваться. От еще не просохших портянок потянуло потом.
Подозрительный брюнет с усиками, ни с кем не простившись и не обменявшись за всю дорогу словом, сошел в Омске.
Дама в пестром халате ехала до Москвы.








