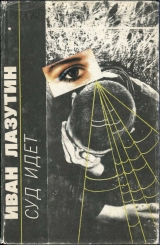
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 35 страниц)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
Предписанием прокурора города Дмитрий Шадрин был назначен следователем в одну из районных прокуратур Москвы. Как и всякому новичку, ему предстояло пройти испытательный срок.
Еще в поезде, по дороге из дома, Дмитрий бессонными ночами под стук колес мечтал о том, что ему поручат интересные, сложные дела, где он сможет во всю ширь развернуться и испробовать свои силы. Он даже предполагал, что «испытывать» его будут непременно на запутанных уголовных делах, которые потребуют больших сил, таланта и смекалки.
Но ожидания его не оправдались. Вместо сложных и интересных уголовных дел о бандитизме и крупных кражах, старший следователь Бардюков положил перед ним пять тоненьких папок – дела по абортам.
– Милиции сейчас некогда возиться с ними. Распоряжением прокурора все дела по сто сороковой статье переданы нам.
Шадрин поднял на Бардюкова удивленные глаза. Все, что угодно, но этих дел он не ожидал. Не о них он думал по дороге в Москву.
– Разве эти дела нельзя поручить женщине?
– С сегодняшнего дня Королькова в отпуске – это во-первых. А во-вторых, запомните, голубчик, следователь – это существо бесполое. На все, с чем он сталкивается в своей работе, он смотрит глазами закона.
Бардюков быстро пролистал заключения медицинских экспертов, которые были в каждой папке, окинул взглядом протоколы, написанные в милиции, и напутствовал молодого следователя:
– Особенно с ними не церемонься. Эти дела следователь должен щелкать, как семечки. Начинай с гуманного: «Расскажите, пожалуйста», – и кончай строгим: «Если не скажете правду, будем судить со всей строгостью закона!» Тут дело не в самих абортированных, а в тех гражданочках, которые отправляют на тот свет не одну несчастную. Ясно, кого вам нужно искать?
– Ясно, – нерешительно ответил Шадрин, который до сих пор никак не мог смириться с мыслью, что ему придется возиться с такой грязной «материей».
– Вот вам пять дел. В принципе все они одинаковые. Заключения судебно-медицинских экспертов есть на всех. Приступайте. Я поеду в Таганскую тюрьму, вернусь часа через три-четыре. Думаю, за это время вы войдете во вкус.
«Циник», – подумал Шадрин. – Ему хотелось, чтобы Бардюков скорее ушел. Но Бардюков, разминая папиросу и постукивая мундштуком по краю пепельницы, не уходил.
– Главное, продуманно ведите протокол допроса и не забудьте, чтобы росписи допрашиваемых стояли на каждой странице протокола. Привыкайте к этому с первых шагов. Это должно стать рефлексом.
Старший следователь был энергичный мужчина лет тридцати. На его широкоскулом монгольском лице не было ни одной морщинки, хотя в живых черных глазах уже затаилась печать жизненной умудренности. Если б Бардюков отпустил бороду и усы, он походил бы на татарина. Очевидно, где-то в далеко восходящем колене в славянскую кровь подмешалась струйка татаро-монгольской крови.
Оставшись один в маленьком прокуренном кабинете, Шадрин еще раз от начала и до конца прочитал показания гражданки Филипповой на дознании в отделении милиции. В графе «Год рождения» стоял 1930 год. «Всего двадцать лет», – подумал Шадрин. Пробежав глазами заключение судебно-медицинского эксперта, Дмитрий посмотрел на часы. Времени было десять. На этот час была вызвана гражданка Филиппова.
Это был первый самостоятельный допрос первого дня работы Шадрина. Он волновался.
Дмитрий поправил галстук и вышел из кабинета. В длинном полутемном коридоре, в который выходило несколько низеньких дверей нумерованных следовательских кабинетов, на скамейках сидели вызванные на допрос.
Окинув взглядом сидевших, Шадрин попытался угадать среди них Филиппову. Но молодых в коридоре было много.
– Гражданка Филиппова!
Со скамейки поспешно поднялась белокурая девушка с ярко накрашенными губами.
– Я Филиппова.
– Прошу вас.
Чувство смущения перед молодым следователем и обида за то, что ее уже вторично вызывают на допрос (а теперь даже не в милицию, а в прокуратуру), выразились на лице вошедшей так отчетливо, что Шадрин подумал: «Тебе неудобно, красавица, я это вижу. И главное, рассказывать обо всем ты сейчас будешь мужчине…»
– Ваш паспорт.
Филиппова подала паспорт и повестку.
Шадрин неторопливо выписал в протокол сведения из паспорта, откашлялся и, контролируя каждый свой жест, спросил:
– Ваша специальность?
– Официантка в кафе-мороженом.
– Замужем?
Блондинка смутилась.
– Официально нет.
– А фактически?
Девушка снова замялась, поправляя выкрашенные хной волосы.
Шадрин повторил вопрос.
– Я думаю, что это для вас… не так уж важно. Зачем вам моя личная жизнь? Если это нужно для дела, то могу сказать: мой жених сейчас уехал в длительную командировку на Дальний Восток. Как только приедет – мы сразу же распишемся, это уже решено.
– Тогда скажите, кто вас врачевал? – спросил Шадрин, пристально вглядываясь в лицо Филипповой, которая теперь заметно осмелела.
Накрашенные длинные ресницы девушки взметнулись вверх. Голубые глаза остановились на Шадрине.
– Вы о каком врачевании говорите?
– Я спрашиваю, кто делал аборт?
– Какой аборт?
– Тот самый, который вам сделали двадцать седьмого августа, когда вас без сознания, истекающую кровью доставили в институт имени Склифосовского!
Филиппова наивно и безмятежно улыбалась.
– Товарищ следователь, я уже второй раз отвечаю на этот вопрос: ничего подобного со мной не было.
– Что же это, по-вашему? Самопроизвольный выкидыш?
– Да! – тоном самой искренней чистосердечности ответила девушка, невинно глядя своими голубыми глазами в глаза следователю.
«Какая наглость!» – раздраженно подумал Дмитрий, дожидаясь, заговорит ли, наконец, в допрашиваемой совесть и отведет ли она от него свой кокетливый взгляд.
– При каких обстоятельствах?
Словно давно заученную роль, Филиппова принялась рассказывать, как две недели назад, вешая на карниз шторы, она случайно оступилась и упала со стола прямо на пол. Сразу же после падения с ней случились схватки, и она, с трудом дойдя до кровати, потеряла сознание. Очнулась в больнице.
– Кто в это время был из родных или знакомых дома?
– Никого.
– Где были родные?
– Неделю назад уехали на курорт, и я осталась одна.
– А зачем вы накануне этого дня брали отгул на работе? И причем – за свой счет?
Этот вопрос для допрашиваемой был неожиданным.
– А так просто… Устала очень… А потом хотела съездить к бабушке в деревню. Мама перед отъездом велела ее навестить.
Шадрин помолчал, потом, понимая, что одними уговорами отвечать на вопросы правдиво и искренне ничего не добьешься, суховатым и резким тоном обратился к Филипповой:
– Сказки, гражданочка, рассказывать хватит. Здесь не детский сад, а прокуратура. Отвечайте честно: кто вам делал аборт?
– Я вам уже сказала, что никто не делал, и вообще… вы меня не заставляйте признаваться в том, чего никогда не было.
– А это что? – Шадрин протянул Филипповой заключение медицинской экспертизы, заверенное печатью и скрепленное подписью специалиста. – Послушайте, что пишет ученый эксперт. «В ночь на двадцать восьмое августа гражданка Филиппова Раиса Алексеевна была доставлена в институт имени Склифосовского в бессознательном состоянии при большой потере крови, которая была вызвана тем, что… – И Шадрин до конца прочитал заключение медицинского эксперта.
Закончив, он сделал паузу.
– Что вы скажете на это?
Филиппова шмыгнула носом.
– Подумаешь – врачи!.. Что, вы думаете, врачи не ошибаются? Мою соседку лечили от гриппа, а она чуть не умерла от крупозного воспаления легких. Вот вам и врачи.
Шадрин встал. Весь запас материальных улик он исчерпал. Остались в распоряжении следователя только логика и то, что в учебниках по процессуальному праву и в наставлениях для молодых следователей называется «разъяснительной работой».
И он говорил… Говорил об опасности совершенного преступления, о гражданском долге, о чести женщины, о совести… Незаметно для себя он так увлекся, что даже встал из-за стола. И вдруг… Считая, что Филиппова уже давно повергнута его необоримой логикой, он с ужасом заметил, что допрашиваемая равнодушно, не слушая его, смотрит в окно и о чем-то думает. В эту минуту Шадрин был уверен – он это прочитал в ее рассеянном взгляде, – что она привыкла к его голосу, как люди привыкают к тиканью стенных ходиков.
– Вы меня слушаете? – почти шепотом спросил Шадрин.
– Да, да… – спохватившись, ответила девушка и принялась оправлять плиссированную юбку.
Шадрин пришел в замешательство. Не выяснив, кто врачевал эту недалекую, пустую и наивно-незлобивую женщину, дело заканчивать нельзя. Он не хотел, чтоб первый блин у него получился комом. Но как заставить ее говорить правду, пока не знал. Документ, который перед допросом был в его руках неопровержимым доказательством (заключение экспертизы) и, пожалуй, самым сильным мотивом для того, чтобы допрашиваемая говорила только правду, теперь начинал терять свою силу и остроту. Документу этому Филиппова не придала никакого значения.
Прошло еще минут пятнадцать, в течение которых следователь уже повторялся, а Филиппова даже несколько раз зевнула.
Шадриным постепенно начинало овладевать раздражение. Тупых и лживых людей он ненавидел вообще, а здесь, когда им сделан первый шаг в работе, когда, может быть, от этого начала будет зависеть все его будущее (нет, не карьера! Шадрин никогда не был карьеристом. Долг! Солдат… Атакующий солдат – вот что жило в нем в эти минуты и что двигало его волей, сердцем и разумом), – ложь этой маленькой и лукавой женщины поднимала в нем волну щемящего озлобления. И он подумал: «Эх ты, накрашенная тля! Пропустил бы я тебя через мясорубку такого допроса, за который ратовал когда-то Достоевский. Да нельзя. Не могу. Не имею права. Психологический нажим при расследовании в нашем уголовном процессе запрещен. А вся «разъяснительная работа», которую я вел с тобой битых полчаса, – для тебя, как мертвому припарки. Против этих «разъяснений» у тебя выработался иммунитет».
– Ну так что ж, будем говорить правду?
– Я уже все сказала, гражданин следователь. Хотите верьте, хотите не верьте…
– Хватит! – оборвал ее Шадрин и долго молча смотрел в окно.
Решив, что упрямая и не очень умная девушка больше ничего не скажет, Шадрин сухо проговорил:
– Даю вам время на размышление. Через два часа снова придете в этот кабинет и скажете, кто вас врачевал.
– Как? Опять допрос?
– Да. Опять допрос. И снова допрос, допрос, допрос… И так до тех пор, пока вы не скажете правды.
– Какую вы хотите слышать от меня правду?
– Ту, которую вы позорно скрываете. Итак, вы пока свободны. Подумайте обо всем хорошенько и ответьте, кто вам делал аборт.
– Товарищ следователь, я еще раз категорически заявляю, что этого ничего не было… – Филиппова выпустила пулеметную очередь фраз, рассказывая, как она вешала шторы, как упала со стола, и как ее доставили в больницу. Не забыла при этом упомянуть и свою соседку, которую лечили от гриппа, а она чуть не умерла от крупозного воспаления легких.
Шадрин жестом остановил ее.
– Обо всем этом я уже слышал. Приходите через два часа. Ровно в тринадцать тридцать продолжим допрос. И знайте, гражданка, если вы снова будете вводить в заблуждение следствие, это отрицательно скажется на вашей судьбе. В данном случае вы поступаете уже не как жертва, а как сообщница запрещенных законом деяний.
– Вы не имеете права…
– Достаточно! – Шадрин решительным жестом оборвал Филиппову и кивком головы показал на дверь. – Итак, через два часа снова допрос.
Кокетливо и жеманно переваливаясь с ноги на ногу, повиливая бедрами, блондинка вышла из кабинета.
Второе дело было возбуждено по поводу аборта, сделанного двадцативосьмилетней женщине по фамилии Ведерникова. Шадрин бегло ознакомился с документами, вышел в коридор и окликнул Ведерникову. Со скамейки тяжело поднялась худая женщина и неуверенно двинулась навстречу следователю.
– Вы Ведерникова?
– Да, – еле слышно ответила женщина и нерешительно вошла вслед за Шадриным в кабинет.
«Что это – ошибка работника милиции или…» Шадрин сличил год рождения в протоколе и в паспорте. Расхождений не было.
– Сколько вам лет, гражданка Ведерникова?
– Двадцать восемь.
Не раз валялся Дмитрий в военных госпиталях и в больницах, видел раненых, контуженных, обожженных… Приходилось быть свидетелем, как на его глазах догорали остатки жизни у вывезенных из ленинградской блокады истощенных людей. Наконец, сам был ранен, сам побывал несколько раз под ножом хирурга. Но такого бескровного, как пергамент, и постаревшего лица он не видел. Если б Дмитрий не знал, что перед ним сидит двадцативосьмилетняя женщина, он наверняка бы дал ей все пятьдесят. Даже морщины у глаз и рта и те залегли так глубоко, что не могло быть никаких сомнений в ее возрасте. Вылезающие из-под застиранной косынки бесцветные, как пакля, волосы напоминали затасканный дешевый парик из кружка художественной самодеятельности. В больших глазах, безмятежно и покорно остановившихся на желтой папке, лежавшей перед следователем, застыло холодное безразличие, сквозь которое проступала просьба: «Оставьте меня, пожалуйста, в покое. Я так от всего этого устала…»
«Где, где же я читал о таких глазах? – силился вспомнить Шадрин, листая папку. – Ах, да, Шолохов. «Глаза, припорошенные пеплом…» Вот именно – серым пеплом. Лучше не скажешь».
– Вы замужем?
– Да, – кротко ответила Ведерникова.
– Кем вы работаете?
– Дворником.
– А муж ваш?
– Слесарем в домоуправлении.
– У вас есть дети?
– Трое.
– Трудно?
Ведерникова ничего не ответила и только стерла грубой ладонью навернувшиеся на глаза слезы. Молчанием этим было сказано все.
– Так что же вы, гражданка Ведерникова, не могли обратиться в больницу? Ведь в больнице это сделали бы настоящие врачи, законно, как полагается.
– Я обращалась. Да не разрешили… Говорят, строго с этим сейчас.
– Ну и что же вы решили? – Шадрин старался спрашивать мягко, боясь тоном обидеть и без того ослабевшую женщину.
– Что решила, вам все известно, взяла и сделала. С троими кружусь с утра до вечера, муж пьет, да и жить-то, по совести сказать, негде.
– Какая у вас комната?
– В полуподвале. Девять метров.
Шадрин мысленно представил в девятиметровой полуподвальной комнатенке рабочую семью в пять человек. Одно низенькое оконце, в которое неизвестно чего больше сочится – света или серой грязи, заплесневелый от сырости потолок, расхлестанная дверь, обитая тряпьем, и холодный, вечно холодный пол. «Пять человек… А мог бы родиться шестой… На человека меньше полутора метров. Теснее, чем на кладбище», – думал Шадрин, а сам все смотрел и смотрел в усталые, тихие глаза Ведерниковой. На какие-то мгновения Дмитрий забыл, что он следователь, что ему нужно допрашивать, добиваться признания, а если нужно – даже принуждать… «И ведь странно! Удивительно странно, какая силища живет в человеке!.. Вот она мыкается с такой оравой в сыром полуподвале, перебивается с хлеба на воду, день и ночь метет грязную мостовую. А скажи ей завтра: «Война! Родина в опасности!» – и она санитаркой умрет за родную землю, за власть. Из маленького оконца полуподвала она уже сейчас видит сказочные дворцы для своих маленьких сыновей. Она и сама еще надеется пожить в светлой и теплой комнате со всеми удобствами, и не на первом, а непременно где-нибудь на четвертом или седьмом этаже, где больше солнца, откуда дальше видно, где легче дышится. И этот муж ее, слесарь-водопроводчик… Он пьет… Ему тяжело. Может быть, я когда-то ходил с ним в атаку. А случись пойти еще раз – он не дрогнет, он пойдет безропотно на смерть. Он не будет помнить житейских обид и низенького оконца, выходящего в сумрачный московский дворик, куда не заглядывает солнце. Да, да, да! Верные и честные в беде в радостях не подведут…»
Шадрину хотелось думать дальше и дальше. Он уже отчетливо видел лицо мужа Ведерниковой, видел его замасленную фуфайку и сбитые, в шрамах, руки… Но… Нужно было допрашивать.
С трудом отогнав назойливые мысли, он спросил:
– Сколько вы заплатили абортистке?
Потупившись, Ведерникова молчала.
– Бесплатно?
– Почему бесплатно…
– Так сколько же вы заплатили?
– Двести рублей.
– Вы знаете о том, что вам чудом спасли жизнь? Что вас чуть не отправили на тот свет?
– Говорили в больнице.
– Вы потеряли больше половины крови. Еще несколько минут, и ваши дети остались бы сиротами.
Выцветшие глаза Ведерниковой снова омылись слезой.
– Кто вам делал аборт?
Ведерникова молчала.
– Скрываете? Скрываете людей, которые за ваши трудовые деньги делают вас на всю жизнь калеками и отправляют на тот свет? Вы знаете о том, что если теперь вы даже и захотите иметь ребенка, то уже не сможете?
– Знаю, – подавленно ответила Ведерникова.
– Тогда скажите, не скрывайте, Лидия Петровна, кто сделал вас на всю жизнь инвалидом?
– Просила не говорить…
– Если вы не скажете, то эта мерзавка отправит на тот свет или искалечит еще не одну такую же, как вы. Неужели вы этого хотите? Ведь вы же мать! – Шадрин встал. – Вы только подумайте, Лидия Петровна. Поймите, ведь она не специалист, она просто авантюристка, нечестный человек!.. Это ясно видно из медицинской экспертизы.
– А что мне за это будет, если я скажу? Судить?
– Наоборот. Вы поможете нам пресечь преступление. А те деньги, которые она с вас взяла, с нее обязательно взыщут. Ведь она на ваших грошах наживает себе богатство.
– Деньги-то уж не нужно… Сама давала. А вот калечить-то нашего брата – негоже. Если б я знала, что она не акушерка, разве я согласилась бы…
Шадрин нервничал. Он чувствовал, что психологически Ведерникова уже подготовлена назвать имя своей абортистки, но все как-то не решалась. А настаивать грубо, прямолинейно, чтоб она быстрее признавалась и называла виновную, было нельзя.
– А что ей за это будет? – нерешительно спросила Ведерникова.
Шадрин решил смягчить вину. Так было нужно.
– Посмотрим. Во всяком случае, нагоняй получит хороший. Ну, разумеется, не обойдется без штрафа. Это как наименьшая мера.
– А в тюрьму ее не посадят за это? Ведь сама я согласилась.
– Думаю, что нет. – И после некоторой паузы: – Она что, живет с вами в одном доме?
– Нет, рядом.
– В тринадцатом или в девятом? – спокойно, как само собой разумеющееся, спросил Шадрин.
– В девятом.
– У себя дома делала или у вас?
– У себя.
– Номер ее квартиры?
– Я у них в коридоре убираю.
– Так какой же номер квартиры? – Шадрин осторожно подбирался к цели.
– Пятнадцатая.
– Она одна живет или с семьей?
С каждым вопросом Шадрин все ближе и ближе подходил к главному – к фамилии абортистки.
– Как ее имя и отчество?
– Агриппина Павловна.
– Фамилия?
Спохватившись, Ведерникова смолкла и снова полезла в карман пиджака за платком.
– Гражданин следователь, сама я виновата… Сами мы, бабы, виноваты во всем! Вперед в ноги кланяемся, а потом жалуемся. Не могу я сказать ее фамилии, совесть моя не позволяет.
Фамилия Агриппины Павловны Шадрину была уже не нужна. Было все ясно: девятый дом, пятнадцатая квартира, Агриппина Павловна…
Голова Ведерниковой низко опустилась. Сквозь пепельно-сероватую кожу щек проступал еле заметный нездоровый румянец.
Теперь уже не ради выяснения истины (она уже была ему ясна), а просто из какого-то чисто следовательского самолюбия Шадрин хотел, чтобы допрашиваемая назвала фамилию абортистки.
– Что ж, тогда мы вместе с вами пройдем в дом девять в пятнадцатую квартиру. Фамилию Агриппины Павловны мы можем выяснить и в домоуправлении и от жильцов.
– Уж не ходите… Я сама скажу. Пишите… Староверова… – Плечи Ведерниковой задрожали. Она заплакала, уткнувшись в носовой платок.
– Что с вами, Лидия Петровна?
– Да как же так… Сама упросила, а тут выдала. Грех-то какой на душу приняла!
Шадрин успокоил Ведерникову, прочитал ей протокол допроса и дал подписать.
– Вот и все. Можете быть свободной.
Шадрин строго-настрого предупредил Ведерникову, чтобы она не смела ни в коем случае заходить к Староверовой, и что вести себя она должна так, как будто ничего не случилось. В противном случае за огласку она будет нести ответственность.
Допрашиваемая несколько раз робко кивнула головой и вышла из комнаты. Как только захлопнулась за ней дверь, Шадрин доложил о результатах допроса прокурору. Тут же было вынесено постановление об обыске гражданки Староверовой, к которой незамедлительно отправился оперативный работник из отделения милиции.
С двумя другими женщинами Шадрин бился больше часа. Несмотря ни на какие ухищрения и увертки следователя, обе они твердили одно и то же: никакого аборта они не делали, а всего-навсего тяжело подняли. Одна подняла кадушку с капустой, другая – двигала гардероб и вдруг почувствовала боль в пояснице. Напрасно читал им Шадрин заключения медицинских экспертиз, они отмахивались от документа, как от пугала, и твердили одно и то же.
Главным образом Шадрина смущало то, что вот уже несколько часов ему приходится говорить о вещах, которые претили всему его существу, которые казались ему омерзительно грязными и в его сознании лежали где-то там – за чертой приличного, нравственного. Но тут же он внутренне стыдил себя: «Подумаешь, кисейная барышня!.. Не то еще предстоит узнать впереди. Вот Бардюков обещал «подбросить» какое-то дело «с клубничкой»: «Там вообще, говорят, произошла такая варфоломеевская ночь, что ты, Шадрин, будешь краснеть, как помидор на горячей железной крыше».
Видя, что толку от женщин не добиться, Дмитрий сделал в допросе перерыв и отпустил их на час. Сам тем временем зашел к старшему следователю.
Бардюкова у себя не было. Недопрошенной осталась одна гражданка. Но так как вызвана она была на два часа, Шадрин решил сделать обеденный перерыв.








