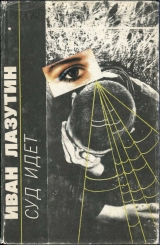
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 35 страниц)
– Кто еще хочет выступить? – обратился к собранию Наседкин, настороженно посматривая в сторону Варламова.
Все молчали. Через полуоткрытую дверь было отчетливо слышно, как уборщица тетя Фрося с кем-то разговаривала по телефону. По лицам всех пробежала легкая улыбка. Тетя Фрося разговаривала с кем-то из своих знакомых, которых, судя по ее ответам, притесняет и оскорбляет соседка по квартире.
– А вы что сидите?! Напишите прокурору заявление, пусть подпишутся свидетели, и ему вляпают семьдесят четвертую наверняка. Да, да, как пить дать семьдесят четвертая по нем, пьянчуге, плачет. Только чтоб свидетели были обязательно хорошие люди.
Все знали, что тетя Фрося совершенно неграмотная. Крест против ее фамилии в ведомости у кассира всегда смешил всех в день получки. А тут смотрите-ка… Сама квалифицирует по Уголовному кодексу нарушение общественного порядка.
Прокурор жестом попросил Артюхина закрыть дверь.
Тот как по команде вскочил и, скрипя протезом, кинулся к дверям.
– У меня есть несколько слов по докладу, – не вставая, с расстановкой сказал Богданов. – Я внимательно слушал товарища Наседкина и считаю, что он объективно и с партийной справедливостью рассказал о работе молодых специалистов. Хотя и ершились вы сейчас, товарищ Кобзев, защищая Шадрина… Я понимаю, это, конечно, похвально, когда товарищ вступается за товарища по работе. Однако, как прокурор, я заявляю, что работой Шадрина я недоволен. И скорее всего не столько работой, сколько тем взаимоотношением, какое у него сложилось со старшими товарищами. И правильно здесь отмечал Наседкин, что многому ему следует учиться у Артюхина. Учиться скромности, учиться строгой исполнительности и тому такту, который необходим, когда разговор идет о рабочей, трудовой дисциплине. Да, Шадрин с отличием закончил университет, у него где-то, когда-то были даже напечатаны научные статейки, у него в дипломе в графе «Специальность» стоит – «Научный работник в области юридических наук». Все это похвально, отлично. – Богданов притушил в пепельнице папиросу и, словно что-то обдумывая, тихо продолжал: – Но, честно признаться, встречали мы иногда ученых мудрецов с университетскими дипломами. Все мы помним Сысоева, который тоже окончил университет и был направлен работать в нашу прокуратуру. Я никогда не забуду, как в личной беседе со мной он заявил, что работа следователя – это не его удел, что он научный работник в области юридических наук, а не белый негр. Быть следователем с его высшей квалификацией юриста – это, как он выразился, бить из пушек по воробьям. А что получилось на деле? – Богданов развел руками. – Шарлатан, хвастунишка и бездельник! Он в подметки не годился тем ребятам, которые пришли из двухгодичной юридической школы. А недавно до меня докатился слух, что из нотариата Сысоева тоже прогнали. А все с чего началось? С самомнения! С яканья, с неуважения к старшим, которые, слава богу, на практической работе зубы съели.
Прокурор отпил глоток воды, вытер платком со лба пот и продолжал уже более спокойно:
– Вот этой-то болезнью, как вижу я, и болен Шадрин. Он тоже с отличием закончил Московский университет, тоже квалифицирован Государственной комиссией как научный работник в области юридических наук. А вот солдатом, рядовым солдатом советской прокуратуры быть не желает. Сегодня ему сразу же подай генеральскую звезду, а завтра он потянется к маршальскому жезлу. Я уважаю людей, которые в решающих случаях имеют собственное мнение и не боятся твердо высказать его своему руководству, если даже оно, это мнение, идет в разрез с мнением начальника. Но тот модный нигилизм и какое-то болезненное, недружелюбное и скептическое отношение к распоряжениям старших, которое бросается в глаза всем, кто сталкивается с Шадриным, заставляют меня полностью согласиться с той характеристикой, которую дал сегодня Шадрину помощник прокурора. Я неоднократно, даже сегодня, по-дружески, почти по-отцовски, предупреждал, советовал Шадрину, что нужно быть скромнее, уважительнее, старательнее относиться к своим обязанностям. Но, как видно, его гонор с ним родился. Вот обо всем этом-то мне и хотелось сегодня сказать на собрании и обратиться к вам, Ксенофонт Петрович. – Тут прокурор посмотрел в сторону Варламова. – Уж, пожалуйста, не присылайте нам шибко ученых следователей. Мы как-нибудь сами подыщем себе товарищей из юридической школы и справимся без университетских дипломантов. Пусть они из своих пушек осаждают бастилии большой науки, а нам нужны следователи с винтовками, рядовые бойцы по борьбе с нарушителями общественного порядка.
Богданов откашлялся в кулак и закончил:
– А Шадрину над всем этим советую хорошенько подумать и в корне изменить свое отношение к работе. Иначе ничего не получится. Я не желаю, чтобы он повторил карьеру Сысоева. Это мое последнее слово.
Прокурор умолк. Собрание подходило к концу. По неписаному правилу ведения собраний, стало традицией: уж если с итоговой речью выступил старший начальник, то выступать после него подчиненному считалось вроде бы неэтичным. Так решил и Наседкин. Обращаясь к собранию, он спросил:
– Еще никто не желает выступать? – Последние слова он произнес скороговоркой и поспешил «закругляться». – Я думаю, что по второму вопросу мы примем соответствующее решение, в котором отметим…
Наседкина перебил Кобзев:
– Нужно дать слово Шадрину. Пусть выскажется.
– Пожалуйста! А кто его лишает слова? Не за язык же его тащить! Товарищ Шадрин, у вас есть что сказать собранию? Как вы думаете реагировать на критику по вашему адресу?
Шадрин неторопливо встал и тихо ответил:
– Критику приму к сведению.
Такое равнодушие Шадрина к собственной судьбе озадачило Кобзева. Он смотрел на него широко открытыми глазами, словно собираясь выругаться: «Какой же ты дурень! Ведь так сомнут! Слопают в два счета! Нужно отбиваться, когда тебя хватают за горло и душат! А ты!..»
Наседкин облегченно вздохнул и продолжал:
– Итак, товарищи, переходим к результативной части собрания…
– У меня есть слово! – резко бросил с места старший следователь Бардюков.
Он встал и откашлялся.
«Экая дерзость!..» – сквозило во взгляде Наседкина, который осторожно посматривал то на прокурора, то на Бардюкова. Он решал – дать или не дать ему слово.
– Пусть выскажется, – благодушно протянул Богданов.
– Я не согласен с критикой по адресу Шадрина. Как в докладе помощника прокурора, так и в выступлении Николая Гордеевича – явная передержка. Десять лет я работаю следователем в прокуратуре. Через мои руки прошло несколько десятков практикантов-стажеров и более двух десятков молодых следователей. Я должен сказать, что равного Шадрину по способностям и по добросовестному отношению к делу я не встречал. Пусть, конечно, от моих похвал не закружится у Шадрина голова, но я своим долгом, долгом коммуниста считаю заявить партийному собранию, что так с молодыми специалистами работу не ведут. Так не воспитывают! За полгода Шадрин не имеет ни одного замечания. Кроме похвал и поощрений с моей стороны и со стороны прокурора, он ничего не знает. И вдруг… То, что я сегодня услышал, для меня прозвучало сплошной неожиданностью. Я прошу так и записать в протоколе собрания, что критика молодого следователя Шадрина со стороны руководства прокуратуры была необъективной. Бить из-за угла и неожиданно опускать на голову человека дубину – этот порочный метод критиканства и зубодробиловки давно осужден партией. Вот все, что я хотел сказать.
Атмосфера собрания накалилась. По щекам прокурора поплыли багровые пятна. Однако выступление Бардюкова он выслушал внешне спокойно, даже с каким-то начальственным благодушием.
Варламов вытащил блокнот и что-то торопливо записывал. Авторучка инструктора райкома бегала по листам лихорадочно.
…В резолюции собрания выступления Кобзева и Бардюкова почти не были упомянуты. Они были представлены как частые замечания по адресу Наседкина, выступившего с резкой критикой недостатков.
Кончилось собрание в десятом часу вечера. Инструктор райкома ушел сразу же. Последние минуты он все чаще и чаще посматривал на часы. Перед уходом он подошел к прокурору и Бардюкову, сказал, что у него есть серьезный разговор, который лучше всего перенести на следующий день и вести его не здесь, в прокуратуре, а в райкоме партии.
Варламов остался в кабинете прокурора, когда из него вышли все, кроме Богданова.
В коридоре к Шадрину подошел Кобзев и принялся ругать его за то, что тот отказался от выступления.
– Ведь ты же признал эту пошлую критику! Но это же не критика, а издевательство! Перед райкомом и перед городской прокуратурой тебя представили как лентяя и выскочку. Смотри, до чего договорился Богданов – намекнул насчет судьбы Сысоева. Эх ты, Шадрин, Шадрин, а я-то думал!..
– Ничего, ничего, Леонид. Смеется тот, кто смеется последний. Я еще скажу свое слово, когда накипит. Мне пока еще рано вставать на дыбы. А тебе, за твою поддержку – спасибо. Честно скажу, не ожидал. – Шадрин пожал Кобзеву руку.
Скрипя протезом, по коридору мимо проходил Артюхин. Лицо его было и виноватым и заискивающим. Всем своим видом он походил на нашкодившую собачонку, которая, чтоб ее не наказали больно, ползет к ногам хозяина, машет хвостом и неуверенно смотрит ему в глаза.
– Вот чудак! Встал бы да признал критику. Пообещал бы исправиться – и все дело в шляпе. Подумаешь – поругали. Нас тоже по первости ругали, да еще как ругали! Почище, чем тебя. – Артюхин добродушно улыбался.
Шадрин хотел ответить ему улыбкой, но не мог. Перед ним стоял человек, которого он жалел, как младшего слабого брата, как инвалида. А он… «Нет, с таким я не пошел бы в разведку. Может предать. По глазам вижу – сможет». И Шадрин не пожал руки, которую протянул ему Артюхин. Он сделал вид, что не заметил ее. Тот долго стоял с протянутой рукой, потом как-то неестественно закашлялся, неловко повернулся и направился к выходу.
Бардюков на ходу застегнул свою форменную шинель, на секунду замедлил шаг, молча кивнул головой Шадрину и Кобзеву и скрылся в дверях. Другие следователи, которых Шадрин знал меньше, чем Бардюкова и Кобзева, простились с ним тепло, по-дружески, поддерживая его сочувственными взглядами, в которых Дмитрий читал: «Терпи, казак, атаманом будешь».
– А ты что не одеваешься? – спохватился Кобзев, который не находил себе места: так он волновался. Казалось, что он готов был отсидеть еще одно собрание, чтобы выступить с настоящей резкой критикой. – Я спрашиваю, что ты не одеваешься?
Дмитрий рассеянно ответил:
– Мне нужно кое-что… кое-что приготовить к завтрашнему дню. Прямо с утра еду в тюрьму на очную ставку.
– Что ж, давай, только лучше бы утром пришел пораньше. На свежую голову лучше думается. А потом после такой головомойки…
Но Шадрин все-таки остался. Простившись с Кобзевым, он прошел в свой кабинет, раскрыл папку с делом Анурова и его компании. Буквы в глазах прыгали. Слова перед ним представали ничего не выражающими иероглифами и цепочками синих узоров. Между строками он видел лицо Наседкина, самоуверенную улыбку Богданова и заячий трепет в маленьком, неприметном лице Артюхина. «До чего же затюкали! А ведь когда-то, наверное, неплохим солдатом был. Воевал, потерял ногу в боях… А вот тут… Только из-за того, что живет в вечном страхе, что всякий раз ткнут носом в неграмотный оборот или в лишнюю запятую, так опустился человек».
Шадрин сидел за своим маленьким столом и силился осмыслить все, что произошло за последний вечер. Он как-то сразу растерялся. Как же так?! В школе был первым учеником, и сейчас еще стены избы, в которой протекало его детство, увешаны застекленными рамками с пожелтевшими похвальными грамотами. Среднюю школу закончил с отличным аттестатом. После окончания курсов разведчиков попал на Доску почета. Награжден семью правительственными наградами за боевые заслуги в войну. С отличием закончил Московский университет. Работе в прокуратуре отдает всего себя. И вдруг: шалопай, лентяй, выскочка… Что это? Неужели все, что было сзади, все тридцать лет жизни, было подъемом в гору, а то, что начинается сейчас, после окончания университета, – падение с высокой кручи? Ведь Богданов – прокурор, член бюро райкома, влиятельный человек в районе, больше двадцати лет работает в прокуратуре. За что ему издеваться над ним? Ведь Шадрин ему не соперник, не враг его, а всего-навсего лишь подчиненный. А Наседкин? Этот хоть дурак и трус, но ведь тоже человек и тоже имеет хоть маленькие, но заслуги. За что он обливает его грязью?
Шадрин мысленно обращался к себе и не находил ответа. Положив голову на скрещенные руки, он сидел неподвижно. Перед глазами его назойливо вставали картины выступления прокурора и его помощника. Потом, словно каким-то стремительным броском, воображение перенесло его в другую обстановку. Вход в метро. Женщина в черной котиковой шубке передает ему пакет. Голубеют сотенные хрустящие бумажки. А вот пошли детали последнего разговора с Богдановым. Шадрин силился вплоть до мелочей вспомнить этот разговор, но он оседал в памяти расплывчато, смутно – все тонуло в идиотическом смехе сумасшедшего Баранова…
Дверь в комнату кто-то открыл. Дмитрий оторвал от стола голову. В дверях стоял Богданов. Он зашел в кабинет и закрыл за собой дверь. Молча сел на стул, на котором обычно сидят допрашиваемые. Шадрин поспешно встал, уступая ему свое место. Но предупредительный жест прокурора говорил: «Сидите, не беспокойтесь».
Шадрин смотрел в глаза прокурору, а продолжал видеть его свояченицу в котиковой шубке. Он припомнил даже цвет конверта: голубой, без надписи…
– Теперь-то вы, наконец, уяснили себе, за что вас ругали? – сочувственно и устало спросил прокурор.
– Уяснил, – задумчиво ответил Шадрин, не в силах отогнать видение белокурой женщины в котиковой шубке.
– Как вы теперь думаете послезавтра писать обвинительное заключение по делу Фридмана и его сообщников?
– По делу Анурова и его сообщников, вы хотели спросить?
– Это частности.
– Буду писать так, как диктует мой долг.
– И как рекомендует прокурор?
– Нет! Как обязывает Закон.
– Вы по-прежнему настаиваете на Указе от четвертого июня?
– Да.
– Вы об этом не пожалеете?
– Нет.
Прокурор встал со скрипучего стула, застегнул верхнюю пуговицу кителя и уже почти в дверях холодным, начальственным тоном произнес:
– Завтра утром едем вместе в тюрьму. Посмотрю вас в работе. – Не закрыв дверь, Богданов вышел и оставил за собой эхо твердых гулких шагов по длинному, тускло освещенному коридору.
А Дмитрий продолжал сидеть над исписанными листами протоколов. Он так и не подготовился к завтрашнему дню.
XVIII
Богданов в этот вечер вернулся домой неразговорчивый и злой. Всю дорогу он мысленно готовил разговор с Шадриным. В голове всплывало множество вариантов избавления от строптивого и непокорного следователя. Как облегчение, он твердил про себя: «Смять! Выгнать с позором!..» А какой-то далекий голос шептал: «Осторожней. Чтобы смять Шадрина, нужны веские доводы, он из молодых, да ранний. Умен и напорист. Умеет держать язык за зубами. Выступать на партийном собрании не стал, чего-то задумал. Это не дурачок Артюхин».
Дома Богданова встретили жена и Раиса Павловна. Не успел он раздеться, как они подошли к нему со слезами.
– Дайте хоть поесть. Без вас голова идет кругом! – оборвал сестер Богданов и прошел на кухню, где домработница подавала на стол ужин.
Ел Богданов молча, ни на кого не глядя. Видно было, что все в этом доме ему смертельно надоело: и глупая жена, и такая же ограниченная и тупая сестра ее, и муж сестры, который за последний месяц принес ему столько неприятностей.
Богданов кончил ужинать и потихоньку прошел в кабинет.
Перед сном, как правило, он имел обыкновение полчаса-час почитать что-нибудь из беллетристики. Это успокаивало нервы и отвлекало от дневных дум и волнений. Но не успел Богданов раскрыть книгу, как в кабинет бесшумно вошла Раиса Павловна. Она приблизилась к столу и тихо села в кресло. Продолжая тереть платком воспаленные глаза, Раиса Павловна проговорила:
– Николай Гордеевич… Ведь их со мной остается двое, а что я могу сделать?.. – Сморкаясь в платок, она замолкла.
Богданов сидел за столом, низко опустив голову, будто с потолка на него медленно опускали двухпудовую гирю. Он ждал, когда заговорит свояченица, хотя заранее знал, о чем она будет просить.
– Что я могу сделать?
– Я вчера была у Бори. Он выглядит, как старик… Совсем седой… – Раиса Павловна снова заплакала. С трудом, сквозь слезы, она рассказала Богданову то, что велел передать сам Ануров.
Слушая свояченицу, Богданов отлично понимал, что не с одной просьбой пришла к нему Раиса Павловна. В словах ее заключалась не только мольба о помощи, но и был намек на то, что Ануров держит в руках Богданова. Была в ее словах и неприкрытая угроза: если он, Богданов, забудет все то добро, которое делал для него Ануров, то он может об этом пожалеть. Падая в пропасть, Ануров потянет за собой и тех, кто будет толкать его в эту пропасть. Так она и сказала.
Ничего определенного не ответил Богданов Раисе Павловне. Он только тихо сказал:
– Хорошо, я еще раз посмотрю дело. – И дал знак, что он очень устал, что ему хочется остаться одному.
Раиса Павловна вышла.
Богданов долго сидел молча перед раскрытой на столе книгой. Взгляд его упал на ковер, застилавший почти весь пол. «Это тоже приобретено с помощью Анурова. Люберецкий… За ними стоят по неделе в очереди. А нам его привезли на дом… Противно!.. Как все противно!..»
XIX
Не успел Шадрин как следует разложить на столе дело Анурова и набело переписать план очной ставки, как его вызвали к прокурору. Он встал и, дуя на озябшие пальцы, вышел из своего кабинета.
«Продолжение следует», – подумал он и перешагнул порог кабинета Богданова.
Богданов пробовал шутить:
– Как спалось?
– Как Наполеону после Ватерлоо.
– Востер ты, востер, Шадрин, на язык. Этого у тебя не отнимешь. Если б Артюхину твой язык, он бы в министры вышел. – Видя, что Дмитрий переминается с ноги на ногу, пригласил: – Садись, в ногах правды нет. Я вот за двадцать лет уже устал стоять перед начальством. А ты еще только начинаешь службу, так что побереги ноги. План очной ставки составил?
– Грубый.
– Покажи.
Шадрин подал прокурору исписанный лист бумаги. Тот читал его внимательно, время от времени заглядывая в дело Анурова. Когда закончил, то встал и возвратил Шадрину план.
– Что ж, недурственно. Вопросы поставлены резонно и по существу. Может быть, тронемся? – Прокурор кинул на Шадрина озабоченный взгляд, в котором светилось что-то похожее на добросердечие.
– Я готов.
На улице пощипывал утренний морозец. Стояла пора, когда зима отлютовала свое, а весна хотя пока и не журчала звонкими ручейками, но уже навешала на крыше домов рубчатые сосульки. Дорожки через соседний скверик темнели грязным ноздреватым сахаром, который подмочили, а потом снова высушили. Из дубовых дверей вестибюля метро валил белый банный пар, в который суетливые москвичи ныряли поспешно и отчаянно, как ныряют пожарники в дымные подъезды горящих домов. Под ногами хрустел льдистый снежок. Дышалось легко и свободно.
– Погодка-то, погодка! – восхищенно воскликнул Богданов, садясь рядом с шофером.
Шадрин сел сзади. В каждом слове, в каждом взгляде прокурора он чувствовал неискренность. Их вежливый разговор ему чем-то напоминал игру взрослых людей в жмурки. Не было только бабушкиного сарафана, ребяческого азарта и восторженных криков: «Нашел! нашел!..» В душе каждый таил свое. Богданов твердил про себя: «Все равно сломлю! Все равно затанцуешь по-моему!» А Шадрин, словно чувствуя этот безголосый мстительный вызов, мысленно отвечал: «Будет так, как велит Закон, а не твоя прихоть…»
Серая каракулевая шапка Богданова сидела на крупной голове плотно и глубоко, словно она была распята на деревянном болване. Каракуль на воротнике пальто был темнее и мельче. Шадрин чувствовал, как начинала зябнуть его левая нога, и он принялся усиленно шевелить пальцами. Уже третий день не снимал он галоши – подошва левого ботинка отстала так, что чинить ее было бесполезно. Третий день он носит с собой деньги, чтобы купить ботинки, но не находил времени зайти в магазин. Сегодня Дмитрий решил твердо: после допроса, по дороге из тюрьмы, он непременно заглянет в первый попавшийся обувной магазин и выйдет из него в новых ботинках, оставив свои развалившиеся уборщице, которая, подметая пол, не раз помянет его бранными словами за такую находку.
Вспомнилась Ольга. Три дня назад он проводил ее в деревню хоронить бабушку. Сегодня вечером она должна возвратиться. Вчера он получил от нее телеграмму. Ольга сообщила, что приедет завтра, а с каким поездом – не написала. Потом почему-то на ум пришла хозяйка квартиры, и от этого воспоминания он почувствовал что-то похожее на брезгливость.
«Скорей бы приезжала! Так можно позеленеть от скуки», – подумал Дмитрий и только сейчас заметил впереди желтые стены Таганской тюрьмы, к которой они подъезжали.
Документы часовой проверял подозрительно и строго, словно Богданов и Шадрин шли в тюрьму не на допрос подследственных, а сделать всеобщий бунт, разворотить тюремные стены и выпустить всех заключенных. На эту строгость Дмитрий давно обратил внимание. Он также замечал: когда часовой выпускает следователя из тюрьмы, то глазами впивается в пропуск и в удостоверение так, точно имеет дело с переодевшимся в форму следователя заключенным, решившим перехитрить стражу.
Взгляд часового метался от фотографии на удостоверении к лицу.
Привычные полутемные коридоры. Из камер доносились приглушенные возгласы и крики. Где-то пели тюремную песню. Чей-то голос предупреждал, чтоб прекратили петь. Но песня все-таки не умирала. Она глухо доносилась до слуха Шадрина.
Я пустыни пересек глухие,
Слушал песни старых чабанов,
Надвигались сумерки густые,
Ветер дул с каспийских берегов.
Заиграли жалобно аккорды,
Побежали пальцы по ладам…
Потом песня постепенно погасла.
Они шли дальше. В одной из камер играли в самодельные карты. Доносились приглушенные выкрики:
– Казна!
– Бор!
– Стук!
Но вот, наконец, и комната следователя. Квадратная, с низким потолком. На окнах толстая железная решетка. Тот же маленький стол, те же две табуретки: для следователя и подследственного.
По просьбе Богданова откуда-то из соседней комнаты принесли еще одну расшатанную дубовую табуретку.
Шадрин волновался. Ни разу не приходилось ему вести допрос при прокуроре. Тем более после такой стычки на вчерашнем партийном собрании.
– Кто будет вести допрос? – спросил Шадрин.
– Разумеется, вы, – ответил Богданов. – Но иногда буду вклиниваться и я. Однако вы не обращайте на это внимание. Чувствуйте себя свободней, будто вы один.
Через несколько минут привели Фридмана. Пятидесятилетний худой человек, перепуганный настолько, что, казалось, выпусти его сейчас из тюрьмы и скажи ему: «Вы свободны!» – он не поверит. Он кинется вам в ноги и будет доказывать, что он не виноват, что его чуть ли не обманом втянули в эту авантюру, что в жизни подобного он больше никогда не повторит, если даже будет умирать с голоду. Таким, по крайней мере, Фридман показался Шадрину на первом допросе, таким он выглядел и сейчас.
Просторная тюремная куртка делала Фридмана похожим на огородное чучело, у которого ребятишки опустили рукава, чтоб самим не очень пугаться, когда ночью полезут к бабке Меланье в огород за огурцами.
– Садитесь, – предложил Шадрин вошедшему.
Фридман сел неуверенно, будто каждую секунду, при первом же окрике следователя, готовясь вскочить с табуретки и замереть по стойке «Смирно».
Свою службу в армии Фридман на первом допросе выпячивал как спасительный щит. У него есть даже медаль за участие в Великой Отечественной войне. При обороне Москвы он принимал участие в тушении пожара, когда на крышу его дома упала зажигательная бомба.
– Где вы служили в армии? – спросил у него Богданов, просматривая страницу протокола с биографическими данными подследственного.
– В сто двадцать седьмом запасном артиллерийском полку.
– Кем?
– При хозроте.
– На каких фронтах вы воевали с этим полком? – спросил Богданов.
Этим вопросом Богданов выдал себя с головой. Шадрин понял, что прокурор не имеет понятия, что такое запасной полк.
– Простите… Вы спросили насчет фронтов… Да, мы один раз стояли в деревне Корякино по Северной дороге. Это было совсем недалеко от линии фронта, когда немец подходил к Москве. Над нами, вы знаете, так часто, так часто летали немецкие самолеты!.. Что и говорить, пришлось-таки перестрадать. Но что поделаешь? Война есть война.
Кивком головы Богданов дал знак Шадрину продолжать допрос.
В основном это было повторение вопросов, на которые Фридман уже давно ответил: тот же драп, тот же тюль, те же ковры, импортная обувь… Как получали с базы, как оприходовали, как и по каким ценам продавали, кому продавали, как делили деньги… Ответы Фридмана полностью совпадали с показанными на предыдущих допросах. Никак не хотел сознаться Фридман в одном: что он знал о преступности своих действий.
Прокурор посмотрел на часы. Через десять минут должны ввести в следовательскую комнату Шарапова, который должен уличить Фридмана в его неискренности. От Фридмана же требовалось его признание в том, что третья часть половины незаконной выручки шла Шарапову. А Шарапов отрицал, что он получал деньги от Фридмана.
Видя, что Шадрин исчерпал свои вопросы к подследственному, в допрос снова вмешался Богданов.
– Скажите, гражданин Фридман, кроме Шарапова и Анурова, перепадала ли еще кому часть денег от половины выручки за продажу дефицитных товаров по спекулятивным ценам?
– Я вас не понимаю, гражданин следователь… – вытянув вперед шею, спросил Фридман, словно вспоминая о чем-то.
– Я спрашиваю вас, кому еще вы лично давали деньги и за что?
– Ну… Как вам сказать… Были случаи, но это совсем мелочи… Так, несколько раз, и то небольшими суммами.
– Кому? – Вопрос прокурора прозвучал непреклонно.
– По мелочам я несколько раз давал кассирше. Но, честно признаюсь, суммы небольшие, о них вряд ли стоит вспоминать.
– Какой кассирше? Как ее фамилия?
– Школьникова Ольга. Только я прошу, гражданин следователь, о ней плохо не думать. Она девушка скромная и непосредственно в нашем деле не участвовала.
Шадрин почувствовал, как сердце его захолонуло, «Что?! Неужели и она в этом клубке?! Нет, нет… Тут что-то сработано умышленно…»
– Сколько раз вы давали ей деньги? – продолжал наступать прокурор.
– Я уже сказал: всего три раза.
– Когда и по скольку?
– Первый раз пятьсот рублей, это было в прошлом году, в мае, не помню какого числа, при Шарапове я дал ей.
– Где? – не давал опомниться прокурор.
– Ну… в этом… кабинете Анурова.
– Зачем она туда попала?
– Ее позвал Ануров.
– Зачем?
– Чтобы вручить деньги.
– Был там сам Ануров в это время?
– Нет, сам не был. Он нарочно вышел. А нам велел дать Школьниковой пятьсот рублей.
– Кому это – нам? Кто был в кабинете, когда вы передавали Школьниковой деньги?
– Шарапов.
– Каким образом он очутился в кабинете директора?
– Его вызвал Ануров.
– Зачем?
– Начальству видней.
– Когда это было? Утром или днем?
– Вечером, после работы.
– Какой купюрой вы давали?
– Сотенными.
Богданов поспешно записывал вопросы и ответы.
– А второй раз сколько, когда и где вы передавали деньги?
– Это было уже в июле месяце. Тоже пятьсот рублей. Деньги эти я передал ей при Анурове.
– Где?
– Тоже у него в кабинете.
– В какое время?
– Тоже вечером, после работы.
– Других свидетелей не было?
– Кроме Анурова, никто не видел.
– Сколько денег передали Школьниковой?
– Тоже пятьсот рублей.
– Купюра?
– Сотенные.
Богданов поднял голову и пристально посмотрел на Фридмана, который, сгорбившись, сидел посреди комнаты.
– Вы их давали как взятку за соучастие в деле или под другим предлогом?
– Как подарок.
– За что?
Фридман замялся.
– Чтоб молчала. – Он опустил глаза к полу и вздохнул.
– О чем молчала?
– О том, что товар идет мимо прилавка.
– В чем выражалось соучастие Школьниковой в хищении дефицитных товаров?
– Она пробивала чеки на товары, которые в магазине не продавались.
– Когда она это делала?
– В обеденные перерывы и после работы.
– Знал ли об этом кто-нибудь, кроме вас, директора и Шарапова?
Фридман помолчал, потом нехотя выдавил из себя:
– Знала еще Лилиана Петровна.
– Какая Лилиана Петровна?
– Товаровед магазина.
Богданов не давал опомниться Фридману. Авторучка в его руке судорожно бегала по чистому бланку протокола. Записывал быстро, с каким-то внутренним удовлетворением. Закусив нижнюю губу, он не поднимал глаз от стола.
– Фамилия товароведа?
– Мерцалова.
– А Мерцаловой вы давали деньги?
– Тоже незначительные суммы.
– Сколько раз?
– Три раза.
Вопросы «где?», «когда?», «при ком?», «какую сумму?» повторялись по инерции, механически. Семичленная формула расследования, по которой вели допрос еще древнеримские юристы, Богдановым выполнялась точно. Посматривая на часы, он спешил: вот-вот должны привести Шарапова.
В течение последних десяти минут, допрашивая Фридмана, Богданов ни разу не взглянул на Шадрина. И только тогда, когда основные показания Фридмана были записаны, он повернулся в сторону молодого следователя. Шадрин сидел бледный. Пальцы его рук лихорадочно навинчивали колпачок на авторучку и тут же свинчивали его.
Богданов не подал и виду, что заметил его волнение. Он пододвинул к Шадрину дело и тихо сказал:
– Теперь продолжайте сами.
В первую минуту Шадрин хотел отказаться вести дальнейший допрос, но усилием воли поборол растерянность и в знак согласия кивнул головой.
В дверь постучали.
– Введите! – распорядился Шадрин.
В комнату в сопровождении конвоира вошел Шарапов. Этот держался бодрее и увереннее, чем Фридман. Конвоир, принесший по просьбе Богданова табуретку, поставил ее напротив Фридмана. Понимая, что от него требуется, Шарапов спокойно, без особых приглашений, будто церемониал очной ставки ему уже был давно знаком, сел. Он даже улыбнулся, извинившись:
– Простите, что сел без разрешения.
– Сидите, – строго сказал Дмитрий, всматриваясь в лицо Шарапова. По сравнению с первым допросом сейчас на нем проступало что-то новое: настораживающее, уверенное.
Предварительный план допроса был Шадриным нарушен. Шарапова пришлось спрашивать о том же, о чем пять минут назад прокурор спрашивал у Фридмана. Дмитрий торопился. Он рвался скорей приблизиться к главному: уличить Фридмана в клевете. Услышать разнобой в показаниях. Он не верил, что Ольга могла брать взятки, совершать преступление. Тут что-то не то! Фридман виляет. Может, по наивности он думает: если в орбиту преступления втянуто больше лиц, то ему от этого будет легче.








