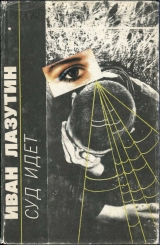
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 35 страниц)
VI
Дача Анурова была огорожена высоким глухим забором, над которым багровым валом полыхали клены, пригоршнями горящих углей рдела среди желтизны увядающего сада развесистая рябина. Фруктовые деревья и ягодные кустарники занимали треть большого, почти в гектар, участка. Остальные две трети были под цветами. Среди северных пород деревьев выделялись декоративные южные сорта: маньчжурский орех, пирамидальные тополя, крымские каштаны… У самого крыльца, ведущего на террасу, был разбит цветник.
С тех пор как в газетах стали частенько появляться фельетоны и статьи о дачниках, спекулирующих клубникой и помидорами, Ануров категорически запретил жене посылать домработницу с ягодами на рынок. Ему, директору крупнейшего в Москве универмага, неудобно было из-за каких-то мелочных доходов попадать на заметку.
Дача Анурова была выстроена в русском старинном стиле. Она еще совсем новая, масляная краска не успела потускнеть от дождей и солнца. Дача желтела, как пасхальное яйцо. Резные наличники красовались петухами, причудливыми завитушками. Таким же орнаментом был обведен карниз, крыльцо и балкон, который напоминал теремок из русских народных сказок: витые крученые столбики, кружевные навесы крыши, резные шишки, решеточки… Видно, долго и на совесть поработал здесь умелец, вкладывая в труд душу. Внизу дачи было четыре комнаты, кухня, ванная. Наверху, под высокой, почти готической крышей, которая нарушала единство стиля и общий ансамбль строения, было три комнаты, одна из которых, самая светлая и самая просторная, имела высокую стеклянную дверь, выходящую на балкон. В этой комнате Ануров любил сидеть вечерами у старинного камина. Это был его кабинет. Редко кто заходил сюда из членов семьи, разве только за тем, чтобы позвать хозяина к обеду или известить его о приходе гостя. А к письменному столу Ануров подходить домашним запретил категорически. Он любил во всем порядок и считал, что письменный стол, который он всегда закрывал, когда уходил, – это мозг всей ее работы. Здесь же, наверху, одну небольшую комнату занимал двадцатилетний сын Анурова, студент Института внешней торговли. Третья комната, которая по первоначальному замыслу хозяина предназначалась для гостей, почти круглый год пустовала – гостей Ануров не любил. А больше всего избегал родственников. Когда они приезжали, он их принимал внизу.
Была у Анурова дочь, которая год назад закончила Щепкинское театральное училище, но до сих пор нигде не работала – в периферийный театр, куда ее направляли, ехать не захотела, а в московские театры не брали. Целыми днями она бродила по магазинам и пляжам, а вечерами, как правило, отправлялась или в театр, или в коктейль-холл на улице Горького. Она очень походила на мать. Бывали случаи, когда их принимали за сестер. В таких случаях мать трепетала от радости и еще больше набрасывалась на косметику, выжимая из нее все возможное.
Еще в молодости кто-то неосторожно заметил Раисе Павловне, что она удивительно походит на Орлову, вот только волосы у нее темнее. Это открытие опьянило тщеславную модницу, и она в тот же день стала блондинкой. С тех пор уже пятнадцать лет никто больше не видел ее шатенкой.
Когда подросла дочь и стала студенткой театрального училища, та тоже зачастила в косметический институт. Дочь, как и мать, переделалась в блондинку.
Сын как две капли воды походил на отца. Тот же рост, широкий разворот плеч, густая туча вьющихся русых волос, ломаные разлеты черных бровей и угрюмая молчаливость. Антрополог-немец назвал бы эту семью породистой: все рослые, упитанные, светлоглазые, красивые…
Сегодня Ануров встал раньше обыкновенного. Скрестив на груди руки, он мрачно расхаживал из угла в угол своего кабинета, бесшумно ступая по мягкому китайскому ковру, застилающему почти весь пол. Время от времени он вскидывал свою крупную голову и, глядя в потолок, со вздохом многозначительно произносил:
– Да-а-а…
Еще вчера, поздно вечером, Ануров разговаривал по телефону с заведующим базой Фридманом. Тот сообщил ему тревожные вести: Баранова два дня назад арестовали, на Шарапова завели в прокуратуре дело, он, Фридман, не находит себе места. Четвертой стороной этого квадрата был Ануров. Даже из телефонного разговора Ануров понял, что тревожится Фридман не напрасно. На Баранова Ануров надеялся, тот на дыбе не проговорится. И потом он хорошо знаком с юриспруденцией: групповое хищение государственного имущества, групповая спекуляция по Уголовному кодексу наказывается гораздо строже, чем кража единичная, совершенная одним человеком. За Шарапова он не ручался. Если на того посильнее поднажать, да еще пообещать небольшое снисхождение – тот утопит отца родного, лишь бы миновать тюрьму.
– Трус! Из таких вырастают предатели! – сквозь зубы процедил Ануров, сжимая кулаки.
Подойдя к столу, он набрал номер телефона, позвонил Фридману. Тот подошел не сразу, за ним куда-то ходили.
– Это вы, Илья Борисович? Доброе утро! После вчерашнего нашего разговора я многое продумал. На Баранова надеюсь, у того светлая голова и крепкие нервы. А вот Шарапов… Шарапов меня пугает. Вам советую держать связь с ним очень осторожно. Он уже увяз всеми когтями. Чего доброго, потащит и других… Я? Я звоню с дачи. Что-то нездоровится, а поэтому в Москву выехать не могу. Но с Шараповым необходимо встретиться. Думаю, что вам это легче сделать, вы живете почти рядом. Что? Не слышу, повторите! – Ануров жадно припал ухом к телефонной трубке. – Тьфу ты, тоже мне Аника-воин, испугался. Я повторяю, что я болен, выехать в город не могу и знаю, что вы это сделаете не хуже меня. Главное объясните Шарапову, что его ожидает в любом случае, если он потянет за собой и других. Разъясните ему хорошенько, что такое групповая. Да хорошенько приструните его, чтоб он потверже вел себя на допросе. Что? Когда это сделать лучше? Думаю, чем быстрее, тем лучше. Сегодня воскресенье, нерабочий день. Богоугодное заведение, куда завтра снова вызовут Шарапова, сегодня, к счастью, не работает, а к понедельнику его нужно подготовить.
Ануров еще минут пять информировал Фридмана, что он должен сделать и как повлиять на Шарапова, чтобы тот не выдал и их. А когда закончил разговор, то принялся снова расхаживать по кабинету. Переводя взгляд с книжного шкафа на картины, с картин на бархатные гардины, ковры и мебель, он мысленно оценивал обстановку своего кабинета. Потом подошел к столу, открыл дверцу и выдвинул самый нижний ящик, из которого достал деревянную шкатулку с рисунком палехского мастера. Вытащил из нее сберегательную книжку и положил отдельно. Пачку аккредитивов и небольшой кожаный кошелек с драгоценностями бережно завернул в клеенку и закупорил в серебряной кадушечке, которая, как украшение, с карандашами стояла на его столе. После некоторого раздумья нажал кнопку звонка. Даже сигнализация у Анурова и та была персональная: один длинный звонок к жене, два коротких звонка – сыну, три коротких звонка – дочери.
Прошло несколько минут, но жена не приходила. Он даже не слышал снизу никаких признаков того, что на его сигнал была бы хоть малейшая реакция. Снова нажал кнопку. На этот раз звонок был продолжительным. Указательный палец Анурова занемел. В кабинет, громыхая по винтовой скрипучей лестнице, вбежала взволнованная Раиса Павловна. На ходу застегивая халат, она хриплым голосом спросила:
– Что такое? Почему так рано? Ведь ты же весь дом взбудоражил.
– Садись! – властно приказал Ануров и показал ей на мягкое кресло, обитое декоративным бархатом.
– В чем дело? – испуганно спросила Раиса Павловна, медленно опускаясь в кресло.
– Дела неважные, Раечка. Баранова арестовали. Шарапов тоже отживает на свободе последние дни.
Лицо Раисы Павловны начало медленно сереть. Ее губы, румянец которых был уже давно съеден помадами, стали еще бледнее и тоньше. Выражение глаз было испуганно-глуповатое, точно она только что проснулась и ей сообщили что-то очень страшное.
– Ковры, картины и вообще что получше из одежды нужно сегодня же переправить к знакомым.
– Что случилось, Боря?
– Пока еще ничего не случилось, но может случиться такое, от чего у тебя не будет денег на пачку папирос мне в тюрьму.
Лицо Раисы Павловны неестественно вытянулось, она стала зябко кутаться в халат.
– А как же мы, Боря?
Ануров горько засмеялся и покачал головой:
– Ты даже сейчас больше думаешь о своих нарядах, чем обо мне. – Ануров встал и гневно сверкнул на жену глазами. – Пойми, глупая твоя голова, что Шарапов завтра может выдать меня, и тогда вас выбросят из этих покоев на улицу. И в Москве оставят вам не отдельную трехкомнатную квартиру, а одну комнатушку. А ты все еще никак не можешь понять. Разбуди Рену и Владимира. Пакуйте все лучшее, вечером отвезу в Москву.
– Куда? Домой?
– Эх ты, дура… дура… Домой! Ты и сейчас не понимаешь, о чем я тебе говорил. Скоро ты можешь забыть, что у тебя был дом.
Раиса Павловна вышла от мужа, как побитая. Минут через десять дверь кабинета открыл Владимир. Первый раз в жизни он к отцу вошел без стука. В руках у него были клещи. Остановившись в дверях, он пристально посмотрел на отца и иронически ухмыльнулся.
– Выходит, что вишневый сад продан?..
– Да, сынок, продан.
– Можно рубить яблони?
– Можно рубить.
Владимир с гвоздодером шагнул к персидскому ковру, прочно прибитому к стене. Первый гвоздь вылезал с визгом. Этот визг Анурову напомнил скрежет, какой обычно бывает, когда острием ножа скребут о дно тарелки. Плотно сжав челюсти, он одними губами произнес:
– Снимешь вот эти две картины, скатаешь ковры, а остальное не трогай, все в машину не запихаешь. Мебель пусть остается.
Когда Владимир выполнил приказ отца, Ануров поднял голову (он что-то писал) и подозвал сына к себе.
– Садись, мне нужно с тобой поговорить.
Владимир сел в кресло.
– Только слушай меня внимательно и не перебивай. – Ануров перевел взгляд с сына на свои руки и продолжал сидеть не двигаясь. – Матери я об этом только намекнул, а тебе скажу все. Девяносто из ста за то, что меня посадят. За что? Ты знаешь.
Владимир поднял на отца тревожный взгляд, который выражал удивление и сочувствие.
Ануров сердито посмотрел на сына и продолжал раздраженно:
– Эти ковры, картины, машина, дача… вся эта гарнитурная мебель… ты что думаешь, все это зарплата? Если ты не совсем глуп, то должен был об этом догадываться раньше. Теперь все приходит к тому, что долго вилась веревочка, но, кажется, показался конец. Подробности говорить не буду. Но хочу кое в чем предостеречь тебя. Мои неприятности могут отразиться и на тебе. Институт внешней торговли – это не ветеринарный техникум. Сына расхитителя государственной собственности к торговле, тем более к внешней торговле, не подпустят на пушечный выстрел. Чего доброго, могут даже попросить из института. – Эти горькие соображения Ануров высказывал, низко опустив голову, словно он чувствовал свою вину перед сыном. – А поэтому есть смысл тебе сегодня же поругаться со мной и уйти жить к тетке.
– Зачем к тетке?
– Ты что, не понял? – Взгляд Анурова остановился на немецком ружье, висевшем на ковре.
– Не понял.
– Я в твои годы такие шарады разгадывал с ходу, – спокойно, как будто разговор шел о пустяках, сказал Ануров. – Повторяю: ты должен поругаться с родным отцом и уйти из дому.
– Из-за чего поругаться? – спросил Владимир, пока еще смутно понимая ход мыслей отца.
– Из-за того, что ты усомнился в честном приобретении всего, что мы имеем. А когда усомнился в этом, то пришел к отцу, чтобы серьезно, по-мужски, по-комсомольски поговорить с ним.
Ануров медленно поднял голову и отвалился на спинку кресла.
– Ты пригрозишь отцу тем, что если он и впредь будет таким туманным и нечестным образом приобретать ценные вещи, то ты заявишь куда следует. Отец назовет тебя неблагодарным щенком и прикажет не совать нос туда, куда не следует. Ты кровно обиделся на отца и покинул родительский дом. Да, кстати, все это ты запиши в дневнике, датируй эту запись двухмесячной давностью и храни дневник так, как хранят последние тайны. Если меня посадят – его найдут в моем письменном столе. Я случайно найду этот дневник у тебя в день ареста и не успею прочитать его. Понял?
– Да… кажется, понял. – Владимир сидел бледный и не мог смотреть в глаза отцу. Он хотел что-то возразить, но, подавленный логикой отца и опасностью сложившейся обстановки, не находил подходящих слов.
– Только это нужно сделать сегодня, после того как упакуешь с матерью вещи. Поставь об этом в известность мать и Рену. Растолкуй им хорошенько, зачем это нужно.
Углубившись в бумаги, Ануров с минуту сидел молча, подкалывая в папку какие-то документы. И только через некоторое время, точно вспомнив, что сын ждет его дальнейших указаний, он тихо сказал:
– Ступай и делай то, что может спасти тебя. Это, пожалуй, единственный вариант, его трудно опрокинуть.
– А если я действительно, не в порядке комедийной игры на зрителя разругаюсь с тобой, а по-настоящему, открыто, принципиально?! – После этих слов Владимир встал и далеко не по-сыновнему посмотрел на отца.
Прищурив правый глаз, Ануров, как холодным и острым штыком, впился взглядом в переносицу Владимира.
– То есть?
– Без всяких то есть. Все это мне надоело! Ваши ковры, ваши картины, вся ваша дорогая галантерея и коньяки с фруктами – все это ворованное!
Ануров сидел невозмутимо и тихо, ядовито-тихо улыбался, глядя на сына.
– А ты что, только сейчас об этом узнал, мой милый сын? Или в тебе только сейчас проснулась твоя комсомольская совесть? Разве ты не знал, что оклад у отца всего-навсего две тысячи рублей? – Ануров привстал. – А ну, посчитайте, Владимир Борисович, сколько тратит в месяц на свои коктейли, на театры, на загородные поездки только одна ваша милость? А костюмы? Полдюжины дорогих костюмов – это что, сорока на хвосте принесла? А ежегодные курорты, приморские рестораны, пикнички, шашлычки, вечериночки?.. Это что? Дары святых апостолов?.. – Вытянув шею, Ануров склонился над столом и вопросительно замер. – Ты что – раньше ни о чем не догадывался?
Владимир, переступая с ноги на ногу, замялся с ответом.
– Да… я кое о чем догадывался. Но я не был твердо уверен. А потом мне просто было стыдно говорить об этом с отцом, который носит в кармане партийный билет. Теперь мне стало все ясно.
– Что тебе стало ясно? – озлобленно спросил Ануров.
– Остается одно – играть комедию, которую отец сочинил для сына. Вы – автор, я – актер.
Теперь уже не восклицательный знак висел над столом, а черная гранитная скала горделиво возвышалась над сыном. Губы Анурова-старшего дрожали. Сомкнутые на груди сильные руки были крепко сжаты в кулаки. Крупный корпус откинулся назад.
– Да как ты смеешь, мерзавец, все это говорить родному отцу, который не сегодня-завтра сядет в тюрьму только из-за того, что он был для вас той буренушкой, которую вы доили, сколько хотели?! А хотели вы, скоты, все больше и больше… – Ануров тяжело дышал. С каждым словом он все более и более приходил в ярость. – А теперь… теперь, когда вы сами подвели меня к тюремным воротам, вы решили напоследок дать мне пинок пониже поясницы, чтоб я был попроворнее, чтоб побыстрее закрылись за мной эти ворота?! Не выйдет. Не выйдет!..
Ануров стукнул кулаком по столу так, что на нем подпрыгнул чернильный прибор.
– Если я хоть раз еще услышу подобные слова, я задушу тебя собственными руками! Ты слышишь – задушу! – Ануров вышел из-за стола и медленно подступал к сыну. – Я за компанию прихвачу тебя с собой, чтобы там… а там будет много свободного времени для раздумий, ты наконец понял, что не кто-нибудь, а вы, вы… вы всем скопом толкали меня на преступления!
Сдерживая ярость, Ануров до хруста ломал пальцы и метался по кабинету.
Подавленный, Владимир сидел в кресле. Его всего трясло. Таким злым, таким недобрым и разъяренным он видел отца впервые. Подойдя к книжному шкафу, Ануров-старший открыл потайную дверцу, на которой были искусно наклеены четыре корешка Большой энциклопедии, и достал бутылку выдержанного армянского коньяка и две хрустальные рюмки. Налил обе. Одну подал Владимиру, другую поставил перед собой.
– Выпьем. Это сильнее валерьянки.
Оба молча выпили.
– Вот эту штуку зарой хорошенько сегодня вечером в безопасном месте в лесу. Боже упаси зарывать на дачном участке. Есть виды, что нас с него скоро вежливо попросят. Здесь аккредитивы на предъявителя и драгоценности. Смотри не вздумай транжирить деньги. Глядя по ситуации, часть из них можно дать следственным органам, которые будут вести дело. Только сделать это нужно с умом, тонко. Сам за это не берись, постарайся сделать через других. И вообще заруби себе на носу: когда начнется следствие, не вздумай появляться дома. В случае, если тебя впутают под каким-либо соусом свидетелем по делу, в институте об этом непременно узнают. Матери эти сбережения и ценности не доверяй. Она у тебя битая дура, ей с утра до ночи крутиться перед зеркалом да рыскать по магазинам. Всего, что здесь есть, – Ануров показал на серебряный бочонок, – всего этого вам хватит на десять лет безбедной жизни. Не забывайте и меня. Передачи в тюрьму принимают каждую неделю, посылки в лагеря тоже посылать разрешают.
– Папа… – дрогнувшим голосом произнес Владимир. – Зачем ты все это говоришь? Ведь еще ничего не известно.
Ануров-старший снова наполнил рюмки коньяком и молча чокнулся с Владимиром.
– Это я, сынок, на всякий случай. Это мой отцовский наказ. Все, что имею, лежит здесь, перед тобой. – И Ануров показал на серебряную кадушечку. – Не подпускай к ней ни мать, ни Рену, профинтят все за один год. Планируй расходы сам, сократи свои ненужные расходы до минимума, тебе еще два года учиться, а потом… Потом можешь долго быть без работы. Ты теперь взрослый, поймешь все сам.
– На сколько здесь аккредитивов? – робко спросил Владимир.
– На четыреста тысяч.
– А остальное?
– Остальное в драгоценностях, тысяч на двести.
– Когда и куда мне все это зарыть?
Ануров молчаливо подумал, потом решительно сбросил с себя халат.
– Пойдем вместе. Мало ли чего бывает в жизни. Если один забудет место – другой вспомнит наверняка.
Ануров быстро оделся, положил в спортивный чемоданчик маленькую детскую лопатку, надрезанную волейбольную камеру, которую он предусмотрительно приготовил заранее, и спустился по винтовой лестнице вниз. Следом за ним послушно плелся Владимир. В нижних комнатах стоял такой переполох, как будто в них находились не две женщины, а добрый десяток базарных торговок. Три больших скатанных ковра были уже упакованы в тюки и перевязаны дорожными ремнями. Испуганная Раиса Павловна, забравшись на подоконник, Снимала тюлевые шторы.
– А это зачем?! – Остановил ее Ануров-старший. – Зачем, я спрашиваю?! – Он осуждающе покачал головой. – Заставь дурака молиться, он лоб разобьет. Я же сказал: упаковать наиболее ценные вещи, а вы готовы отодрать от пола доски. Что подумают следователи, если увидят, что в комнате, где стоит кабинетный рояль, нет ни штор, ни одного дешевенького коврика? Шторы повесить. Старый ковер прибить снова. Поношенную одежду оставить в гардеробе.
Мать и дочь, стоя посреди комнаты, молча выслушали распоряжения Анурова и не двинулись с места до тех пор, пока он и Владимир не вышли на улицу.
До ближайшего леса отец и сын шли молча. Как только очутились на опушке, Ануров тихо сказал:
– Запоминай дорогу. Приметь вот эти три березы, они стоят треугольником. На одной из них молния расщепила ствол. Выбери ее за ориентир.
Оглядевшись, отец и сын двинулись в глубь леса. Шли больше километра, дорогой несколько раз останавливались, чтоб осмотреться и тверже запомнить местность. Ануров-старший делал для себя кое-какие отметки в блокноте, набрасывал примерный маршрут следования. Не дойдя до скрещивания двух выбитых тропинок, они остановились в густом кустарнике, устланном желтым ковром облетевшей листвы. Стояла первозданная тишина осени.
Ануров еще раз огляделся, опустился на колени, аккуратно разгреб листья пальцами и принялся поспешно копать сырую землю детской лопаткой. Когда ямка была готова, он завернул серебряную кадушечку в резиновую камеру и поставил ее на дно ямы. Часть земли, которая не пошла в дело, он насыпал в чемодан. Утрамбовал зарытую яму ногами и снова нагреб на нее желтые листья, приготовленные Владимиром.
Клад был замаскирован искусно. Пока отец возился с землей, сын боязливо озирался по сторонам, боясь, как бы их не заметили.
Убедившись, что ценности спрятаны надежно, Ануров-старший отсчитал три шага до ближайшей осинки, еще раз посмотрел на место, где он зарыл драгоценности, и дал знак Владимиру выходить на тропинку.
Назад возвращались медленно, словно с кладбища. Поминутно оглядывались и запоминали каждую тропку, каждое приметное рогатое деревце. Записи в блокноте делал и Владимир.
Когда вернулись домой, все дорогие вещи были уже упакованы. В этот день мать и дочь впервые за многие годы не накрасили с утра губы и не подвели ресницы. Вид у обеих был усталый, болезненный.
– Где вы были? – затаенно, почти полушепотом спросила Раиса Павловна.
– Гулять ходили.
Вслед за отцом наверх в кабинет поднялся и Владимир. Присев в кожаное кресло, стоявшее перед письменным столом, он спросил:
– Неужели нет выхода? Может, лучше уехать, скрыться?
– Где, в России? – Ануров горько усмехнулся. – В других странах в таких случаях покупают заграничный паспорт и… поминай как звали! В России этот вариант исключается. А блудить по стране беспаспортным бродягой – глупо. Заройся хоть в землю – все равно найдут. Остается одно.
– Что?
– Ждать. Терпеливо ждать!
В тот же вечер, как только стемнело, Ануров перенес ковры, картины и узлы с одеждой в машину, набил ее так, что с трудом закрыл багажник и дверцу заднего сиденья.
– Куда все это? – спросил Владимир.
– Пока к Меньшикову, а там можно рассовать по другим знакомым.
Сухо простившись с женой и детьми, Ануров выехал на проселочную дорогу и направился к Варшавскому шоссе.
У первого орудовского поста его остановил милиционер и попросил права, которые Ануров тут же достал и услужливо подал. Старшина-орудовец долго рассматривал их, вертел в руках, бросая косые взгляды в сторону дома, от которого прямо к машине шли два человека. Оба были в плащах и кепках. Один – что шел впереди – широкоплечий, приземистый. Другой – повыше и юношески гибкий. Шли спокойно, неторопливо. Оба держали руки в карманах.
– Тринадцать семьдесят два? – спросил тот, что поприземистее и постарше.
– Так точно! – четко ответил старшина-орудовец, откозырнув неизвестному.
Сердце Анурова щемяще сжалось, замерло. Потом оно ударило сильно и гулко.
– В чем дело? Почему вы меня остановили? – спросил он у старшины.
– Вам, гражданин, придется проехать с нами.
– Кто вы такой?
– Я оперативный уполномоченный районного отдела милиции. – Незнакомец предъявил удостоверение личности.
Нижняя челюсть Анурова безжизненно откинулась, обнажая белый ряд зубов. Долго он не мог попасть рукой в карман, стараясь положить в него бумажник, из которого достал свои любительские права. За каждым его движением оперуполномоченные следили сторожко, готовые в первую же секунду умелым приемом отразить любую выходку Анурова.
– Прошу рядом со мной! – сказал оперуполномоченный постарше, садясь за руль. Ануров послушно сел рядом.
Второй оперативник, что помоложе, с трудом влез в машину. Ему пришлось почти полулежать, подобрав под себя ноги.
– А теперь поедем.
– Куда?
– Пока прямо.
Машина плавно тронулась с места. Ануров попросил разрешения закурить.
– Что вы курите?
– С сегодняшнего дня курю все.
Оперуполномоченный правой рукой подал Анурову пачку «Беломора» и спички.
– У меня есть.
– Курите мои. Так нужно.
Только теперь Ануров понял оперативника. Как арестованному, ему в его теперешнем положении нельзя было лазить по карманам, в которых могло быть оружие.








