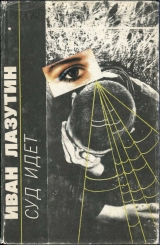
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц)
У Сашки в этот день был выходной. В прошлое воскресенье он работал, а поэтому взял отгул. Проснулся он поздно, в десятом часу. От выпитой водки и самодельной браги болела голова.
– Мама, ты бы достала простокваши, – сказал он, сжимая виски ладонью. – Или огуречного рассола.
Мать принесла из погреба крынку холодной простокваши и малосольных огурцов. Сашка привстал, зажал крынку обеими руками и жадно припал к ней. Пил без отдыха, до тех пор, пока не захватило дух.
– Ух ты!.. Хороша штука! – Он поставил крынку на табуретку и вышел во двор. Сел на старую рассохшуюся кадушку, закурил.
Дмитрий и Петр вкапывали за хлевом столб.
– Зачем это? – хрипловато спросил Сашка.
– Душ Шарко мастерим, – отозвался Дмитрий, трамбуя вокруг столба свежую землю. – Ты чего на кадушку-то сел, смотри развалишь. Мы ее сейчас размачивать в болото понесем.
Из старой кадушки решено было сделать душ.
Петр работал с азартом. По его лбу тоненькими струйками стекал пот. Все четыре выкопанные ямы – его работа. Дмитрий у него был вроде подручного, на подхвате. Младший брат щадил московского гостя.
Сашка выкурил папиросу и молча понес кадушку к болоту. Его мутило. Когда вернулся, во дворе уже вертелся Васька Чобот, соседский парнишка лет восьми, сын конюха райпотребсоюза. Все это лето с утра до вечера Васька Чобот пропадал на дворе у Шадриных. Как ни наказывала его мать за это, он все-таки чуть ли не с постели несся к Шадриным и ждал, когда Сашка приступит к портрету. Завороженный, он, не отрываясь, смотрел, как постепенно, день ото дня, на мертвом полотне оживали черты Сталина. В этом Чобот видел какую-то непостижимую для его разума тайну. Разинув рот, он смотрел на чудодейственную кисть в руках Сашки, которого он стал уважать еще больше.
А дня три назад мать Васьки Чобота, которую по-уличному все звали Чеботарихой, с криком ворвалась в избу к Шадриным. Усмотрев соседскую корысть, она подняла такой гвалт, что Сашка решил отвадить от своего двора поклонника. Чеботариха на всю улицу раззвонила о том, что Сашка привадил к себе мальчишку, что заставляет его рубить табак, носить воду, посылает за хлебом…
На следующее утро Чобот, словно чуя беду, подошел к избе Шадриных с какой-то затаенной опаской, нерешительно. Во двор входить не решился. Почесывая на ногах цыпки, он сел у калитки на бревнах, дожидаясь, когда Сашка вынесет под навес сарая картину и краски. Чтобы не прогнали, Чобот на этот раз пришел не с пустыми руками. Принес почти новенький бритвенный помазок. Вспомнил, хитрец, что неделю назад Сашка целое утро искал для кистей волос и на Васькиных глазах расщепил старый, завалявшийся где-то бритвенный помазок.
– Ты опять здесь, Чобот! А ну, киш!
Васька сполз с бревен, попятился, но совсем уходить не хотел. Уж больно заворожило его художество Сашки.
– Дядя Саша, я те помазок принес… – насупившись, проговорил Чобот.
– А где ты его взял?
Исподлобья глядя на Сашку, Чобот протянул:
– У тятьки, он не узнает…
– Стащил?
Васька стоял молча, опустив голову и выщипывая из помазка волосы.
– Сроду не узнает.
– А ну, марш отсюда! Еще, чего доброго, мать побежит в милицию, заявит, что я воровать тебя учу! Ишь ты! – Сашка неторопливо подошел к вязанке хвороста, выбрал хворостину пожиже и стремительно кинулся к калитке.
Чобот убежал. В это утро за работой Сашки он наблюдал из своего хлева, через щель в плетне, которую он проделал, вытащив из стены кизяк. Это было вчера.
А сегодня Чобот знал, что к Шадриным приехал старший брат Дмитрий. Из окна своей избы он увидел, как Сашка с кадушкой на плечах пошел к болоту.
На этот раз Чобот решил, что в день приезда Дмитрия Сашка драться не станет, постыдится: все-таки как-никак, а старший Шадрин приехал не откуда-нибудь, а из Москвы.
Чобот сегодня решил даже умыться и вымыть в кадке усыпанные цыпками ноги. К палисаднику Шадриных он подошел нерешительно. Придерживая одной рукой вечно спадающие штаны, ждал, когда Дмитрий пригласит его войти во двор.
Но Чобота никто не замечал.
– Дядя Митя, я посижу у вас… – не выдержав невнимания, попросился Чобот.
– Что?
– Я посижу у вас во дворе, а то дядя Сашка дерется.
– Чего же он дерется?
– Не дает картину глядеть.
– Это почему же не дает глядеть?
– Говорит, что у меня нехороший глаз, сглажу.
Дмитрий захохотал.
– Заходи, Чобот, посиди!
Чобот, с опаской оглядываясь, вошел во двор, а сам все искоса поглядывал в сторону болота. Когда он увидел шагавшего через огород Сашку, то на всякий случай отошел подальше от вязанки подвяленного хвороста.
Сашка закрывал ворота на огород с таким равнодушным видом, будто ему сроду не было никакого дела до Чобота и он давно забыл про него и про скандал, который неделю назад учинила его мать. Но Васька видел, что Сашка хитрит, а поэтому потихоньку, бочком попятился к калитке.
– Ты что это, Сашок, Чобота обижаешь? – спросил Дмитрий, пробуя пошатнуть вкопанный столб.
Сашка не ответил, словно не слышал вопроса. Зато, когда шел к крыльцу, вдруг сделал такой резкий и неожиданный выпад в сторону вязанки хвороста, что Чобот, карауливший каждое его движение, стремглав кинулся с шадринского двора. Бежал и что-то выкрикивал на ходу, а что – Дмитрий никак не мог разобрать.
Сашка схватился за живот и давился от смеха.
– Ты что? – спросил его Дмитрий.
Нахохотавшись, Сашка рассказал, как недели две назад к его портрету подошел учитель по литературе – он жил где-то по соседству, – и чтобы показать, что он тоже разбирается в живописи, сделал замечание: в картине нет выпуклости. Чобот при этом был рядом. Это замечание он запомнил.
– Ну и что? – недоумевал Дмитрий.
– Да ты послушай! Ты только послушай, чем он меня дразнит! – Повернувшись в сторону избы Чеботаревых, Сашка выкрикнул: – Если еще хоть раз заявишься, уши оборву!
С крыши соседнего хлева, на котором сидел Васька Чобот, донеслось:
– Э-э-э!.. Пуклости у тебя в картине нет! Нет пуклости! Сам учитель сказал, что пуклости нету!
X
Месяца три назад, перед тем как приняться за портрет Сашка договорился с заведующим клубом. Тот пообещал купить у него портрет, если он хорошо получится. Два с половиной месяца Сашка трудился над картиной с чувством большой ответственности, отдавал ей все свободное время: как-никак – первый заказ. Но не деньги волновали Сашку. Другая думка жгла его два месяца: картина будет висеть в районном клубе; все будут знать, что рисовал ее не кто-нибудь из города, профессиональный художник, а Сашка Шадрин, местный пожарник. Над своей подписью в правом нижнем углу он сидел больше часа – хотел, чтоб не особенно броско выпирала, но и чтоб все видели ее.
Наконец картина готова.
Сашка осмотрел ее со всех сторон, еще раз сравнил с репродукцией оригинала и решил: «Будь что будет – понесу».
Даже не дождался Дмитрия, который с Иринкой и Петром ушел на озеро. Сашка решил ошеломить всех пачкой денег, которую он получит за картину. Мысленно он даже представил выражение лица Дмитрия, когда он вечером увидит на столе бутылку коньяку, которую он, Сашка, купит в вагоне-ресторане проходящего курьерского поезда. Хотя сам коньяк никогда не пробовал, но слышал от других и в книжках читал, что пьют его люди не простые. Хотел угостить старшего брата. Он живо представил себе, как заколготится мать, как закружится лисой Иринка, которая непременно станет выклянчивать на шелковую кофту; нахохлится завистливо Петр, который из гордости сделает вид, что он видал и не такие деньги, когда в войну продал мешок табаку в Новосибирске.
Фантазия Сашки за какие-то несколько минут подбросила его на вершину сельской славы. И он бросал кому-то мысленный вызов: «Подождите! Я еще покажу вам, на что способен Сашка Шадрин!»
Когда Сашка вышел со двора, было уже десять утра. Оберегая картину от солнца (он знал, что краски выгорают), нес ее перед собой, как носили в старину хоругви во время крестного хода. Краем глаза он замечал, как из окон изб выглядывают соседи. Мальчишки, еще издали завидев столь необычную для улицы оказию, выскакивали на пыльную горячую дорогу и, толкая друг друга, трусили за Сашкой.
Они ожесточенно спорили о том, кто нарисовал портрет. Один доказывал, что портрет куплен в области, другой утверждал, что его привез из Москвы старший Шадрин. Всех больше неистовствовал Чобот. Он чуть не подрался с веснушчатым мальчишкой, которого дразнили колдуном, доказывая ему, что он сам, Васька Чобот, собственными глазами видел, как Сашка рисовал эту картину.
Сашка слышал разгоряченный голос Чобота, и в эту минуту он был ему мил и люб.
Посреди проулка Сашка аккуратно поставил картину на бугорок и прислонил к частоколу. Решил покурить. Длинные тени от сосновых кольев, посеревших от дождей и ветров, параллельными темными полосками ложились поперек пыльной дороги и упирались концами своими в противоположный частокол. В воздухе, пахнущем картофельной ботвой и нагретой дорожной пылью, застыла стрекоза. Она хотела сесть на раму портрета, но Чобот замахнулся на нее с таким злым лицом, что она, словно раздумав, вяло качнулась с боку на бок, набрала высоту и скрылась за частоколом. Где-то в картошке визжал забравшийся в огород поросенок. С другого двора, к которому примыкал огород, неслось утробное похрюкивание: свинья скликала поросят. На лугу, около болота, ухватившись за хвост теленка, бегал мальчишка с выгоревшей головенкой. Нахлестывая по бокам обезумевшую скотину, он, картавя, угрожающе кричал:
– Убью, палазитина!
Сашка волновался. Через несколько минут будет решена судьба его картины. «Возьмут или не возьмут?» – думал он.
Стайка ребятишек, притаившись, стояла в некотором отдалении: боялись подходить, считали Сашку сердитым.
Сашка достал из кармана пачку «Прибоя» и, повернувшись в сторону ребятишек, отыскал глазами Чобота.
– А ну, иди подержи, я покурю!
С резвостью жеребенка Чобот подбежал к картине и обеими руками вцепился в раму. В эту минуту он даже дышать боялся. Видя, с какой завистью смотрели на него ребятишки – держать картину доверили ему, а не кому-нибудь другому. – Чобот ликовал.
– Ну как, Чобот, получилось?
Чобот поглупевшими глазами смотрел снизу вверх на Сашку (всякий раз он ждал от него какого-нибудь подвоха) и не знал, что ответить.
– Я спрашиваю, получилось или не получилось? – сердито переспросил Сашка.
– Получилось, ох и получилось, дядя Саша! Как правдашний…
– А что ж ты говорил, что пуклости нету?
– Это не я говорил, это учитель сказал. Я еще тогда заметил, что пуклость есть!
В это время подошел к картине дед Евстигней. В руках он держал черную бутылку, заткнутую промасленной тряпкой: ходил в ларек за керосином. Надвинув фуражку поглубже на глаза и почесывая затылок, он долго, вытянув шею, смотрел на портрет, потом ухмыльнулся в усы и процедил:
– Нн-да-а… Ничего, похож. Только что-то он у тебя, Сашок, отвернулся, в глаза не смотрит, ай солнца испужался?
– Так уж нарисовал его художник, дед. Видишь, он всю страну взглядом окидывает, за всем хочет углядеть.
– Да, это знамо, что за всем хочет углядеть… А вот лучше, чтоб ты его лицом повернул, чтобы он не в сторону, а людям в глаза глядел, так-то оно навроде будет лучше.
Дед Евстигней был из тех «бывших», кого в начале тридцатых годов изрядно потрепали во время коллективизации, но в Нарым ссылать не стали. Человек он был незлобивый, а поэтому сочли, что для колхоза он не причинит никакого вреда, и на втором году колхозной жизни приняли его в артель, где он молча, до глубокой старости трудился в полеводческой бригаде.
– Ты в этом деле, дед, ничего не понимаешь. Купил керосин и стучи до дома, а то прольешь.
– Да это, конечно, что мы понимаем? Мы народ темный, где нам все понять… – Прижав к выгоревшей сатиновой рубахе бутыль, дед, опираясь на батожок, потащился по переулку.
Ребятишки в клуб зайти не решались, остались ждать у крыльца – боялись уборщицу Настю, она же была и билетерша. На вечерние сеансы подростки до шестнадцати лет у нее никогда не проходили. Всех в селе Настя знала, как свои пять пальцев: и по фамилиям и по возрасту. Затрещину она умела дать не хуже мужика, если какой-нибудь смельчак пытался прошмыгнуть без билета.
С картиной Сашка прошел в гримировочную. Она служила в клубе и складом театрального реквизита, и директорским кабинетом, и курительной комнатой для артистов. Стены комнаты были облуплены и пожелтели от табака. На полках полуразвалившегося шкафа (он был почти единственным предметом из мебели, если не считать трехногой скамейки, приставленной к стене) лежали два размочаленных, вымазанных в гриме рыжих парика, несколько кусков пластилина, две полурастрепанные и замусоленные книжки нот и сборник для эстрадной художественной самодеятельности.
Сашка приставил картину к стене и попросил Настю сходить за заведующим, который жил рядом с клубом.
– Мне нетрудно, только он с утра собирался вести корову к ветеринару, не знаю, вернулся или нет. – Склонив голову, Настя принялась рассматривать картину, потом вышла.
Она вернулась с ведром воды и огромной тряпкой.
– Дома. Сейчас придет.
Наконец появился заведующий. Это был бывший одноклассник Дмитрия Шадрина, по фамилии Матюшкин. Как в 1943 году вернулся без руки с войны, так сразу же райком послал его работать в клуб заведующим. В свои двадцать семь лет Матюшкин уже имел четверых детей, один другого меньше. Всегда он был чем-то озабочен, всегда что-то доставал, и вечно его ругали, мол, недостаточно активно и творчески работает.
В селе Матюшкина все звали Циркачом. Этой клички он был удостоен после одной оплошности, о которой он вспоминал с болью в сердце.
Это было перед войной. Матюшкин учился в девятом классе и на мартовском празднике выступал в районном клубе. Народу собралось столько, что не только сесть – встать было негде, кое-кто забрался даже на подоконники.
Матюшкин выполнял цирковой номер: баланс со стаканом воды, поставленным на лоб. При гробовой тишине зала – все видели, как в стакане колыхалась подкрашенная чернилами вода – он плавно садился, переворачивался с живота на спину, медленно перекатывался по пыльному полу и потом также плавно, не пролив ни капли воды, вставал. Его номер был встречен громом аплодисментов. Просили повторить еще раз. Счастливый Матюшкин вышел повторить свой номер.
Но тут как раз и случилось то, что он не мог вытравить из своей памяти каленым железом. Не забывало об этом и село.
Когда Матюшкин силился встать на ноги, да так встать, чтоб не шелохнулась в стакане вода, вот тут-то и случился с ним конфуз. Он оступился и полетел в суфлерскую будку, под пол сцены, куда уборщица неделю назад поставила ведро сажи. Под хохот и аплодисменты зала Матюшкина вытащили из суфлерской будки за ноги. Лицо его было в фиолетовых чернилах, сам весь перемазался в саже.
Прошла война, у Матюшкина появились дети, но кличка Циркач нет-нет да и донесется из молодежной стайки насмешников.
Прозвище это он носил в сердце, как незаживающую, саднящую ранку.
К семье Шадриных Матюшкин относился с особенным уважением. Еще до войны, когда он учился с Дмитрием в одном классе, Матюшкин втайне, по-доброму завидовал Шадрину. Дмитрий «хватал все на лету», а ему, Матюшкину, приходилось брать грамоту долбежом, усидчивостью. Теперь же, когда он знал, что Дмитрий учится в Московском университете, уважение к семье Шадриных еще больше возросло. Решив заказать для клуба портрет Сталина, он обратился не к местному художнику Худякову, который пил запоями, а к младшему брату Дмитрия. Он слышал, что Сашка Шадрин хорошо рисует портреты. Даже не посмотрел, что тот всего-навсего пожарник.
Узнав, что портрет заказан не ему, а пожарнику, Худяков решил строить козни и заведующему клубом и Сашке.
По озабоченному лицу Матюшкина Сашка почувствовал неладное. Тот тихонько покашливал в кулак, почему-то хмурился, отходил от картины, снова к ней подходил, рассматривал долго, тщательно.
Массовик, молодой паренек, игравший вечерами на баяне, стоял здесь же и молча смотрел на портрет.
Наконец заговорил Матюшкин:
– Знаешь, Сашок, скажу тебе честно: картина мне нравится. Но тут есть одна загвоздка. – Матюшкин достал папиросу, закурил и закашлялся. – Этот пьяница Худяков нам здорово поднавредил.
Сашка тревожно смотрел на заведующего, переминаясь с ноги на ногу.
– Капнул в райком, что портрет я заказал не ему, профессионалу, а тебе. Понял?
– Понял, – глухо ответил Сашка, хотя сам еще не понял – что же здесь плохого, если он, непрофессиональный художник, нарисовал хорошую картину.
Матюшкин взмахнул перед своим носом обрубком левой руки и решительно произнес:
– Ничего, в райкоме в этом деле толк знают. Там разберутся. Я вчера вечером встретил второго секретаря, он меня предупредил, что, перед тем как покупать, картину нужно показать ему.
– Что ж, пойдем, покажем, – согласился Сашка, чувствуя, что дело осложняется.
По дороге в райком его подогревала тайная гордость: «И в райкоме узнают, что портрет Сталина нарисовал не Худяков, а Сашка, рядовой пожарник. Чего доброго, в районной газете об этом напишут». Ему даже начинала нравиться деловая и серьезная постановка вопроса, в этой строгости он чувствовал особую важность своей работы.
Закрыв клуб на висячий амбарный замок, поржавевший от дождей и времени, Матюшкин и Сашка направились в сторону кирпичного белого здания – единственного двухэтажного во всем селе, – где размещался райком партии и райисполком.
Кабинет второго секретаря райкома был на втором этаже. Поднимаясь по ступеням лестницы, Сашка придумывал заранее ответ, который он даст в том случае, если секретарь будет удивляться, восторгаться и расспрашивать, как это он, непрофессиональный художник, смог так здорово написать портрет вождя. «Скажу, что могу еще получше нарисовать», – решил он твердо и шагнул через порог в кабинет, на пухлой, обитой клеенкой двери которого висела дощечка с серебряной надписью на черном стекле: «К.С. Кругляков».
Первое, что бросилось в глаза Сашке, когда он закрыл за собой дверь, – это был Т-образный длинный стол, покрытый зеленым сукном.
В жестком кресле сидел маленький, кругленький секретарь. Ворог серого кителя не сходился на его короткой шее, а под мышками он так давил, что глубокие складки коверкота врезались в тело.
На клеенчатом диване у окна, небрежно развалившись, сидел начальник районного отдела МГБ майор Кирбай.
Кругляков сидел за столом картинно-неестественно, несколько напряженно, словно каждую минуту по телефону его могла запросить Москва. Острые, ровно поставленные на столе локти придавали всей его фигуре значение застывшего вопроса: «А как вы считаете?»
Кирбай перевел взгляд на вошедших, которые остановились у дверей, почесал небритую румяную щеку и принялся барабанить пальцами по клеенчатому валику дивана.
– Я считаю, что мы это можем сделать и без Ядрова. Не только можем, но и должны.
– Смотрите, Валентин Ерастович, вам виднее. Но я считаю, что без Ядрова мы это делать не имеем права. Это его прямая компетенция.
– Насчет прямых компетенций – это ваша вечная демагогия. Выносите на бюро – решим без Ядрова.
Ядров был первым секретарем райкома партии и уже неделю как находился в отъезде. Его замещал Кругляков.
Потирая гладко выбритый подбородок, Кругляков о чем-то задумался. Он настолько был сосредоточен и чем-то обеспокоен, что до сих пор не обратил внимания на вошедших, которые стояли в дверях и, переминаясь с ноги на ногу, ждали, когда их пригласят пройти.
– А это что за манифестация? – спросил Кирбай и кивнул в сторону двери.
– Проходите, чего застыли на пороге, – ободрил вошедших Кругляков и жестом показал на стулья, стоявшие ровным рядком у стены. – Картину можете поставить у двери, издалека лучше смотрится.
Сашка аккуратно поставил портрет к стене и, не дыша, сел рядом с Матюшкиным, который, как видно, тоже не особенно спокойно себя чувствовал.
– Принесли на утверждение. – Кругляков посмотрел на Кирбая. – Как вы находите? Да, кстати, оригинал с собой?
Дрожащими пальцами Сашка поспешно достал из блокнота расчерченную на мелкие клетки открытку и положил ее на стол перед Кругляковым. Тот переводил взгляд с открытки на портрет и с портрета на открытку. И так несколько раз.
– А что вы думаете – и в самом деле недурно! – Секретарь выжидательно смотрел на Кирбая.
Майор долго и пристально глядел на портрет, потом круто поднял левую мохнатую бровь и взглядом, пришившим Сашку к стене, спросил:
– Фамилия?
– Шадрин.
– Где живешь?
– На Рабочей улице.
Кирбай еще с минуту молча смотрел на портрет.
– А патент у тебя есть?
– Какой патент? – Голос Сашкин дрогнул.
– Патент на право рисования вождей? – Майор не спускал с Сашки холодного, с оловянным отсветом взгляда.
Этот взгляд заставил Сашку съежиться.
Он вспомнил неприятнейший эпизод из своего детства. Тогда ему было семь лет. Это было в тридцать третьем году, в школу он еще не ходил. Вместе с соседским мальчишкой Сенькой, внуком деда Евстигнея, погибшим в последние дни войны под Берлином, они направились однажды в «Заготзерно» и, шныряя у сушилок под возами, тайком от сторожа нагрузили карманы пшеницей для голубей.
По дороге домой, уже у самого раймага, в добрых полутора километрах от «Заготзерна», их остановил милиционер и ощупал карманы. Обнаружив в них пшеницу, он повел ребятишек в милицию и сдал их дежурному старшине Кирбаю, который в те годы был молодым и статным парнем. С полчаса Кирбай пугал ребятишек наганом, стучал кулаком по столу, ставил обливающихся слезами виновников к стене и, прицеливаясь, объявлял, что непременно застрелит их. Ребятишки в ужасе бросились в ноги старшине и, елозя голыми коленками по зернам пшеницы, слезно молили: «Дяденька, прости, больше не будем!» А Кирбай входил в раж. Потешаясь, он запер ребятишек в камеру предварительного заключения, объявил им сквозь крошечное зарешеченное оконце в двери, что расстрел отложил до вечера, после того как арестует и посадит в тюрьму родителей. Защелкнул окошечко и загремел по коридору коваными сапогами.
От мысли, что их расстреляют, а матерей и отцов посадят в тюрьму, ребятишки намочили не только слезами рукава рубашонок, но и штаны. Охрипшие от крика, они ждали расстрела. Потом их выпустил начальник милиции, которого эта забавная шутка старшины порядком насмешила.
На всю жизнь Сашка запомнил этот стальной, холодный блеск светло-голубого глаза, который смотрел на него сквозь прорезь прицельной колодки нагана, когда он ползал на коленях по рассыпанным зернам пшеницы.
– Я к вам обращаюсь, молодой человек. – В голосе Кирбая послышались звуки стальной косы, наскочившей своим острием на кость. – Предъявите ваш патент на право рисовать портреты вождей!
Лицо Сашки стало еще бледнее.
– Товарищ начальник, я этого не знал…
– Незнание не есть доказательство! Это меня не касается, – сказал майор раздраженно. – В прошлом году вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о наказании за расхищение государственного и колхозного имущества. И вот нашелся один такой молодчик, который не знал про этот Указ, не читал о нем в газете и украл казенные деньги. Как вы думаете, можно его судить за хищение или нельзя?
Сашка перекатывал в руках кепку и молчал.
– Я вас спрашиваю, нужно его судить или пусть дальше ворует, раз он не знал про этот Указ?
– Товарищ начальник…
– За такие вещи отдают под суд! Ишь ты, художник нашелся! Вождей вздумал рисовать! Где работаешь?
– Пожарником. – Лицо Сашки приняло землистый оттенок.
– Забирай свой портрет, и чтоб больше никто его нигде не видел. Ясно?!
– Товарищ начальник, я его три месяца рисовал, куда же мне его девать теперь?
– А это уж я не знаю, куда ты его денешь. А вот куда тебя за эти выходки деть – это я еще подумаю. – Кирбай посмотрел на Матюшкина. – А вам, товарищ заведующий клубом, пора знать, кому можно заказывать портреты для общественных мест.
– Вы понимаете, товарищ майор… – пытался что-то сказать заведующий, но Кирбай его оборвал.
– Я вас понимаю… я все понимаю! Ступайте и думайте головой, а не тем, на чем сидите.
В течение всего разговора Кругляков не проронил ни слова. Он нервно ходил вдоль стены и похрустывал маленькими пухлыми пальцами. На голенищах его начищенных сапог играли солнечные зайчики.
Из кабинета второго секретаря Сашка вышел, как из парной бани. По его раскрасневшемуся лицу бежали ручейки пота. Кирбай еще посмотрит, куда его теперь деть… Он обещал завести дело. «…Патент… Указ Президиума Верховного Совета…» Слова эти ударами ременных бичей хлестали по сердцу, они то обжигали, то леденили мозг.
Матюшкину было неловко. Он знал, что подвел Сашку, а поэтому не смел смотреть ему в глаза. Он сухо попрощался с ним в коридоре райкома и свернул в одну из комнат райисполкома.
Сашка вышел на улицу. Накрапывал редкий крупный дождь. У ворот райисполкомовской конюшни в конском навозе возились ершистые воробьи. Две вороные лошади были привязаны к коновязи. Всхрапывая и пофыркивая нежными губами, они с хрустом жевали овес, засыпанный в корыте.
На деревянных приступках райисполкома сидел Васька Чобот. Поеживаясь от увесистых капель дождя, он втягивал свою сивую голову в худенькие плечи и раскосо смотрел куда-то вдаль, мимо конюшни. Остальные ребятишки разошлись, их разогнал дождь.
– Пойдем, Васек! – услышал Чобот за своей спиной и вздрогнул.
В руках Сашка держал все ту же картину. По лицу его Чобот понял, что случилось что-то неладное.
– Ай не пондравилось, дядя Саша? – огорченно спросил Васька.
– Пойдем, Чобот, домой, а то сейчас дождик сильный начнется.
Домой Сашка возвращался задами. Боязливо озираясь по сторонам, он молил бога только об одном: поменьше бы людей видели его картину. Прибавляя шагу, он слышал, как за спиной его, поскальзываясь на мокром солончаке, семенил босой Чобот.
Всю дорогу оба молчали. А когда дошли до огородов Кудряшовых, то хлынул сильный ливень. Промокли сразу до нитки. На штанах Чобота маслянисто блестели два больших пятна солончаковой грязи, по щекам бежали грязные дождевые подтеки: видно было, что в его волосах хватало пыли.
Портрет Сашка поставил в чулан так, чтоб никто не слышал. Домой заходить сразу не решился: не знал, что сказать матери, когда та спросит, сколько дали денег за картину.
Сашка примостился под навесом, свернул дрожащими пальцами папироску и закурил.
Тут же, рядом, сидел на чурбаке и Чобот. Всей своей незамысловатой душой он понимал, что с картиной стряслась какая-то беда, а какая – никак не мог понять. Он по-собачьи преданно смотрел на Сашку и время от времени шмыгал носом.
– Так вот что, Чобот, начальство сказало, что нет в картине пуклости. Понимаешь – пуклости нету. Плохо мы с тобой над ней поработали.
Васька зашмыгал носом, забегал раскосыми глазами и хрипловато прогудел:
– Я знаю, кто подгадил, это он!
– Кто?
– Учитель. Очкарик…
– Почему ты так думаешь?
– Это он все замечает. Он и про пуклость им сказал. Я его знаю. Он нашу Нюрку заездил.
Нюрка была старшая сестра Чобота, училась в шестом классе.
– Чего же он ее заездил?
– Все на дробях, у ней никак с ответом в задачнике не сходится.
– От матери влетает ей?
– А то думаешь нет? Каждую неделю приходит жалиться. Он у нее классный руководитель. Тятька уже сколько раз отхаживал ее ремнем.
– Ну и как, помогает?
– Все равно дробя с ответом не сходятся. Рихметика не дается.
В этот вечер Васька Чобот почти полдня пролежал в засаде у своего плетня. Лежал до тех пор, пока наконец не подбил палкой молодого петушка учителя.








