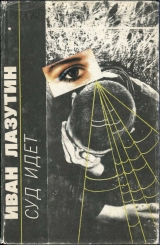
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 35 страниц)
Ольга молчит.
– Так вот, если бы вы сегодня сказали правду о тех казенных деньгах, которые вы брали год назад из кассы универмага, чтобы спасти человека, – суд посмотрел бы на это одними глазами. Вы бы расположили его к себе. Если же вы будете доказывать, что государственные деньги были похищены…
– Почему похищены? – встрепенулась Ольга.
– Да, да, похищены, суд это так и квалифицирует! Нет вам никаких скидок, и нечего вам ждать смягчающих вину обстоятельств. Наоборот, это только будет раздражать членов суда. Подумайте еще раз хорошенько, и вот вам ручка, можете своей рукой внести в протокол допроса все дополнения и исправления. – Богданов пододвинул на край стола протокол и авторучку.
Потупившись, Ольга сидела молча. Что она еще могла добавить? В голове ее все кружилось, и то, что несколько минут перед ней вырисовывалось и осознавалось отчетливо, теперь дробилось и лишалось ясного смысла и значения. Единственным желанием ее было – скорей бы кончался этот нудный допрос, который подтачивал в ней последние силы и все больше и больше пугал ее!
– Пишите же, не будьте наивной! – настаивал Богданов.
– Мне нечего писать. Я уже все сказала.
– Тогда на этом допрос закончен. У вас есть еще время подумать о том, что курортная путевка будет для вас спасительной. Шуба вас погубит.
В камеру Ольга вернулась совсем разбитая. По телу ее проходили токи болезненной слабости, ноги в коленях дрожали. Села на нары так, как в детстве любила сидеть на большой лавке у стены и болтать ногами. Она всеми силами старалась понять одно: правильно ли поступает она или в самом деле губит себя ненужным запирательством? А что, если все рассказать следователю? Ведь и в самом деле – в чем она виновата, если, рискуя, решила помочь попавшему в беду любимому человеку? А потом, неужели Лиля и вправду все рассказала на допросе?
Ольга вздрогнула, когда к ней подошла Софья Стрельникова и положила на ее плечо свою сильную тонкую руку. Она протянула Ольге клочок бумажки, на котором карандашом было написано:
«Я в семнадцатой камере. Чувствую себя хорошо.
О деньгах ничего не знаю. Лиля».
Ольга скомкала записку и прижала ее к груди. Ей было радостно оттого, что даже здесь, в тюрьме, Лиля верна их дружбе и ничем не запятнала ее любовь к Дмитрию. Но тут же, через какую-то минуту, другая волна захлестнула ее разум и сердце. Жалость к себе. К своей несчастной доле, которую до конца понимает и разделяет единственный человек на свете – это Лиля. И снова острый приступ отрешенности от жизни тяжелым камнем навалился на плечи, сдавил грудь. Ольга повалилась на нары и заплакала. Теперь ей было все равно, что ожидает ее: год или десять лет заключения.
Дождавшись, когда приступ рыданий стихнет, Софья Стрельникова подошла к Ольге и потрепала ее за плечо.
– Хватит, хватит… Побереги слезы на будущее, а то выплачешь все сразу, и ничего не останется. Я вот сейчас рада бы поплакать, да не могу, нет их, слез-то.
Ольга, всхлипывая, вытерла рукавом грубого халата слезы и повернула лицо к Софье.
– А ты знаешь, Соня, что я сейчас почувствовала?
– Что, детка?
– Я уверена, что меня скоро выпустят на волю, да еще извинятся передо мной.
– Что ж, это хорошо, если ты так уверена, – отозвалась Софья Стрельникова и о чем-то задумалась. Потом рассеянно проговорила: – Мне тоже кажется, что тебя, Ольга, освободят. Сегодня я верю тебе, что ты ни разу в жизни не украла. Не знаю, почему, но верю… Вчера этого не было, не верила.
В эту минуту на противоположной стене светло-золотистым сполохом вспыхнул разграфленный квадрат: это через тюремную решетку окна из-за облаков хлынуло в камеру весеннее солнце.
Ольга смотрела на косые золотистые квадратики солнца и чувствовала, как в груди ее гулко и учащенно бьется сердце. Даже захватило дух. Вся она в эту минуту была до краев затоплена верой в то, что перед правдой и солнцем не устоят ни мерзкая ложь, ни черные тучи.
– Смотри, смотри, солнце! – восторженно воскликнула она, теребя за рукав Стрельникову.
На щеках Стрельниковой пробился нежный румянец. Она, как и все в камере, зачарованно смотрела на огненную дрожь солнечных зайчиков на стене и ничего не могла сказать.
На нарах перестали играть в карты.
Стрельникова вскинула голову и прислушалась: из соседней камеры доносились металлические стуки. Потом быстро слезла с нар, на ходу вытащила из грудного кармана блокнот с карандашом.
Все в камере замерли, наблюдая, как Софья что-то записывала.
Так продолжалось минут пять. Потом стуки замерли. Стрельникова сняла с ноги ботинок и несколько раз ударила каблуком по водопроводной трубе. И снова обулась.
Повернувшись к нарам, она посмотрела на Ольгу и улыбнулась.
– Тебе. Слушай!
И камера, затаив дыхание, слушала.
Софья Стрельникова читала проникновенно, с расстановкой:
«Милая Оля! Не вешай голову, держись! Правда победит. Мы невиновны. Твоя Лиля».
Ольга приподнялась на нарах. Казалось, что за спиной ее выросли крылья. На глазах стояли слезы.
– Что может быть светлее солнца и сильнее правды! – воскликнула она, прижав к груди руки.
А Стрельникова продолжала нежно, почти по-матерински смотреть на Ольгу. И словно впервые в жизни осененная откровением, она взволнованно проговорила:
– Оля! Ты – как солнышко! Неужели есть еще на земле такие хорошие и чистые люди, как ты?!
А солнечные зайчики, закованные в черные квадраты (тень от решетки), трепетно дрожали и колыхались на стене тюремной камеры.
XXVII
Сообщение из судебно-психиатрического института во многом изменило ход расследования. Квалифицированная экспертная комиссия известных в стране психиатров вынесла заключение о том, что Баранов Константин Михайлович – психически здоровый человек, что в результате всестороннего клинического обследования установлено: его поведение представляет собой сложную форму чистой симуляции с целью избежания наказания за совершенное преступление.
Это сообщение насторожило прокурора Богданова, который был почти уверен, что душевная болезнь Баранова во многом облегчает участь Анурова, Фридмана и Шарапова, действия которых были подведены под статью о спекуляции. Теперь же многое зависело от того, как себя поведет на допросах Баранов. Возьмет ли он на себя ответственность за половинную долю хищения, станет ли Баранов тем козлом отпущения, каким его представили в своих показаниях Ануров, Фридман и Шарапов.
Обо всем этом и предстояло узнать Бардюкову, который приехал в Таганскую тюрьму, куда был переведен Баранов сразу же после экспертной комиссии.
Познакомившись с дневниковыми записями и «научным» трудом Баранова, а также с показаниями свидетелей, Бардюков представлял себе, какие нужно иметь нервы и самообладание, чтобы так долго выдерживать эту тяжелую игру.
Жалко было ему Шадрина, который по независящим от него обстоятельствам оказался отстраненным от дела в самый острый и, пожалуй, решающий этап расследования. Он напомнил ему солдата, который с боями прошел от Волги до Одера и, раненный на подступах к Берлину, не увидел красного знамени, развевающегося над рейхстагом. Знал также Бардюков, что если бы не Шадрин, если бы не его протест и требование направить Баранова на повторную судебно-психиатрическую экспертизу, – все кончилось бы по-другому.
Где-то в глубине души Бардюкову было досадно: как это он, опытный оперативный зубр, не мог заподозрить Баранова в симуляции, а Шадрин, всего-навсего только делающий первые шаги в следственной работе, пошел против мнения прокурора и размотал эту запутанную пряжу тонкой барановской игры!
Он ходил по следственной комнате и курил. Время от времени бросал взгляд на Баранова, который сидел за столом и писал.
Когда Баранов положил ручку и поднял на следователя свои глубокие печальные глаза, Бардюков спросил:
– Все?
– Кажется, все. Разрешите закурить, гражданин следователь?
Бардюков протянул Баранову папиросы. Закуривая, тот еще раз пробежал взглядом последнюю страницу протокола допроса.
– Что упустил – спросите.
Бардюков стал читать листы, исписанные твердым, устоявшимся почерком.
«Сейчас, когда продолжать игру уже не имеет смысла, считаю необходимым сообщить органам расследования, что симуляция психического заболевания готовилась мною еще задолго до того, как наша четверка очутилась лицом к лицу с Уголовным кодексом. Для этой цели пришлось основательно проштудировать научные труды основоположников русской психиатрии Корсакова и Сербского, а также познакомиться с работами зарубежных ученых. Большим подспорьем оказались несколько сборников «Проблем судебной психиатрии», вышедших в том самом институте, где мне в течение месяца пришлось играть тяжелую, мучительную роль.
В результате долгих «бдений» в Ленинской библиотеке мною была избрана одна из сложнейших форм чистой симуляции – симуляция сюрсимуляции шизофреника. Так как всякое психическое притворство есть «индивидуальное» творчество, то я вынужден был разработать определенную линию поведения, которая смогла бы логично объяснить преступный характер моей деятельности.
Для того чтобы игра казалась правдоподобной, я сознательно взвалил на свои плечи большую долю вины в «работе» четверки. В самом же деле было все по-другому. Мое долевое участие в дележе добычи было скромное: я получал свою законную четвертую часть. Одна четвертая приходилась на долю Фридмана и Шарапова. Твердую половину получал Ануров. Так было всегда.
Поверив психиатрам Морелю, Тардье, Иванову и Клинебергеру, которые утверждали, что часто симуляция бывает успешной, я решил испытать свою выдержку и волю. Но, пускаясь в это опасное предприятие, я не представлял себе до конца, каких сил и нечеловеческого напряжения все это будет стоить. Не зря говорил Крафт-Эбинг, что симулянт является одновременно и актером и импровизатором, что он играет без отдыха, ни на минуту не сходя со сцены, при постоянном наблюдении. Причем зрителями его являются не профаны, а специалисты.
Только теперь вижу, на сколько голов выше своих иностранных коллег стоял наш гениальный соотечественник Сербский, считавший, что у здорового человека не хватит постоянного напряжения всего организма для изображения новой личности, которая спит, ест, двигается, думает, чувствует и поступает совсем не так, как до болезни. Теперь мне понятно, почему француз Шюле за всю свою психиатрическую практику не наблюдал ни одного случая успешной симуляции.
Избрав сложную форму игры, я вынужден был изо всех сил выдерживать единый «стиль». А это мучительно трудно. Были минуты, когда мне казалось, что я и в самом деле схожу с ума. Это были ужасные минуты. Психиатрия это называет «соскользнуть» в более глубокие свои личности, где за притворством начинается действительная душевная болезнь.
Долгое время мне удавалось держать в тупике наших психиатров, но вся беда в том, что диагностика душевных заболеваний зависит не только от «чистого» поведения «актеров», но и от других, не зависящих от его воли функций организма. Я достиг того, что победил реакцию на боль. Я не подавал малейших признаков ощущения, когда кололи иглой. Но мои зрачки предательски реагировали на свет и темноту. Это было первое, что путало все мои карты.
Генсеналовый наркоз был второй подножкой в игре. Перед внутривенным вливанием я никак не мог победить страха, неестественно смеялся, уходил от ряда нежелательных вопросов. Я знал заранее, что в состоянии генсеналового опьянения я уже не буду руководить своими поступками, не в силах буду демонстрировать дефект мышления, что свойственно в этом состоянии душевнобольным.
По поводу моего «заболевания» в институте состоялась научная конференция. Она проходила в конференц-зале. Собралось множество врачей, доцентов, профессоров, председательствовал (как я узнал об этом позже) старый академик. И здесь многих удалось запутать. Может быть, до конца бы провел свою роль, если бы не профессор Введенская (фамилию ее узнал тоже только вчера, больные знают медицинский персонал только по имени и отчеству). Во время наших встреч она всегда ставила меня в такие неожиданные ситуации, что мне приходилось трудно. А на конференции она убедила тех своих легковерных коллег, которые видели в моем поведении определенную логику шизоидной личности.
Последним ударом был приход следователя. Записки мои он нашел на даче, на чердаке. Если бы не эти записки, может быть, со мной еще долго бы повозились. Но записи облегчили их работу. Шпионаж медперсонала усилился вдвойне.
Перевод в инсулиновую палату мог быть заключительным звеном в этом тяжелом кошмаре. Испытать на себе инсулиновые шоки – это не самое приятное ощущение. Да и зачем, когда всем уже было все ясно. Пришлось во всем признаться. В этот же день была комиссия».
Закончив читать, Бардюков положил протокол допроса и сел за стол.
– Вы написали о пребывании в больнице. Теперь расскажите, пожалуйста, гражданин Баранов, с какого момента начала действовать ваша «четверка?..
XXVIII
Секретарша беззвучно вошла в кабинет начальника следственного отдела Варламова и положила на его стол распечатанное письмо.
– Что это?
– Тоже по делу Анурова и Баранова.
Варламов развернул письмо.
«Прокурору города Москвы от следователя прокуратуры Н-ского района г. Москвы Шадрина Д. Г.
РАПОРТ
Считаю необходимым довести до Вашего сведения, что в ходе расследования преступных действий граждан Анурова, Баранова, Фридмана и Шарапова следствием установлено:
1) Сумма хищений государственной собственности, совершенных гражданами Ануровым, Барановым, Шараповым и Фридманом, превышает миллион рублей (см. заключение бухгалтерской экспертизы, лист дела 103).
2) Пытаясь уйти от наказания, подследственный Баранов в течение месяца симулировал душевную болезнь. Симуляция была вызвана также тем, чтобы, взвалив на себя большую долю вины в совершенном преступлении, тем самым облегчить положение обвиняемых Анурова, Шарапова и Фридмана (см. заключение экспертной комиссии института судебной психиатрии, лист дела 119).
3) Подследственный Ануров является родственником (по линии жены) прокурора района тов. Богданова. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР, расследование преступных деяний гражд. Анурова в прокуратуре, где прокурором его родственник, как известно, исключено. И, чтобы смягчить обвинение гражданина Анурова, прокурор Богданов толкал меня на ложную квалификацию преступления.
4) Гражданки Школьникова О. Г. и Мерцалова Л. П. под стражу заключены необоснованно. Причиной их ареста являются голословные, не подкрепленные фактами, ложные показания Анурова, Шарапова и Фридмана. На мой взгляд, здесь имеет место оговор.
Эти обстоятельства вынудили меня обратиться к Вам, как к прокурору города, с просьбой, во избежание нарушения закона изъять дело из производства прокуратуры Н-ского района и поручить дело Анурова, Баранова, Фридмана и Шарапова следователю прокуратуры города Москвы.
Д. Шадрин»
На рапорте Шадрина стояла резолюция прокурора города:
«Начальнику следственного отдела тов. Варламову.
Принять дело к производству».
Варламов на минуту задумался, потом отложил рапорт Шадрина в сторону и решил еще раз перечитать письмо, которое пришло вчера из Прокуратуры СССР. Письмо было адресовано на имя Генерального прокурора.
«…Обращаюсь к Вам, как депутат Верховного Совета СССР, как коммунист с тридцатилетним стажем, наконец, ставлю на карту свой авторитет ученого и прошу о единственном: чтобы органы расследования объективно и справедливо разобрались в степени виновности моей внучки Мерцаловой Лилианы Петровны, которая в данное время содержится под стражей в Таганской тюрьме.
Ее привлечение к уголовной ответственности и арест считаю грубейшим произволом прокурора Н-ского района г. Москвы.
До окончательного расследования уголовного дела прошу под мое личное гражданское и депутатское ручательство освободить из-под стражи Мерцалову Л. П., ограничившись подпиской о ее невыезде.
Г. Батурлинов».
В левом верхнем углу заявления стояла резолюция начальника следственного управления Прокуратуры Союза ССР:
«Прокурору города Москвы.
Прошу разобрать и принять соответствующие меры.
Жалобу возьмите на особый контроль. О результатах доложить лично мне».
«Да, – подумал Варламов, вспоминая тот день, когда он был членом комиссии по распределению молодых специалистов, окончивших юридический факультет университета. Он хорошо помнил, как ему пришлось отстаивать Шадрина, которого один из членов комиссии уговаривал идти работать в Моссовет. – Не повезло тебе, молодой человек! Не повезло… Это было заметно и на партийном собрании, где тебя крыл помощник Богданова. Таким твердым и упорным в наше время иногда бывает трудно бороться за истинную законность. Но ничего, за такими, как ты, Шадрин, – будущее. На таких, как ты, можно опираться».
Варламов не заметил, как в кабинет вошла секретарша. Это была уже немолодая женщина, которая за свой долгий секретарский век в городской прокуратуре повидала немало слез посетителей. Может быть, поэтому так глубоко вкралась в ее темные глаза холодная серая грусть. Может быть, поэтому она не походила на тех классических, размалеванных и модных секретарш, которых часто рисуют в «Крокодиле», ставя их на одну грань со стилягами. Эта умела молчать. Вернее, ее научили молчать. И учителями были годы, люди, обстоятельства. Она ждала, когда прокурор кончит писать.
Варламов поднял взгляд на секретаршу.
– К вам посетитель.
– Кто?
– Врач Струмилин. Он по делу гражданки Мерцаловой, она содержится в Таганской тюрьме.
– Просите.
Секретарша вышла, и через минуту в кабинет вошел Струмилин. В руках он держал вдвое свернутый лист бумаги.
– Проходите, пожалуйста. Садитесь.
Струмилин сел.
– Что вас привело ко мне?
Струмилин волновался. Рассказывал он сбивчиво, время от времени вытирая платком со лба пот. Когда закончил и положил перед Варламовым жалобу, тот, горько улыбаясь, вздохнул.
– Вы уже третий ходатай по этому делу, товарищ Струмилин. Ваша просьба вполне законна. И я думаю: в чем не разобрались в районной прокуратуре, разберутся в городской. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать вам. Если у вас будут какие-либо сообщения по делу Мерцаловой, пройдите к старшему следователю Гаврилову. Он будет вести это дело.
Голос Струмилина от напряжения дрожал:
– Так, значит… Так, значит, дело Мерцаловой будет передано в городскую прокуратуру?
– Да, – твердо ответил Варламов и встал, давая понять, что больше он ничего не может сказать Струмилину.
XXIX
Над Сокольниками шумела весна. Апрель выдался теплый, солнечный. От распускающихся деревьев веяло земляным настоем. Почки тополей набухли. Разотри пальцами такую почку – и на тебя пахнет сладковатый, слегка дурманящий запах тополиной смолки.
Ольга и Лиля сидели на скамейке пустынной окраины парка и молчали. Им было приятно даже молчать, подставив теплым лучам солнца исхудавшие побледневшие лица. Со стороны можно было подумать, что на прогулку вышли только что поднявшиеся с постелей больные.
За оградой парка пригрелся на солнцепеке старенький Ольгин дом.
Если бы Ольгу сейчас попросили подробно рассказать, как везли ее вместе с Лилей на суд, о чем спрашивали судьи и адвокаты, что отвечала она на их вопросы, как защищали ее свидетели – продавцы магазина, то вряд ли она смогла бы это сделать. Как во сне, выслушала она приговор.
Фридману, Шарапову и Баранову суд вынес суровое наказание – каждому по пятнадцать лет лишения свободы, с полной конфискацией имущества. Анурову дали двадцать лет. Ольга и Лиля судом были оправданы.
После десятидневного тюремного заключения Ольга и Лиля почувствовали, что вернулись снова к жизни.
Нет больше рядом рябой вульгарной толстухи, нет воровки Софьи Стрельниковой, нет рядом Райки Шмыревой и Кудели. Нет той тюремной неуемной тоски, которая гнетет даже во сне. Свобода!..
А ведь всего два дня назад, выйдя из зала суда, Ольга уронила голову на плечо матери и рыдала, как девочка, которая в суете вокзала чужого города отстала от родителей, а потом, пережив все ужасы разлуки, снова встретилась с родными. Плакала и Серафима Ивановна. Только слезы ее были тихие, безрадостные, они исходили из глубины многострадального сердца, которое в жизни хлебнуло много горя. И, казалось, вряд ли хватит его на одно такое испытание.
Но все это позади. Впереди – весна, институт, работа, друзья… Только недавно узнала Ольга, что подруги по работе подавали петицию прокурору Богданову и через комсомольскую организацию настаивали на том, чтоб Лилю и Ольгу освободили из-под стражи.
На работе к Ольге и Лиле все относились сочувственно. И все-таки на душе было неспокойно, томило смутное предчувствие.
Так дождевые воды незаметно, но необоримо упорно разъедают железный обруч, на котором глубокой царапиной сбита полуда. Вначале на месте царапины заметна неглубокая рыжая бороздка, потом она походит на продолговатую язву с иссеченными краями, потом… Тут уже все зависит от времени. Когда ржа переточит обруч – бочка рассыпается.
Такой же кровоточащей царапиной легла на сердце Ольги дума о Дмитрии. «Что с ним? Почему он не показывается? Неужели ему теперь зазорно встретиться с подсудимой?» Эти мысли все чаще и чаще омрачали ее просветлевшее лицо. Но тут же успокаивала себя: «Он не такой. Не может он поступить так жестоко…»
Лиля, словно прочитав ее мысли, спросила:
– Соскучилась?
Ольга вздохнула.
– Разве таким словом передашь это чувство? «Соскучилась» – это совсем не то. А ты как, Лиля?
– Что я? У меня совсем другое дело. Он меня не любит.
– Не любит? А в тюрьму приходил, прощения просил, говорил, что любит?
– Это он успокаивал. Он добрый и порядочный человек. Его любовь унесла с собой в могилу жена.
После некоторого молчания Лиля подняла воротник и зябко поежилась.
– А если он сегодня к тебе не придет? Если не придет и завтра и послезавтра? – спросила Лиля.
То, чего больше всего боялась Ольга в своих беспокойных и смутных догадках, Лилей теперь было поставлено в упор. Эта прямота одновременно и испугала Ольгу, и придала ее ответу решимость.
– Я не сделаю шага, если он не придет даже через полгода! Я никогда к нему не приду первая!
– Ты неправа, Оля. За любовь нужно бороться. Ее добывают с боями. В ней есть свои атаки, свои безымянные высоты, свои победы и поражения… Бывают даже временные отступления.
– Я не понимаю тебя, – тихо сказала Ольга. – По-твоему, если Дмитрий меня разлюбил, то, значит, я должна преследовать его? Кидаться ему на шею и навязывать себя?
– Не так, не то ты говоришь… – Лиля закрыла глаза. Лицо ее приняло страдальческий, болезненный вид. – Ты поняла меня огрубленно, прямолинейно. А я хотела сказать другое.
– Как же тебя понимать?
– Для счастья нет общих рецептов. Сколько судеб – столько вариантов любви и страданий. Но есть один, общий и, я бы сказала, своего рода универсальный закон.
– Какой?
– За счастье свое нужно бороться.
– Как? – взволнованно спросила Ольга, потянувшись к Лиле. – Как бороться?
Лиля тихо ответила:
– Это тебе подскажет твое сердце. – И, несколько помолчав, она, не шелохнувшись, продолжала: – Знаешь, Оля, в жизни часто любят за любовь.
– За любовь?
– Да, представь себе – за любовь. Я уверена, что Струмилин меня полюбит. Я это чувствую. – Горделиво подняв голову, она, как вызов, бросила куда-то далеко-далеко, туда, где над Сокольниками невесомо плыли холодные облака: – Я этого хочу! Во имя этого я пойду наперекор глупым условностям нашего века.
Ольга вопросительно посмотрела на Лилю, и Лиля поняла значение этого взгляда.
– Я буду у него на побегушках, я заменю ему няню, когда он будет болен, я буду его другом, женой, матерью его ребенка. Все это я буду делать для него, потому что он – самый близкий, самый дорогой мне человек! И в этом служении есть уже наслаждение и счастье.
– А мне? Как же быть мне? – Ольга, словно чего-то испугавшись, смотрела на Лилю.
– Не знаю. В таких вещах советов не дают. Еще раз говорю тебе: поступай так, как подскажет сердце. Видишь, Оля, мы по-разному воспитаны, я старше тебя и потом… В любви к Струмилину я познала то, что тебе еще не дано узнать. – И словно пожалев, что сказала лишнее, Лиля привстала со скамейки. – Пойдем к тебе, обогреемся, и я пойду домой. С дедушкой что-то совсем плохо, последние дни он не встает.
Подруги молча направились к выходу из парка. Веснушчатый мальчишка, который, размахивая школьной сумкой, только что прошел мимо их лавочки, бросил в лужу кусок черствой булки и остановился посреди дороги, залюбовавшись дотошными воробьями, которые, купаясь в луже, дрались из-за хлеба. Чтобы не спугнуть воробьев, Лиля и Ольга обошли лужицу.
Через несколько минут они были дома. Лиля не переставала ознобно ежиться. Прижавшись спиной к голландской печке, она закурила. Серафимы Ивановны дома не было.
На стене размеренно и по-домашнему уютно тикали ходики. Рядом с ними, в простенке между окнами, в стареньких фанерных рамках рядком висели Ольгины пожелтевшие похвальные грамоты школьных лет, фотографии родственников и близких. На длинном гвозде рядом с пузатым календарем были нанизаны квитанции за квартирную плату. Все в этой небольшой чистой комнатке дышало тихой бедностью и непритязательным уютом.
Стук в дверь заставил Ольгу и Лилю вздрогнуть. Нехороший, тревожный стук. Так не стучатся соседи, которые идут за спичками или разменять десятку. Так не стучится почтальон.
Ольга вышла в сенки, и через минуту вслед за ней в комнату вошла пожилая рыхлая женщина с беспокойными, испуганными глазами. Одета она была на скорую руку в фуфайке, видимо, торопилась. Лицо вошедшей Ольге показалось очень знакомым, но в первую минуту она растерялась и никак не могла припомнить, где же она видела эту женщину?
– Вы будете Ольга?
– Я.
– Я к вам от Шадрина, от Дмитрия Георгиевича, от жильца моего…
– Да, я вас слушаю… – Последнее слово Ольга произнесла почти шепотом.
– Подметала пол я и нашла у него под кроватью вот это письмо, наверно, упало из-под подушки. Читаю адрес, вижу, живем совсем рядом. Вот и решила побечь к вам.
– Что случилось? – В глазах Ольги заметалось недоброе предчувствие беды.
– Дня четыре вроде бы лежал ничего. Вызывала я к нему доктора, прописал он ему лекарства, не знаю, пил ли он их или нет… А сегодня с самого утра бредит. Все Ольгу поминает. Я глянула на конверт, тоже Ольга, и адрес ваш написан…
У Ольги перехватило дыхание. Не слушая дальше старуху, которая говорила о том, что потратила целый рубль на телефонные звонки, она разорвала конверт.
«Дорогая Оля!
Если из этой атаки не вернусь живым и здоровым, значит, так тому и быть. Я очень и очень болен. Матери тогда напиши письмо. Люблю тебя, моя милая… Люблю. Мне тяжело.
Твой Дмитрий».
Письмо было датировано вчерашним числом.
Вряд ли Ольга так заметалась бы по комнате, если ей сказали бы в эту минуту, что горит их дом. Она сорвала с вешалки пальто и никак не могла попасть в рукав. «А я… А я-то!..» – укоряла она себя мысленно.
– Лиля, бежим! Это совсем близко!..
Лиля на ходу набросила на плечи пальто и кинулась следом за Ольгой. До переулка, в котором жил Дмитрий Шадрин, было две трамвайные остановки. Но девушки не стали дожидаться трамвая и прямо через питомник, кратчайшим путем, побежали мимо изгороди из колючей проволоки.
Шадрина они нашли в нетопленой комнате. Он лежал без сознания и время от времени полушепотом что-то невнятно произносил. Лиля взяла руку больного.
– У него высокая температура. Пульс учащенный. Нужно немедленно везти в больницу.
– Лилечка… Прошу тебя, вызови «Скорую помощь». Телефон-автомат на углу переулка…
Лиля выбежала из комнаты.
Дмитрий по-прежнему лежал без сознания.
Ольга встала на колени перед его кроватью. С трудом сдерживая рыдания, она целовала его горячие руки. Русые волосы Дмитрия крупными волнами разметались по взбитой подушке, щеки и лоб полыхали.
«Скорая помощь» пришла быстро. Пожилой врач подошел к кровати и, взяв руку больного, стал прощупывать пульс. Взгляд его бродил по отсыревшим стенам, по сетям седой паутины, которая развесилась под потолком в углу.
– Носилки.
Дмитрия положили на носилки и вынесли во двор, а через несколько минут «Скорая помощь» неслась уже по улицам Москвы. Ольга сидела в машине рядом с носилками и время от времени прикладывала прохладную ладонь ко лбу Дмитрия. Сознание к больному не возвращалось.
Губы Ольги слипались, во рту сохло от какого-то внутреннего жара, который пробегал по спине холодком нервного озноба.
Она полезла в карман и наткнулась на сложенный вчетверо лист бумаги, который подобрала на полу рядом с кроватью Шадрина. Почерк был неровный, некоторые слова она разбирала с трудом.
«Прокурору Н-ского района г. Москвы, тов. Богданову.
Объяснительная записка
На ваше требование письменно объяснить «антипартийное», «провокационное» (так выразились вы) поведение в родном селе во время моего отпуска считаю необходимым сообщить, что поступил так, как подсказал мне долг коммуниста. Если случится снова быть свидетелем таких позорных нарушений элементарных норм революционной законности – я поступлю точно так же.
На ваше требование объяснить, почему я в анкете при поступлении на работу не указал статьи, по которой был репрессирован мой дядя, ответить могу кратко…»
Ольга не могла читать дальше.
«Что же это такое?! Неужели новая беда?..»








