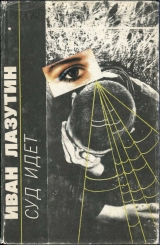
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 35 страниц)
VIII
«Неужели она сегодня не придет? – думал Шадрин. – Нет, придет. Она уже, наверное, не раз была, да не пустили».
Дмитрий успокаивал себя, а сам все-таки волновался. Уже десять дней, как он не виделся с Ольгой, десять дней, как ему не разрешали не только подниматься с постели, но даже сидеть.
Повернув голову к окну, Дмитрий остановил взгляд на сосульке, висевшей на карнизе железной крыши одноэтажного кирпичного домика, стоявшего под окнами хирургического корпуса. К белой сосульке примерз желтый кленовый лист. На темной ветке голого клена, нахохлившись, подпрыгивал воробей.
При виде кленового листа и юркого воробья радостное чувство охватывало сильнее и сильнее.
В палату вернулся Федя Бабкин. Он накурился так, что от него разило табачным перегаром, когда он еще только показался в дверях. Лева Лучанский, чтобы заглушить волной хлынувший в его сторону табачный запах, поднес к носу надушенный платок и умиротворенно, с видом великомученика, закрыл глаза.
– По-о ваго-о-нам! – Протяжный крик Бабкина прозвучал, как военная команда. Пустая штанина его пижамы отдувалась назад, когда он, опираясь на костыли, шел к койке. Сел на постель и подал губами сигнал, каким горнист военного эшелона извещает отправление.
Кто знаком с теплушкой военных лет, тот никогда в жизни не забудет тревожный, зовущий вперед трубный клич военного горниста. В этом кличе воедино слились и неизвестность грядущего, и тревога за все, что до боли близко и дорого сердцу. Есть в этом зове эшелонного полкового горниста что-то от сигнала: «В атаку!»
Ольга появилась в дверях неожиданно. Застыв на месте, она хотела что-то сказать и не могла. Но это были секунды. Прижимая к груди сверточек, она тихо подошла к койке Шадрина.
– Здравствуй, Митя! – В голосе ее звучало больше обеспокоенности, чем радости: так велико было ее волнение.
Чувствуя на себе взгляды Лучанского и Бабкина, она в первые минуты не знала, о чем говорить и как вести себя.
– Присаживайся, – Дмитрий взглядом показал на постель.
Ольга положила сверток на тумбочку и осторожно присела на кончик стула, стоявшего рядом с койкой.
В груди каждого теснилось столько невысказанной нежности! Но беззастенчивый взгляд Лучанского смущал Ольгу.
Федя оказался догадливее и скромнее. Уткнувшись в книгу, он отвернулся лицом к стене.
– Как себя чувствуешь? – тихо спросила Ольга, не переставая ощущать на себе откровенно-любопытный взгляд Лучанского.
– Хорошо, спасибо, – ответил Дмитрий и мысленно, взглядом, послал в сторону Лучанского упрек: «Бессовестный! Что же ты уставился, как баран на новые ворота?!»
– Как кормят?
– Хватает.
– Ну, а вообще… тебе уже лучше? – Скользнув взглядом по сторонам, Ольга снова наткнулась на грустные глаза Лучанского и почувствовала еще большую неловкость. – Тебе передает привет мама. Она для тебя даже кое-что испекла.
Дмитрий взял руку Ольги и поднес к губам.
– Я счастлив… – проговорил он еле слышно. – Я так соскучился по тебе, будто не видел целую вечность.
Плечи и грудь Дмитрия были еще забинтованы. На белоснежном фоне бинтов и подушки темные густые брови казались черными. Даже серые глаза и те словно потемнели за десять больничных дней. Дмитрий молчал. Во взгляде его Ольга читала то, о чем он хотел сказать ей.
Прохладные руки Ольги пахли талым снегом, ветром.
– Замерзла?
– Нисколько.
– Ты все ее модничаешь в ботинках? Почему не надела валенки?
– Они подшитые. – Ольга смущенно покраснела и поднесла к своей холодной щеке руку Дмитрия. – Чтобы все дорогой надо мной смеялись?
– Глупая ты, разве можно над тобой смеяться?
– Разве нельзя?
– У меня что-то не получается.
Вспомнив, что в палате он не один, Дмитрий правой рукой притянул к себе Ольгу поближе и сделал жест, которым дал знать, чтобы она наклонилась. Он хотел сказать ей что-то очень важное, личное.
Ольга наклонилась. Дмитрий слегка обнял ее за шею и беззвучно поцеловал в холодную щеку.
– Тебе нельзя двигаться и волноваться… – Ольга осторожно сняла со своего плеча руку Дмитрия, привстала и, пододвинув к койке стул, поглубже села в него. С минуту оба молчали. Они даже не заметили, как у кровати Феди и Лучанского оказались родственники в белых халатах.
Когда же Ольга принялась рассказывать Дмитрию о своих делах на работе и в институте, в палату вошла тетя Варя и сказала, что время Ольги истекло, что к больному Шадрину хотят пройти другие посетители.
– Наверное, с факультета? – спросила Ольга.
– Наверное, – тихо ответил Дмитрий. – Вот уже четвертый день друзья осаждают врачей. Звонят в день раз по двадцать. Даже решили шефство надо мной установить.
Через минуту после ухода няни Ольга попрощалась с Дмитрием и уже собралась уходить, как дверь в палату открылась и из-за нее высунулась детская стриженая головка. Краснощекий веснушчатый мальчуган кого-то отыскивал взглядом.
– Тебе кого, малыш? – спросил Федя.
– Мы к Шадрину, Дмитрию Егоровичу.
– Ну, заходи, заходи, чего застрял в дверях? – подбадривал мальчика Федя Бабкин.
Вслед за мальчиком в палату нерешительно вошла девочка. В длинных, достающих до пола белых халатах они выглядели смешно. Мальчуган в руках держал пакет. Девочка прижимала к груди конверт, подписанный крупными буквами.
Ольга сразу же узнала вошедших. Это были воспитанники детского дома Ваня и Нина, с которыми она познакомилась десять дней назад, в день операции Шадрина.
Ольга почти подбежала к детям и расцеловала их в холодные румяные щеки.
Дмитрий ничего не понимал. Удивленно переводя взгляд то на малышей, то на Ольгу, он думал, что вышло какое-то недоразумение. Но недоумение его рассеялось после того, как мальчуган положил на тумбочку сверток с гостинцами, а девочка подала ему конверт с надписью: «Д. Е. Шадрину. От третьего звена пионерского отряда детского дома № 12».
Дрожащими пальцами Дмитрий разорвал конверт, на котором старательным детским почерком была выведена его фамилия. В конверте лежало письмо:
«Дорогой Дмитрий Егорович!
Мы, пионеры третьего звена, желаем вам скорейшего выздоровления. Как бывшему фронтовику, обещаем вам хорошо учиться и примерно вести себя.
Посылаем вам:
1) один лимон,
2) две пачки печенья,
3) сто граммов сливочного масла,
4) триста граммов вяземских пряников.
Кушайте лучше и скорее поправляйтесь. Если с вами лежит кто-нибудь из фронтовиков, поделитесь нашей посылкой поровну. Снегурку, что стоит под вашим окном, мы слепили для вас. Когда выпадет еще снег, слепим и деда-мороза.
С приветом – Пионеры третьего звена».
Ниже стояло больше десятка подписей.
На глазах у Дмитрия навернулись слезы. К горлу подкатилось что-то горячее. Не помнил он, когда плакал последний раз, но тут не сдержался. Дмитрий почувствовал, как скатившиеся по щекам слезы нырнули под бинты. Ольга тоже отвернулась к окну. Пионеры в замешательстве стояли и переступали с ноги на ногу. При виде слез Ольги зашмыгала носом и Ниночка. Ваня нахмурил лоб и изо всех сил крепился, чтобы не разреветься.
– Оля, ты видишь из окна снегурку? – спросил Дмитрий.
– Вижу… – стирая с глаз слезы, ответила Ольга. Она смотрела в окно на детдомовский дворик, где с ледяной горки катались дети.
«Я совсем забыла сказать ему про снегурку. А ведь надоумила сама ребят», – подумала Ольга, и ей стало обидно за свое невнимание к детям.
– Помоги мне подняться, я посмотрю на снегурку. Только осторожней, чтоб не видели сестры. – Дмитрий попытался опереться на локти, чтобы хоть чуточку приподняться, но острая боль в груди резанула так, что он тут же рухнул на подушки и, стиснув зубы, подавил стон.
– Что ты делаешь? – испуганно прошептала Ольга, не зная, чем помочь Дмитрию.
Некоторое время Шадрин лежал молча, с закрытыми глазами. Так было легче. На лбу выступили мелкие капли холодного пота, и только потом, когда боль стала утихать, он приоткрыл глаза и, встретившись взглядом с Ваней, вяло улыбнулся.
– Спасибо, ребята!
Время посещения кончилось. В палате остались одни больные. Дмитрий снова перечитал, – на этот раз стараясь запомнить каждую фразу, – письмо пионеров. Захотелось курить.
– Федя, дай папироску.
Бабкин знал, что курить Шадрину врачи запретили строго-настрого. Но при виде его увлажненных глаз он не посмел отказать. Жестом показав на Лучанского (жест этот означал: «Не продаст?»), который лежал лицом к стене, Бабкин украдкой подошел к койке Дмитрия, размял папиросу и подал ее Шадрину. Потом громко раскашлялся, чтобы заглушить шипение зажженной спички.
После нескольких глубоких затяжек Дмитрий почувствовал, как по телу стало расплываться что-то теплое, приятное. Слегка кружилась голова. Но это уже были волны новых сил, приливы жизни.
Сделав еще затяжку, Шадрин посмотрел в окно. Через него в палату врывался сноп яркого зимнего солнца.
На сосульке, висевшей на карнизе железной крыши, по-прежнему золотым слитком горел примерзший кленовый лист.
«Какая красотища! Как чертовски здорово жить!»
Широко разбросав руки, Дмитрий лежал и улыбался. Все, что он видел: стены, солнце, мороз за окном, Лучанский, тетя Варя… – все это была жизнь.
IX
Ольга сидела в приемной профкома университета и мысленно сочиняла предстоящий разговор с председателем, который в течение часа несколько раз зачем-то выходил из кабинета и, не глядя на посетителей, ожидавших его, старался боком, незамеченным, прошмыгнуть мимо.
Через широкое оттаявшее окно был хорошо виден университетский двор. На улице стояла мартовская оттепель. С железных крыш, на которых грязноватыми островками серел крупчатый снег, свисали длинные сосульки. С них равномерно срывались крупные капли. Женщина в белом фартуке, забравшись по пожарной лестнице под самую крышу, одной рукой держалась за перекладину, другой – в ней была зажата метла – старалась сбить длинную тяжелую сосульку.
«Какая смелая! И ведь не боится!» – подумала Ольга, наблюдая за ловкими взмахами руки уже немолодой женщины.
Долго возилась дворничиха с сосулькой, наконец изловчилась и сбила ее. Ольга даже почувствовала внутреннее облегчение, словно не дворничиха, а она сама, неловко изогнувшись, стояла на перекладине лестницы под крышей пятиэтажного дома.
Игравшие неподалеку дети, притаившись, наблюдали за дворничихой. И как только они увидели, что с крыши сорвалась тяжелая сосулька, тут же кинулись со всех ног к месту, куда она должна упасть.
Сосулька с хрустом, в мелкие дребезги, разбилась об асфальт.
Ольга достала из сумочки бумажку от главного врача больницы и еще раз перечитала:
«В профсоюзную организацию Московского государственного университета.
Врачебная контрольная комиссия Н-ской градской больницы для продолжения лечения больного Шадрина, перенесшего тяжелую операцию, считает необходимым направить его в один из санаториев Кисловодского курорта, с чем и обращается в профсоюзную организацию университета, членом которой состоит больной Шадрин.
Главный врач больницы Федоров».
Председателем профкома был белобрысый грузный мужчина, с маленькими голубыми глазками и выцветшими, как мочалки, бровями. Прочитав бумажку, которую Ольга положила перед ним на стол, он зачем-то, вытянув шею, взглянул в окно, почесал затылок и многозначительно помолчал. Потом, словно что-то решая про себя, пробарабанил пальцами по столу и отодвинул бумажку в левую сторону, где она сразу же затерялась в груде точно таких же бумаг.
– Знаем, знаем о Шадрине. Уже и звонили, и приходили из факультетского профкома. Вот тут есть даже отношение деканата и партийной организации. – В кипе документов председатель отыскал нужную бумажку и, беззвучно шевеля губами, прочитал ее, потом поднял на Ольгу свои остренькие, глубоко спрятанные глаза, взгляд которых оставался по-прежнему непроницаем. – Что будет к лету – посмотрим. А сейчас путевок нет. За первый квартал этого года… Да что там первый – за добрую половину второго квартала мы уже исчерпали все возможности.
Перед носом председателя затрещал телефон. Он взял трубку. Слушая его разговор о трех машинах картофеля, который был послан подшефным колхозом в студенческую столовую, Ольга наблюдала за простоватым лицом председателя, и в этой видимой простоте прочитала неприятно хитроватое, мелочное. «Он и форму-то военную носит, наверное, для того, чтобы играть в демократию, мол, фронтовик…» – подумала Ольга, наблюдая, как бесцветные тонкие губы председателя сошлись в озабоченном морщинистом узелке. Что-то скорбно-бабье было в складках его губ.
Председатель положил трубку и, словно не замечая посетительницу, уже собрался уходить из кабинета. Ольга привстала и загородила ему дорогу.
– Товарищ Фоменко, студент Шадрин только что перенес тяжелую операцию. Он инвалид Отечественной войны. У него восемь правительственных наград! Неужели вы не можете ему помочь?
– Вот, смотрите! – Председатель положил широкую ладонь на кипу документов. – Все это заявления с просьбой о предоставлении курортных путевок. Пятьдесят процентов из них – инвалиды Отечественной войны и орденоносцы. Всем им курорт рекомендуют по состоянию здоровья. Но где, где, скажите вы мне, я возьму путевки, если нам отпускают на квартал строгий лимит?! Мы чуть ли не со слезами, а иногда даже с кулаками, добываем каждую лишнюю путевку. А теперь обком союза нам категорически заявил, что до начала второго квартала – ни одной путевки! Даже в дома отдыха. Оставьте заявление – на следующем заседании разберем.
Председатель вышел из-за стола и стремительно направился к дверям.
– Скажите, пожалуйста… – Ольга бросилась вслед за Фоменко, – когда будет заседание профкома? Когда вы сможете предоставить путевку Шадрину? У него сейчас тяжелое состояние.
– Заседание будет через неделю. Что касается путевок, то скажу определенно: раньше чем на июнь рассчитывать нельзя. – Председатель взялся за скобку двери, но, словно вспомнив что-то, остановился. – Кстати, не забудьте к заявлению приложить курортную карту. Хотя это и формальность, но без курортной карты рассматривать заявление не можем.
– Прошу вас, верните мне отношение главного врача больницы.
– Зачем?
– Я пойду с ним в обком союза высшей школы! Не может быть, чтобы в таком тяжелом, исключительном случае не нашлось одной путевки!
Председатель благодушно пожал плечами и улыбнулся так, точно он впервые увидел Ольгу.
– Пожалуйста! – Он возвратился к столу, нашел в стопке документов бумажку, которую принесла Ольга, возвратил ее. – Очень буду рад, если у вас что-нибудь получится.
Пропустив перед собой Ольгу, Фоменко вышел из кабинета.
Был как раз перерыв между лекциями. В коридорах, на лестничных площадках, у балюстрады сновали взад и вперед студенты. Стоял ровный, монотонный гул, напоминающий гудение больших столичных вокзалов.
Дорогой Ольга заехала к старой школьной подруге и рассказала ей о своем горе. Та посоветовала немедленно ехать прямо в обком союза высшей школы и добиваться путевки.
Ольга поехала в обком союза. Около часа ждала она, пока закончится обеденный перерыв.
Приняла ее полная, с добродушным лицом инспектор по университету. Она только что пришла и долго, точно курица в горячей дорожной пыли, примащивалась в кресле, разглаживая и расправляя юбку. Ольге это показалось вечностью.
Прежде чем прочитать бумагу, которую положила перед ней Ольга, инспектор досыта наговорилась с кем-то по телефону, отнесла своей начальнице (это было можно определить по самому большому столу, стоявшему у окна) какую-то ведомость, и только тогда взгляд ее упал на посетительницу.
– Я вас слушаю.
Ольга молча пододвинула документ ближе к инспектору. Та внимательно прочитала его и снова перевела взгляд на Ольгу.
– Сейчас удовлетворить не можем, – спокойно, даже с какой-то приятной улыбочкой ответила инспектор.
– Да как же так? Шадрин – инвалид войны, у него опасно со здоровьем. Он только что перенес тяжелую операцию!
– О Шадрине мы уже знаем, девушка. Звонили нам и с факультета, и из центрального профкома университета. Так что напрасно вы так волнуетесь. Но, к великому сожалению, сейчас ничего сделать не можем. Весь лимит путевок за первый квартал университет уже исчерпал, а заявлений горы, и почти все инвалиды, участники Отечественной войны.
– Ведь это жестоко! Неужели вы не можете достать всего-навсего одну путевку? Разговор идет о человеке, жизнь которого во многом зависит от того, сможет ли он закрепить здоровье после тяжелой операции.
– Я вас прекрасно понимаю, девушка, но сейчас, повторяю, нет ни одной путевки ни бесплатной, ни со скидкой. – Инспектор порылась в ящике и достала две голубоватые гербовые бумажки. – Вот есть у нас две горящие путевки в Кисловодск, но обе платные, тысяча двести рублей каждая. Это вас не устроит. И те завтра нужно продать, подходит срок.
При виде двух лощеных бумажек, на которых Ольга отчетливо разобрала слово «Кисловодск», у нее захватило дух. Эта путевка снилась ей последнюю ночь. Такой именно она ее и представляла себе: голубая, хрустящая. А сквозь нее проступали зеленые пальмы, вершины далеких гор, сказочные гроты…
– Скажите, пожалуйста, а деньги нужно платить все сразу? Может быть, можно часть отдать через неделю?
Инспектор молча покачала головой, потом долго рылась в ящике стола и только через минуту рассеянно ответила:
– Деньги?.. Да, да, деньги сразу. Причем не позже чем завтра, к концу рабочего дня.
Ольга привстала.
– Я вас очень прошу, не продавайте одну путевку. Завтра я внесу за нее деньги.
– Что ж, пожалуйста, нам все равно ее продавать, – благодушно ответила инспектор.
– Только вы отметьте у себя, что эта путевка для Шадрина, студента юридического факультета. Пожалуйста, не продавайте ее никому другому.
Инспектор красным карандашом легонько написала на полях путевки фамилию Шадрина.
– Хорошо, девушка, теперь дело за деньгами. Можете взять ее хоть сейчас. Только предупреждаю – последний срок завтра, конец рабочего дня. Иначе мы можем ее продать другому.
– Я обязательно внесу деньги завтра. Большое спасибо!
Попрощавшись, Ольга вышла из комнаты, в которой за столиками сидело около десятка инспекторов.
По дороге домой она думала о том, как бы поубедительней поговорить с матерью о деньгах. Мысленно она перебрала в памяти всех своих подруг и знакомых, у кого можно было бы взять взаймы, но таких почти не было. А денег нужно много, около двух тысяч – на путевку и на дорогу.
От метро «Сокольники» шла пешком. Грязный снег по обочинам дороги блестел мелкими кристалликами на веселом мартовском солнце. С мокрых веток тополей срывались капли воды, пробивая в снегу бездонные воронки, похожие на мышиные норы в голой солончаковой степи. У лужицы, набежавшей из водопроводной колонки, на корточках сидел малыш и красными, как гусиные лапки, пальцами пускал вырезанный из хвойной коры кораблик.
И то, что Дмитрий выжил, и то, что наступает весна и что Дмитрий по-прежнему любит ее, – все это наполняло Ольгу легким, окрыляющим чувством, несло вперед, она почти не ощущала своего тела. Ей хотелось говорить стихами, кого-то убеждать в том, что самое сильное в мире – это любовь. Но тут же, рядом с большим, лучистым счастьем, стыла приглушенная тревога. Лечащий врач сказал, что Дмитрию после операции нужно очень и очень беречься. Избегать физических напряжений, не волноваться, выполнять строгий распорядок дня, хорошо питаться… Чего только не наговорила врач! И все это было из того разряда, который Дмитрию был больше всего ненавистен. Ольга отчетливо представляла себе его раздраженное лицо, когда ему предлагали вовремя ложиться спать, больше есть манной каши со сливочным маслом, ни в коем случае не курить… Самым тревожным в разговоре с врачом было то, что врач не скрыла главной опасности: при неблагоприятных условиях жизни может повториться вспышка, шов разойдется и тогда… тогда уже больного не спасти. Не спасти даже профессору Батурлинову.
Мать встретила Ольгу настороженно. Это была небольшого роста, тихая женщина. Русая, гладко причесанная голова ее была тронута первой изморозью седины. От постоянных забот и дум губы ее были иссечены мелкими морщинками. Серые поблекшие глаза, в которых можно без ошибки прочитать трудное прошлое этой женщины, смотрели устало и словно в чем-то предостерегали.
Долго Серафима Ивановна никак не могла вдеть нитку в игольное ушко. Руки ее дрожали. Ольга это заметила. Она поняла, что мать неспроста слегка покашливает – так она делала всегда, когда собиралась сказать что-нибудь важное.
Самым нежелательным был для Ольги сейчас разговор о Дмитрии. Последнюю неделю мать каждый день справлялась о его здоровье. И однажды, как бы между прочим, рассказала, как мучается ее двоюродная племянница со своим мужем, пришедшим с фронта инвалидом. Этот намек Ольга поняла, но сделала вид, что не придала ему значения.
Сегодня, когда Серафима Ивановна еще из окна завидела дочь, несущуюся, как девчонка, по двору, она решила поговорить с ней начистоту, высказать ей свои материнские опасения.
Волнение дочери, пока Дмитрий лежал в больнице, она переживала остро. Материнским чутьем она догадывалась, что свадьба не за горами. До болезни Дмитрия Серафима Ивановна тайком от дочери готовила ей необходимое приданое, но болезнь Дмитрия настолько пошатнула все ее надежды, что она задумалась: а будет ли счастлива с ним Ольга? Ведь даже врачи и те говорят, что он плохой жилец. А врачи, как правило, всегда приукрашивают. Иногда даже безнадежно больного они убеждают, что он идет на поправку.
Несколько раз Серафима Ивановна хотела хоть намеками предостеречь дочь, но все как-то не поворачивался язык. Теперь же, когда самое страшное минуло и Дмитрий пошел на поправку, она осмелилась высказать свои опасения, которые не давали ей покоя последние дни.
– Дочка, а не рано ли ты голову себе забила? Замуж тебе еще не к спеху, да и по годам-то он тебе не пара. Как-никак, ему уже под тридцать, а тебе еще только двадцать исполнилось. Смотри сама, да ученье свое нужно сначала заканчивать.
Серафима Ивановна делала вид, что поправляет шпульку в машинке.
– Мама, почему ты перестала шить? – Ольга пыталась отделаться шуткой, быстро разделась и принялась рассказывать о том, как много еще сидит в советских учреждениях бюрократов и бездушных чинуш. Председателя профкома она так удачно и смешно скопировала, надув щеки и прищурив глаза, что мать не выдержала и рассмеялась.
– Ты брось заговаривать мне зубы! Скажи лучше сразу: что надумала?
Ольга села на старенькую расшатанную табуретку, которая всегда приводила ее в стеснение, когда эта табуретка попадалась на глаза Дмитрию. Положив обе руки на стол, она по-детски склонила набок голову.
– Мамочка, у меня к тебе большая просьба.
Серафима Ивановна, перекусывая нитку, так и не отвела руки от рта. Повернувшись к дочери, она с опаской, строго посмотрела на нее из-под очков.
– Мне нужно две тысячи рублей. Мама, не спрашивай зачем и не удивляйся, что так много. Это вопрос всей моей будущей судьбы… – Не дав матери сказать слова, она подошла к ней и обняла ее плечи. – Дмитрию нужно обязательно ехать на курорт. Путевка стоит полторы тысячи, пятьсот рублей одна дорога.
– Две тысячи!.. Да ты что, в своем уме ли?! Да когда мы такие деньги с тобой видали? – Белая нитка, прилипшая к нижней губе Серафимы Ивановны, дрожала.
– Мама, опасность еще не совсем миновала. Дмитрию необходимо курортное лечение, а иначе… – Отвернувшись в сторону, Ольга проговорила дрогнувшим голосом: – Иначе может быть такая вспышка, что сам Батурлинов ничего не сделает. – Отняв руки с плеч матери, Ольга отошла к окну.
Серафима Ивановна ничего не ответила и сердито застучала машинкой. Она шила дочери ночную рубашку. Закончив строчку, Серафима Ивановна скомкала шитье и накрыла машинку футляром.
– Конечно, мать хоть разорвись и все равно не угодит. Перед тем как спрашивать, ты лучше подумала бы: найдется ли у матери хоть сотни три-то, не только что тысячи? Ведь сама знаешь – живем от получки до получки. Эх, дочка, дочка, лезешь ты в аркан головой и сама не видишь, как захлестнет он тебя. Ведь шутка сказать – две тысячи! Ну ладно, соберешь ты эти две тысячи: у кого займешь, чего-нибудь продашь, а там что? Там-то что, я тебя спрашиваю? Манна посыплется с неба? Отдавать-то чем будешь? – Серафима Ивановна вышла на минутку в сенки, но тут же вернулась и уже более спокойно продолжала: – Нет, дочка, ты, как хочешь, а я все-таки советую тебе подумать о своей жизни серьезно. Человек он хороший, любит тебя, но жилец ненадежный. Будешь век таскаться с ним по больницам да по курортам.
– Мама! – В голосе Ольги звучали мольба и упрек. – Это жестокий расчет. Я давно знала, что ты так думаешь! Только скажу тебе, что все уже решено! – С этими словами она скрылась за ширму, где стояла ее кровать.
Сквозь приглушенные всхлипывания дочери Серафима Ивановна услышала, как та хлопнула крышкой сундучка. В комнате запахло нафталином. Мать догадалась: Ольга достала отрез на пальто. Это была, пожалуй, единственная ценная вещь во всем доме.
– Ты что это надумала? – Серафима Ивановна подошла к ширме и сквозь щель увидела, как Ольга заворачивает в старенькую простыню отрез темно-синего импортного драпа. Этот отрез Ольга десятки раз примеряла перед зеркалом, воображая, какая красивая она будет в новом пальто. Все берегла, оттягивала с шитьем, подгадывала к замужеству. Этой весной решено было справить пальто и вдруг… Нет, все что угодно, только не этот отрез!
– А ну-ка, положи сейчас же! – Серафима Ивановна подошла к дочери и грубо вырвала из ее рук узелок. – Вот когда сама будешь наживать, тогда хозяйничай! А сейчас пока делай то, что велит мать! Ишь ты, чего надумала!
Положив отрез в сундук, Серафима Ивановна закрыла его на замок. Ключ спрятала в карман кофточки. Села за машинку и громко, в сердцах, затарахтела ею. Время от времени, когда машинка умолкала, она слышала, как из-за ширмы доносились подавленные рыданья дочери.
Наплакавшись, Ольга молча оделась и вышла из дому. Даже не стала обедать. Куда пойти? Где взять деньги?
Глотая слезы, она шла, сама не зная куда. Было обидно за мать. Неужели нельзя было все сказать по-хорошему, не оскорбляя ни ее, ни Дмитрия? Бросить человека в такую минуту! Бросить только за то, что он болен.
Бездумно, почти механически она вошла в трамвай и прошла в переднюю часть вагона. В рассеянности забыла взять билет. А когда у метро «Сокольники» стала сходить, то горластая злоязыкая кондукторша пустила вдогонку ей целую обойму оскорблений, назвала и бессовестной, и хамкой, ругнула и за то, что носит шляпу, а ездит без билета… Пристыженная, с полыхающими щеками, Ольга вернулась в вагон и сконфуженно протянула кондукторше тридцать копеек. Та хмуро, не глядя на Ольгу, взяла деньги и почти швырнула ей билет.
Подруги, с кем она когда-то училась в школе, были теперь уже далеки. Такова, очевидно, жизнь: часто неразлучные друзья детства, вырастая и становясь взрослыми, кроме воспоминаний о детстве, не находят общего языка.
Две лучшие школьные подруги теперь учились в институте. Откуда у них деньги?
Очутившись в вестибюле метро, Ольга не знала, куда ей дальше ехать. Знала только одно, что нужно непременно ехать быстрее, доставать деньги! Потом звонить в обком союза высшей школы и еще раз просить, чтобы не продавали одну путевку в Кисловодск. С этими мыслями она спустилась по эскалатору. И вдруг, как светлячок в темную ночь, в воображении ее всплыл образ Лили Мерцаловой. В универмаг, где Ольга работала кассиршей, Лилю прислали полгода назад товароведом. Несмотря на то что в их положении была заметная разница (Лиля уже закончила институт), девушки быстро потянулись друг к другу. Правда, хотя они не поверяли еще друг другу сокровенных тайн и секретов, но уже питали взаимное уважение и искреннее доверие.
При мысли о том, что есть хороший человек, которому можно раскрыть свою душу и попросить совета, Ольге стало легче.
У «Красный ворот» она сошла и позвонила на работу. К телефону подошла Лиля. Волнуясь, Ольга просила ее вечером подойти к метро «Кировская».
– Лиля, милая, у меня такое большое горе!








