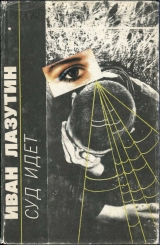
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 35 страниц)
– Просите.
Лиля была взволнована, руки ее дрожали. Она никак не могла раскрыть защелки сумки.
– Поздравляю вас, Лилиана Петровна! – улыбаясь, проговорил директор и жестом пригласил вошедшую сесть.
– С чем? – Голос Лили дрожал. Щеки ее пылали.
Повернувшись к Ольге, она виновато сказала:
– Прости меня, Оля, дорогой случилась неприятность…
Она еще что-то хотела сказать, но Ануров оборвал ее.
– Привезли деньги?
– Да! – Лиля подошла к столу директора и положила на стол деньги.
– Сколько здесь?
– Тысяча двести рублей.
– Садитесь! – Ануров жестом показал Ольге и Лиле на диван, накрытый спускающимся со стены ковром.
Девушки присели.
– Лилиана Петровна, вы знали о том, что Школьникова взяла из кассы тысячу двести рублей казенных денег?
– Да, знала! – твердо ответила Лиля. – И не только знала, но и сама посоветовала ей это сделать. Только я прошу вас выслушать, Борис Лаврентьевич, при каких обстоятельствах это случилось…
На лице ее отражалась внутренняя борьба: ей не хотелось унижаться перед директором, но вместе с тем она чувствовала свою вину.
Ануров был непреклонен.
– Скажите, Лилиана Петровна, вы сможете то, что сказали мне сейчас, повторить официальным людям, если в этом будет необходимость? Я имею в виду следственные органы.
– Борис Лаврентьевич, я еще раз прошу, выслушайте меня…
– Прежде ответьте на мой вопрос, – строго и требовательно произнес Ануров. – Сможете ли вы повторить то, что заявили сейчас?
– Смогу! – В ответе Лили директор уловил уже не просьбу, а нотки дерзости и непреклонности.
– Вы комсомолка?
– Да.
– Берите ручку, вот вам бумага, садитесь и пишите объяснительную записку. – С этими словами Ануров пододвинул Лиле чистый лист бумаги и чернильницу.
Как и Ольга, Лиля под диктовку написала объяснительную записку, в которой считала себя не только советчицей, но и соучастницей в совершенном преступлении. Когда она встала и уже собралась покинуть кабинет, ее остановил директор.
– Постойте, Мерцалова! – Ануров полез в сейф, достал оттуда маленькую книжечку и протянул ее Лиле. – Это то, что называют Уголовным кодексом Российской республики. А теперь послушайте, что в этом Уголовном кодексе говорится о том, что вы совершили. – Неторопливо листая кодекс, Ануров уверенно остановился на нужной странице и после внушительной паузы прочитал статью, под которую подходило преступление, совершенное кассиром и товароведом. – От двух до пяти лет лишения свободы!
На щеках Лили выступили розоватые пятна. Ее красивые тонкие пальцы дрожали. На глазах ни одной слезинки. Что-то отчаянное и вызывающее светилось в ее взгляде.
– Разрешите идти, товарищ директор?
– Зачем же так вдруг? Присядьте!
– Вы уже все сказали и вряд ли можете что-нибудь добавить! – С этими словами Лиля направилась к дверям.
– Мерцалова! – грозно окликнул директор.
Первый раз Лиля слышит, как директор повысил голос. Круто повернувшись, она замерла в дверях. То властное в характере Анурова, что заставляло трепетать работников универмага, в эту секунду развернулось в полную силу.
– Садитесь, – сказал он тихо.
Лиля присела на кончик дивана, на котором сидела Ольга. Она смотрела на Анурова. Но теперь уже во взгляде ее была тихая покорность.
– Я вас слушаю, Борис Лаврентьевич, – сказала она тихо.
Ануров подошел к сейфу, положил в него обе объяснительные записки и прикрыл тяжелую дверцу.
– Обе вы еще очень молоды. Вы только начинаете жить. Вам нужно готовить себя к честной работе, к материнству, а не таскаться по судам и тюрьмам. – Ануров качнулся всем своим могучим корпусом, расправил плечи и, замерев в горделиво-важной позе, продолжал: – В моей власти отдать вас под суд и в моей же власти простить вас. Чтобы выбрать одно из двух, я хочу слышать от вас последнее слово. Оно определит мое решение.
Этот неожиданный поворот в разговоре с директором окончательно сломил и Лилю. Теперь она сидела, крепясь изо всех сил, чтобы не расплакаться. Нервы ее были крайне напряжены.
Ануров устало улыбнулся. Потом он с укоризной покачал головой и неторопливо прошелся по кабинету. И снова улыбнулся еще добрее и мягче.
– Эх вы! Глупенькие девчонки! Как неосторожно, как бездумно вы живете! Разве так можно? – Он подошел к Ольге, взял ее за плечи и приподнял с дивана.
Лиля встала, не дожидаясь, пока он к ней притронется.
Добрым, отеческим тоном Ануров напутствовал:
– Ступайте и работайте! Я вас прощаю. Только зарубите себе на носу, что это первый и последний случай. Если повторится что-нибудь подобное, я открою этот сейф и тогда уж не помогут никакие слезы, никакие романтические излияния.
Ольга вышла из кабинета. На лестничной площадке она повисла на шее у Лили и заплакала.
XIII
Все та же чистая, затопленная солнцем больничная палата. Паркет натерт так, что на нем бойко играли рыжие зайчики. Точно каменное изваяние, на кровати сидел Лучанский. Уставившись в одну точку на противоположной стене, он о чем-то думал, не обращая внимания на разговор, происходивший между Дмитрием и его маленькими шефами Ваней и Ниной.
Федя Бабкин, который уже третий день безуспешно воюет с врачами, чтобы его поскорее выпустили «на волю», углубился в старый потрепанный роман без обложки и титульного листа.
Рядом с койкой Дмитрия на стуле сидели Ваня и Нина. В длинных халатах они казались лилипутами с серьезными, сосредоточенными лицами. Глаза Вани зачарованно горели. Рассказы о войне его зажигали.
Закончив историю о том, как он получил свой первый орден Красной Звезды, Дмитрий умолк и, осторожно привстав, поправил под головой подушку. Ему уже разрешили изредка вставать и ходить по палате.
Если во взгляде Вани пылал боевой восторг от того, как Шадрин с оружием, в полном обмундировании, под покровом ночи первым переплывал со своим взводом на вражеский берег Днепра, то в глазах Нины ютилась тихая жалость к Лене Чепуренко, первому весельчаку и любимцу взвода, который потонул в реке, раненный в голову на глазах у Шадрина.
– Дядя Митя, расскажите еще чего-нибудь. Мне это очень нужно.
– Зачем тебе это? – улыбнулся Шадрин.
– Я сочиняю рассказы, и их печатают в нашем детдомовском журнале, его выпускают старшие ребята. Я недавно сочинил один рассказ про разведчика, и он всем понравился.
– Как же ты сочиняешь, если сам не бывал на войне?
– А так. – Ваня замялся. – Вот прочитаю какую-нибудь книжку, а потом сам выдумываю, чтоб было складно и интересно. А еще мы играем во дворе в военную игру, я и про это пишу: как в плен попадают, как на расстрел ведут, как пытают разведчиков… Расскажите, пожалуйста, чего-нибудь еще!
Шадрин приподнялся на локтях.
– А ну, сбегай, Ваня, посмотри – нет ли там в коридоре няни или сестры? – Дмитрий кивнул на дверь, а сам, воровато озираясь, полез под подушку.
Лучанский, видя, что Шадрин разминает в пальцах папиросу, привстал с койки и вышел из палаты. Он всегда выходил в коридор, когда Шадрин или Бабкин тайком курили в палате.
Дмитрий сделал несколько крупных затяжек и разогнал дым рукой. В этом ему помогал и Ваня. Потушив окурок, Шадрин поудобнее улегся в кровати.
– Хотите, я расскажу вам, как однажды чуть не попал к немцам в плен?
Ваня всем телом подался вперед. Как гусенок, он вытянул свою детскую тонкую шею с голубоватой пульсирующей жилкой чуть ниже уха и грозно посмотрел на Нину, когда та закашлялась от табачного дыма.
– Тише ты! – угрожающе прошептал он в сторону Нины.
– Было это на Первом Белорусском фронте. Часть наша стояла недалеко от деревни Басюки. Собственно, это была уже не деревня, а пепелище. Одни закопченные печные трубы, головешки да заваленки – вот все, что осталось от деревни. Правда, церковь, как сейчас помню, сохранилась целехонька. Даже кресты позолоченные и те немцы не тронули. А может быть, с военной целью, чтобы пользоваться как ориентиром при пристрелке из орудий. Так вот, часть наша, как я уже сказал, только что вышла из тяжелых непрерывных боев потрепанная, усталая, с большими потерями. Позицию нашу занял тридцать первый пехотный гвардейский полк, а нас оттянули правее, там было потише. Во время этого затишья хотели пополнить полк наш людьми из резерва. Мы окопались у церквушки и думали, что денька два отдохнем. Днем немец изредка постреливал в нашу сторону, но мы не подавали вида, будто нас и нет. Курили в кулак, еду подносили траншеями, ползком, чтоб не заметил противник.
Помню, вылез я раз из окопа, раздвинул чуть-чуть кустики смородины – наша позиция проходила через сад – и вижу: метрах в трехстах на опушке леса пасется белая немецкая лошадь, хорошая породистая лошадь. Как она вышла на нейтральную линию, никто не заметил. Вгляделся пристально и вижу: к лошади короткими перебежками пробирается из лесу немецкий солдат. Лошадь была без узды и, видать, пугливая. Никак не подпускает к себе солдата, хотя была и спутанная. Как только тот привстанет и потянется с уздой к ее морде, она тут же встает на дыбы и шарахается в сторону. Вижу – измучился бедный солдат и совсем забыл, что гоняется за лошадью под самым носом у неприятеля. А неприятель этот, то есть мы, так залюбовался необычной для фронта картиной, что уже перестал рассматривать его сквозь прорезь прицельной рамки винтовки.
И ведь вот что меня больше всего удивило: никто из наших ребят не выстрелил, хотя многие видели немца и уже взяли на мушку.
Минут десять гонялся он за лошадью, пока наконец не поймал. А когда поймал, то так обрадовался, что вскочил на нее верхом и кинулся галопом прямо в лес. Ребята наши так и покатились со смеху. Особенно смешно было видеть, как он подпрыгивал на жирной спине лошади и, как крыльями, махал руками. Когда этот немец гонялся за лошадью, я попросил у командира взвода бинокль и как следует рассмотрел его.
Мне бросилась в глаза рыжая заплатка на спине его зеленого кителя, продолговатая белобрысая голова и большая родинка на правой щеке. Судя по погонам, это был унтер-офицер. С виду ему можно дать не больше двадцати лет. Посмеялись-посмеялись мы над немцем и забыли про него.
А вечером меня вызывает к себе командир взвода и говорит: только что разговаривал по телефону с командиром батальона, тот приказал немедленно, как только стемнеет, прислать солдата на передний наблюдательный пункт. Какое это будет задание, куда пошлют, что прикажут – я еще не догадывался. А на войне известное дело – приказ есть приказ. Взял я у командира на всякий случай карту местности, дождался темноты, вскинул автомат за спину, чтоб в случае, если придется ползти, не мешал бы под животом, и двинул в сторону переднего наблюдательного пункта, который располагался в ольшанике, под самым носом у немцев.
Ночь выдалась темная. А тут как на зло, шаг шагнешь – то яма, то старый окоп, то воронка. А самое противное, это то, что наступила удивительная тишина. Такая тишина, какую сроду не слышал. Чувствуешь даже, как бьется собственное сердце. А от командира получен строгий приказ: подползти к переднему наблюдательному пункту. По моим расчетам и по словам командира, от наших окопов до наблюдательного пункта было не больше километра. Вначале я полз по телефонному кабелю, на ощупь. Потом этот кабель свернул направо, я снова полз по нему. Потом свалился в глубокую воронку с водой, а когда вылез, то долго ползал по ее кромке и все никак не мог нащупать кабель. Потом наконец нашел, но чувствую, что кабель совсем другой, не наш: наш толстый, матерчатый, шероховатый, а этот – гладкий и тонкий – немецкий. Я растерялся.
Не знаю, куда ползти дальше. Из-за туч выглянула луна. Тут я оробел еще больше. Вдруг мне показалось, что светила она с другой стороны, не оттуда, где была раньше. Ну, думаю, попал как кур во щи! Хана, заблудился. А приказ нужно выполнять. А какой там приказ, когда впору хоть вставай и кричи во весь голос: «Ау-у-у!», как в детстве, когда за грибами ходил. Полежал-полежал, подумал-подумал и решил: поползу туда, куда лежу лицом, вперед. За ориентир взял луну. Но она тут же скрылась, и снова наступила темень. А тишина – как будто совсем оглох.
Прополз еще шагов сто – наткнулся на клубок колючей проволоки, насилу выпутался из нее и двинулся дальше, куда кривая выведет. А сам все думаю: «Не туда ползу, не туда… В плен ползу, как кролик, в пасть удаву!» Думаю, а сам все ползу. И вдруг показалось, что ползу я целую жизнь, и стало мне еще страшнее. Наткнулся на какие-то кусты. Откуда они – никак не могу понять. Днем этих кустов нигде не видал. Ну, думаю, так можно до самого Берлина доползти. Прилег в кустах и решил: будь что будет, дождусь рассвета, а там разберемся, куда я попал. И вдруг справа от меня и чуть сзади, шагах в десяти, раздалась немецкая речь: «Офицеры унд зольдаты! Офицеры унд зольдаты!..» И залопотал, и залопотал… Хоть и учился в школе немецкому языку, а здесь лежу, как сурок, к земле прижался и со страха ничего не понимаю.
Ну, думаю, попал, браток, отвоевался солдат Шадрин, сам заполз к немцам. Тут-то я и догадался, что переполз через нейтральную линию и попал на передний край к немцам. Ничего не сделаешь – нужно пятиться назад.
Пролежал так минут десять, даже дышал и то потихоньку. Вот в эти-то десять минут я, наверно, и начал седеть.
Шадрин потянулся было за папироской, но вошла няня и, заметив его намерение, погрозила пальцем.
– А дальше? Что было дальше, дядя Митя?
Шадрин с минуту помолчал, потом продолжал:
– Немцы предлагали русским солдатам сдаваться в плен. Обещали им манну небесную. Когда они закончили свою агитацию, я снова пополз, но теперь уже назад. А тут как назло, а может быть на счастье, стал погромыхивать гром. Вначале он слышался издалека, потом стал подкатываться все ближе и ближе. А хорошо все-таки услышать на войне гром! Он в тысячу раз милей, чем пушечная канонада. Прополз я метров двести, перевел дух и стал прислушиваться. Что-то слышу, а откуда – понять не могу. Но на душе вроде бы стало полегче. Показалось, что будто о свою землю опираюсь разодранными локтями. Тут пошел дождь. Да такой проливной, что сразу под руками вместо комьев земли и глины почувствовал грязь. Опять же думаю: «Может, этот дождичек к счастью?» Как только подумал об этом, так сразу же полетел вниз головой. Прямо в окоп. Стукнулся о котелок. Ощупал его в темноте – вижу, не наш, немецкий. Потом под руку попала фляжка. Тоже немецкая. Сердечко во мне так и екнуло: «Все! – думаю. – Заполз в немецкие окопы!» Тут я решил: если умирать, то подороже. Поставил автомат на боевой взвод и пополз по окопу, чтобы понять, куда я все-таки попал и что мне дальше делать? Слышу, по брустверу окопа идет человек и кричит что-то по-немецки. Тут-то уж никаких сомнений больше не осталось: я у немцев. Сразу вспомнил и мать, и братьев, и младшую сестренку… Чего только не передумал за эти несколько секунд. И стало так обидно, что я больше их никогда не увижу – ни родных, ни знакомых. А еще обиднее сделалось оттого, что утром, когда обнаружат во взводе, что солдат Шадрин безвестно пропал в перерыве между боями, – все подумают, что перешел к немцам. Напишут об этом родным, заклеймят, как изменника Родины, мать лишат военного пособия и опозорят на всю жизнь, что родила такого сына.
Шадрин увлекся воспоминаниями и совсем забыл, что перед ним были дети.
Ваня и Нина сидели, не шелохнувшись. Они не просили, они только взглядом умоляли: «Ну, а дальше, дальше?»
И Шадрин продолжал дальше:
– Вижу, немец по брустверу подошел прямо к тому месту, где у стенки окопа притаился я ни живой ни мертвый. В руках у него электрический фонарик. Идет он и водит им по сторонам, видать, кого-то разыскивает. Тут мне стало ясно, что не рядовой, раз так покрикивает. Как ни прижимался я к стенке окопа – от его фонарика так и не укрылся. Помню только, что меня так осветили, словно я попал под мощные прожектора. В ту же секунду руки мои механически потянулись к грязным сапогам. Я вцепился в них, потом с нечеловеческой силой рванул на себя и чуть не рухнул под тяжестью большого тела. Немец свалился в окоп, как мешок с мукой. Мои руки в темноте быстро нашли его горло, под руку подвернулась граната, которой я оглушил его. Все это было счастливой случайностью. Сквозь раскат грома слышу: немец захрипел, вдохнул полной грудью и вытянулся по длине окопа. А дождь все усиливался. Хоть и точила меня мысль, что пришел конец, а сам все-таки срезал с убитого офицера полевую сумку, выпотрошил карманы, вытащил из кобуры пистолет, отыскал в грязи его фонарик и, как говорится, вооруженный до зубов, которые у меня в эту минуту не попадали друг на друга, двинулся по окопу. Хотел выползти на него там, где он помельче. Сделал несколько шагов в темноте и остановился. Окоп на этом месте был мелкий, до груди. Посмотрел на небо: из него, как из сита, льет дождь. И в эту самую минуту случилось то, что до сил пор называю чудом. Ослепительная вспышка молнии! Вся местность на несколько километров вокруг лежала целую секунду как на ладони. Прямо передо мной, метрах в семистах, на пригорке, вижу нашу беленькую, с позолоченными куполами церквушку. Если б я был верующим, то, наверное, помолился бы в ту минуту и решил, что это воля божья, это он показал мне, где находятся наши. За какую-то секунду успел рассмотреть не только церквушку и дорогу к ней, но увидел метрах в трехстах от себя кусты, где располагался наш передовой наблюдательный пункт, куда я был послан командиром.
А тут как на грех наскочил на меня солдат с автоматом. В правой руке у меня был зажат пистолет, в левой – фонарик. Осветил лицо немца и увидел… Что же вы думаете я увидел? Лицо того самого молодого немца с родинкой на правой щеке, который днем гонялся за белой лошадью. Вижу, что он здорово испугался. Но война есть война. Если удалось ему уйти от смерти из-за нашего русского великодушия днем, то здесь, ночью, во вражеском окопе, решали секунды: кто кого. Встреча с русским солдатом для него была неожиданностью. На счастье он оказался легоньким и даже ни разу не пикнул после того, как я оглушил его рукояткой пистолета. Тут-то уж во мне заговорило другое: страсть. И не какое-нибудь лихачество, а страсть разведчика. Что может быть почетнее для солдата, чем привести живого языка? Взвалил я его на спину и поволок. Дождь стал утихать. Выволок из окопа, тащу на спине, падаю с ним в ямы, в воронки, в одном месте попал в такую грязищу, что потерял с ноги сапог. Кое-как доволок его до кустов тальника, где по моим расчетам должен был располагаться передний наблюдательный пункт. На душе стало веселее. От радости решил даже передохнуть. Смерть, которая висела за плечами несколько минут назад, прошла стороной.
Но здесь ждала вторая неприятность. Как бы, думаю, свои не сочли за немецкого разведчика и не застрелили? Но и тут выручила случайность. Не успел я пройти и десяти шагов к кустам, как на меня набросились два здоровенных верзилы. Скрутили в одну минуту, как котенка. Самое неприятное, чего я им не прощу за всю жизнь, это то, что рот заткнули не какой-нибудь чистой тряпкой или, скажем, рубахой, а вонючей солдатской портянкой. После три дня мутило, как только вспоминал эту встречу со своими.
Шадрин умолк, стер со лба пот и полез под подушку.
Нина, затаив дыхание, сидела не шелохнувшись. Глазенки Вани горели еще азартнее.
Шадрин закурил. И уже не дожидаясь, когда Ваня и Нина будут расспрашивать, что было дальше, более спокойно продолжал:
– Дальше все было проще. Втащили меня вместе с пленным солдатом в блиндаж, выяснили, что я за птица, развязали мне руки. Немца и офицерскую сумку срочно отправили в штаб полка, а мне объявили благодарность и… даже представили к ордену.
– К ордену?! – воскликнул Ваня. – К какому?
– К ордену Красного Знамени.
– А после? Как вы воевали после? – не успокаивался Ваня.
– После меня перевели в дивизионную разведку. Там я прослужил почти до конца войны, пока не ранили под Варшавой.
– Дядя Митя, расскажите, пожалуйста, еще, как вы потом ходили в разведку и как доставали языков?
– Это уж как-нибудь в следующий раз, а теперь я устал. Да и вам пора учить уроки.
– Разрешите мне сочинить рассказ о том, как вы чуть не попали в плен? Его обязательно напечатают в нашем журнале. Только перед тем, как подавать, я обязательно покажу вам. Вы проверите ошибки, хорошо?
Шадрин грустно улыбнулся. Чем-то, а чем, он пока еще не уловил, Ваня напомнил ему младшего брата Сашку, который лет десять назад был таким же вот пламенным фантазером и бесстрашным сорванцом. Теперь ему уже двадцать два года, и он работает пожарником в родном селе.
– Ладно, приноси. Только учти, я буду строгим критиком. Никаких скидок. Договорились?
– Договорились! – обрадованно воскликнул Ваня и хлопнул ладонью по коленке.
Заслышав быстрые шаги в коридоре, Дмитрий принялся поспешно тушить папиросу в пустом спичечном коробке, который служил ему пепельницей. Ваня догадался, что его подшефному угрожает опасность, а поэтому, раскрылившись больничным халатом, прикрыл руку Дмитрия.
В палату вошла Ольга. Никогда Дмитрий не видел ее такой возбужденной. Она остановилась в дверях, потом почти подбежала к койке Шадрина и, спрятав руки за спину, воскликнула:
– Угадай, что у меня в руках?
– Четвертинка?
– Как тебе не стыдно! Ты ужасный человек! – вспылила Ольга. – Нет, ты все-таки угадай! – настаивала она, шаг за шагом отступая от койки Шадрина, когда заметила, что Ваня решил подсмотреть, что находится в ее руках.
– А! Догадался, – протянул Дмитрий и махнул рукой. – Ты, между прочим, молодчина! Давай сюда.
– А что? – продолжала интриговать Ольга.
– Пачка «Беломора» и коробок спичек.
Это Ольге показалось издевкой. Тем более – после того, как она повела борьбу с курением Дмитрия.
– Ты что, смеешься надо мной?! – уже не на шутку рассердившись, сказала Ольга.
– Ну, показывай, показывай, не тяни за душу! Что там у тебя? Ваня! – Дмитрий подмигнул своему юному шефу. – Разведай и доложи.
Ваня ревностно, со всех ног – чтобы не опередила Нина – кинулся за спину Ольги, но та стояла не шелохнувшись. В руках у нее была книга.
– Книга! – обрадованно воскликнул Ваня и, пригнувшись, пытался разобрать ее название.
Дмитрий нервничал.
– Знаешь, Оля, это не совсем педагогично.
– Зато своевременно и крайне необходимо! – Ольга протянула Дмитрию книгу, в которую была вложена курортная путевка в Кисловодск.
Шадрин приподнялся на койке. Путевка была заполнена на его имя.
– Это откуда?
– Выделил университетский профком.
– Это ж замечательно! Это же чертовски здорово! Если честно признаться – это самое главное, что волновало меня последние дни. Думал, что придется недели две околачивать пороги из-за этой путевки, а тут вдруг… и так быстро! – Шадрин еще раз вслух прочитал путевку и спросил: – Сколько стоит?
– Бесплатная.
– Итак, через два дня я уже на колесах!
Дмитрий притянул к себе Ваню, указательным пальцем левой руки нажал на кончик его носа и издал звук, похожий на сирену автомашины: «Ту-ту-ту!»
Заметив на тумбочке пакет, Шадрин посмотрел на Ольгу.
– А это что?
– Это тебе на дорогу, на билеты…
Дмитрий раскрыл конверт. В нем были деньги.
– Откуда они? – Взгляд Шадрина стал неожиданно строгим.
– Это… – Ольга несколько замялась. – Это тоже дотация профкома… Безвозвратная ссуда.
– Ты брось мне про эти ссуды! Знаю я, как они выколачиваются. Ребята собрали? – Видя, что Ольга молчит, он строго и раздраженно сказал: – Страшно не люблю эти подаяния, сборы и приношения.
Дмитрий отодвинул пакет в сторону.
– Возьми, пожалуйста, назад! Отдай старосте курса. Это он, наверное, затеял. Поблагодари его и скажи, пусть на эти деньги купят приемник и проведут конкурс на лучшую студенческую комнату в общежитии.
– Митя!
– Я же сказал, что не возьму! На дорогу мне хватит своих денег. А старосте курса скажи, что я очень тронут его беспокойством о моем здоровье.
Дмитрий лежал сердитый.
Ваня осуждающе смотрел то на Ольгу, то на пакет с деньгами. Глазами он говорил: «Вот еще привязалась со своими деньгами!» Он не терял надежды, что после ухода Ольги, к которой он уже начинал ревновать своего подшефного Шадрина, ему удастся услышать еще новый интересный эпизод из боевого прошлого Дмитрия.
Молчание нарушила Ольга.
– Митя, я тебе сказала неправду. Деньги эти совсем не из профкома, их не собирали на курсе…
– А чьи же?
– Мои… Ты понимаешь, я даю тебе их вроде как бы взаймы. А когда у тебя будут, ты мне их вернешь. – И тут же, словно осененная неожиданно пришедшей мыслью, она обрадованно воскликнула: – Да, я совсем забыла сказать, ведь я выиграла по облигации! Целую тысячу рублей! Мама так довольна!..
– Зачем все эти фантазии? Скажи, зачем? Ты хочешь помочь мне, так и скажи.
– Митя, а если я тебя очень попрошу, чтобы ты взял эти деньги, ты это сделаешь? – Ольга умоляла. – Не для себя, а для меня. Ты что, боишься быть мне обязанным? Боишься, чтобы я не связала тебя этими деньгами? – В голосе ее звучала обида.
– Глупенькая ты… – Дмитрий протянул носовой платок к ее глазам, на которые навертывались слезы. – Вот ты уже и поплыла, и захныкала… Ладно, возьму. Только знай: как приеду на курорт, так дам такой загул на твои денежки, что затрещат все курортные рестораны! – Шадрин потянулся. – Гульну так, что до Москвы докатится молва!
Всему, что говорил Дмитрий, Ваня верил. За две недели шефства авторитет Шадрина для него был непререкаем. Но теперь он мучился в догадках: хорошо это или плохо, что Дмитрий собирается так гульнуть, что затрещат все курортные рестораны. В эту минуту ему отчетливо представилось лицо пьяного отчима, который тоже любил «гульнуть», а когда «гулял», то жестоко избивал мать.
Нина, сложив на коленях руки, тоже не понимала, чему так обрадованно улыбалась Ольга, когда Шадрин сказал, что затрещат рестораны. Она никак не могла себе представить, как это могут трещать рестораны. Рядом с их детдомом стоит большое серое здание с вывеской «Ресторан». Но он никогда еще не трещал.
Ольга заметила смущение на лицах детей и упрекнула Шадрина.
– Вот это совсем непедагогично! – Погладив по голове Ваню, она погасила шутку Дмитрия: – Он пошутил про рестораны.
Лукаво взглянув на Ольгу, Дмитрий улыбнулся.
– Деньги я возьму. Но при одном условии. Хотя нет, ты его никогда не выполнишь. У тебя просто не хватит силы воли.
– У меня? Не хватит силы воли?! – Это Ольгу подзадорило.
– Обещай, что хватит!
– Обещаю.
– Клянись, что выполнишь то, что я прикажу тебе сейчас! – Тон Дмитрия был одновременно и торжественно-суровым, и насмешливым.
Подвоха Ольга не ожидала.
– Клянусь! – сказала она с полной серьезностью.
Дмитрий заговорил таинственно:
– Вот сейчас я закурю, а ты будешь сидеть на месте и не шевельнешься, не нахмуришь брови, не скажешь ни одного бранного слова. Вот мое условие, которое ты поклялась выполнить.
Растерянно хлопая ресницами, Ольга сидела молча, чуть приоткрыв рот. Она ждала, что Шадрин потребует от нее чего-то большого, важного. А тут вдруг… Дмитрий беззвучно рассмеялся, достал из-под подушки папироску и блаженно, не торопясь, закурил. Ноздри его нервно вздрагивали. Он еле сдерживался, чтоб не расхохотаться.
Бледная, Ольга сидела, не шелохнувшись. Поджав губы, она мстительно проговорила:
– Хорошо! Я не шевельнусь! Я не пророню ни одного, как ты сказал, бранного слова! Но запомни – это твоя последняя папироса!
Не взглянув на Шадрина, Ольга встала и, не попрощавшись, направилась к выходу из палаты. В дверях она остановилась.
– Запомни, это твоя последняя папироса!
Сказала и закрыла за собой дверь.
Как только Ольга вышла из палаты, Федя Бабкин, который в течение всего разговора Дмитрия с Ольгой делал вид, что он увлекся книгой, почесал за ухом и вздохнул на всю палату.
– Да-а-а… А вот женишься, тогда еще не то будет!.. О, кто женат не бывал, тот горя не видал. И курить-то тебя отучат, и четвертинку выпить разрешат только по революционным праздникам, и ходить-то ты научишься по одной плашке… Прямо хоть в монахи записывайся. Я по своей знаю. Тоже такая нотная…
Не обращая внимания на причитания Бабкина, Шадрин достал из тумбочки бумагу, карандаш и поспешно написал:
«Оля!
Олечка!
Злая Ольга Петровна!
Виноват. Поднимаю руки. Сдаюсь. Обещаю, что это последняя папироска. Ты только что ушла, а я уже соскучился. Приходи завтра. Я что-то тебе расскажу интересное. Д.»
Дмитрий поспешно свернул записку вчетверо и подал ее Ване:
– Алюр три креста!
– Что? – От удивления Ваня раскрыл рот. Он думал, что его спросили что-то по-немецки.
– Догони Ольгу и передай ей эту записку.
Счастливый от поручения, Ваня, даже не попрощавшись, придерживая на ходу длинные полы халата, кинулся в коридор.
Нина пропищала «До свидания!» и тоже бесшумно вышла следом за Ваней.
Дмитрий достал папиросу и решил: уж эта-то наверняка будет последняя. Прощальные затяжки казались сладкими, дурманящими.
– Федя! – окликнул Бабкина Дмитрий. – Придумай какой-нибудь больничный салют.
– В честь чего?
– Я делаю последние затяжки! Ты понимаешь, Федя, четырнадцать лет курить и бросить!
– Ну и что такого?
– Это же мучительно тяжело!
– Чепуха! Я раз десять бросал и по себе знаю – ничего нет тяжелого.
Дмитрий рассмеялся, а про себя подумал: «Теркин! Живой, послевоенный Теркин!»
– Ты все-таки придумай, Федя. Отметь эту историческую минуту.
Изображая голодного волка в морозную лунную ночь, Федя поднял голову к потолку и завыл на всю палату. Потом начал причитать:
– Больные миряне! Сестры и няни! Больничные врачи и весенние грачи! Наполним мензурки доверху напитком по вкусу: кто английской солью, кто русской касторкой! Взгляните! Под потолком сим, на железной койке, делает последние затяжки раб божий Дмитрий Шадрин. Прошу всех встать и поднять над головой кислородные подушки, утки, грелки и белые халаты! Выпьем! Аминь!








