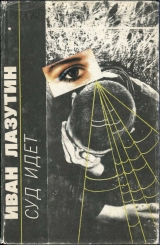
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц)
VIII
Шадрин лежал на верхней полке и слушал разговор, происходивший в купе. Подсевший на маленькой станции жидкобородый мужичонка в первый же час езды вывернулся чуть ли не наизнанку, рассказал всю свою подноготную: и куда едет, и откуда, и зачем едет. На вопрос соседа «Что нового в деревне?» он ответил хрипловатым дискантом:
– По Указу метут! Ох и метут! Аж пырхи летят.
– Кого метут? Из кого пырхи летят?
– Да все из них же, кого зовут спекулянтами да дармоедами. Работать хотят их заставить. У себя в колхозе не хочешь работать – поезжай с богом на Дальний Восток, а то и на Сахалин скатертью дорога. Там народу мало, рабочие руки вот как нужны! – Ребром ладони мужичок провел по горлу, обросшему редкой щетинкой.
– А как же это делается? Через суд или административно? Кто решает: трудовой он элемент или нетрудовой?
– Народ.
– Каким же образом?
– На сходе, обществом, голосованием. – Мужичок хотя и был маленький, но петушистый. Потирая серый окомелок бороды, он рассказывал: – Моего соседа Тишку Демичева тоже тряхнули. Да так тряхнули, что разрешили на всю семейству взять только двести кило клажи. А ведь какой ловкач был! Поискать таких – не найдешь. Не токмо фин – сам председатель сельсовета подкоп под него делал и то отступился. Ведь чего умудрил напоследок, сатанинская сила: в прошлом году купил себе мотоцикл с коляской и поставил на эту самую коляску железный бак с крышкой. Наловит пуда три-четыре карася или подъязков и живьем его в железную бочку. А ей что, рыбе-то, вода она и вода. Что в озере, что в бочке – плавай себе. А до города всего шестьдесят верст. Даст хорошего газу – вот тебе через час тысяча рублей в кармане за одну ездку.
– Ловкач! – покачал головой угрюмый рыжий мужик с нижней полки, который внимательно слушал рассказ колхозника, положив на колени узловатые руки, натруженные пальцы которых не гнулись.
– Ку-уда там! Такой химик, что только диву даешься!
Шадрин лежал на спине и не видел говорившего. Но он отчетливо представлял себе его лицо: маленькое, сурчиное, с проворными глазами. Он даже пытался довообразить его суетливую жестикуляцию. И не ошибся. Свесив вниз голову, Дмитрий видел, как после каждого слова мужичонка, точно на пружине, опираясь руками о полку, подскакивал и как будто хотел воткнуться в каждого, кто его слушал.
А непоседливый пассажир все говорил и говорил…
В последние дни, за дорогу, Шадрин не читал газет, а поэтому о новом Указе слышал впервые. Его подмывало вмешаться в разговор. Но решил подождать. Когда же беседа перекинулась на другое и об Указе забыли, Дмитрий обратился к мужику:
– Отец, скажи, откуда эти химики да спекулянты в деревне берутся?
Мужичонка бойко задрал голову и, хитровато прищурившись, погрозил вверх негнущимся пальцем.
– Э-э-э… сынок, ты меня не подловишь. Хотя ты, может, из НКВД, да мы тоже не лыком шиты. На семи сидели, восьмерых вывели. Хватит, учены в тридцать седьмом году.
– При чем здесь тридцать седьмой год?
– А тут и понимать нечего. Есть такая сказочка, совсем коротенькая, в городе ее анекдотом называют. В этой сказочке сказывается про одного человека. Когда этот человек вернулся из Магадана, его сосед и спрашивает: «За что же ты сидел, кум, целых пятнадцать лет?», а он ему и ответь: «За лень! За лень, кум, да за неповоротливость нашу». – «Да какая такая лень, что приварили целых пятнадцать годков?» А он ему проясни: «Сидели с дружком, разговаривали по душам, а после пошли по домам. Дружок-то побежал огородами куда следует, а я поленился, не пошел. Вот и укатали в Магадан».
– Да-а-а… – Шадрин вздохнул. – Ну, тогда расскажи, отец, как проходил сход? Кто собирал его, кто на нем выступал?
– Этот вопрос мужику показался смешным.
– Чудак ты, паря. Спрашиваешь, кто проводил? Конечно, начальство, кому же иначе? Замели, подчистую замели. Дворов десять, а то и побольше.
– Ну, а как вы расцениваете: хорош этот Указ? – допытывался Дмитрий.
– Указ лучше некуда. – Мужик меланхолически задрал голову, почесал кадык и широко зевнул: – Оно, конечно, тому, кто на чужом горбу в рай хочет въехать, ему этот Указ против шерсти. А нам он, паря, с руки, мы по базарам ноги не бьем, с утра до вечера в бригаде.
– Сам-то ты кто будешь?
– Я-то? Это как понимать? – с хитроватой опаской спросил мужичонка.
– Ну, специальность какая твоя в колхозе?
Мужичонка хихикнул в кулак.
– Специальность… Чудак ты, паря… Специальность моя самая большая, все могу: и швец, и жнец, и на дуде игрец; семеро наваливай – один тащи. В колхозе, сынок, специальностей много, и все их нужно уметь: и жать, и косить, и воз навить. В полеводческой бригаде я, а сейчас вот председатель послал в город кое-что закупить.
Дмитрий слез с полки, вышел в тамбур. Свесившись в открытое окно, он подставил голову свистящему ветру. Левую щеку секла мелкая угольная крошка, летящая из трубы паровоза. В эту минуту ему хотелось, чтоб сильнее обжигала щеку угольная сечка. Но вскоре подъем кончился, и паровоз, размеренно стуча рычагами, легко повел состав, попыхивая сизой дымкой в знойное, без единого облачка сибирское небо. Впереди, насколько хватал глаз, растянулась Барабинская степь с зелеными островками березовых колков. Дальше пошли мелкие озера, поросшие камышом.
Несметные сокровища! Миллионы тонн высококалорийного торфа притаились под зеленым пушком камыша и осоки и ждут хозяйских рабочих рук.
Слева зеленел рям – так местные жители называют сосновый лесок, растущий на торфяных болотах. Ветер доносил запах багульника, отдающий густой смолкой и спиртом.
Говорят, когда цветет багульник, змеи из ряма выползают, не переносят терпкого запаха.
Вот показалась вдали башня водокачки, мимо которой Дмитрий в детстве ходил чуть ли не каждый день на озеро. Сейчас ее побелили.
Внутри что-то защемило: как уехал в Москву учиться, так ни разу не приезжал на каникулы. Лето после первого курса работал пионервожатым в подмосковном детском доме, два лета подряд провел в приемной комиссии на факультете, после четвертого курса от Общества по распространению политических и научных знаний ездил в Донбасс читать лекции. Когда хотел съездить на родину – не было денег, когда были деньги – не было времени.
И вот, наконец, перед ним снова выплывают низенькие побеленные мазаные избы, крытые дерном, на котором выросла лебеда и полынь. Станционные тополя за пять лет буйно разрослись. Помещение станции, которое одновременно служило вокзалом и местом диспетчерской службы, показалось таким стареньким, таким жалким и облезшим, что Дмитрий подумал: «О, боже! Неужели это та самая станция?!» Низенькая, ветхая, с колоколом, подвешенным у дверей. А ведь когда-то, в детстве, станция ему казалась большим Зданием, которое внушало свою, непостижимую дорожную тайну.
«Мать! Что с ней?.. А что, если?..» – Дмитрию становилось страшно от горьких предположений, он старался отогнать их.
Из всего вагона только он один сошел на маленькой станции с неприметным названием Дубинская. Почему ее так назвали двести лет назад – никто из самых закоренелых старожилов не знал.
То, что увидел Шадрин в следующую минуту, захлестнуло его трепетной радостью. Навстречу по перрону бежала девушка в ситцевом цветастом платье. Она бежала так легко, что, казалось, не касалась своими туфельками перрона. Красивая, стройная, с венком тяжелых русых кос на голове.
– Иринка! – вскрикнул Шадрин, идя ей навстречу с распростертыми руками.
Иринка налетела на Дмитрия, как ветер. Могла ли она в эту минуту даже подумать, что ее старшему брату, тому самому брату, который носил ее на руках, когда она уже училась в школе, врачи запретили поднимать даже маленькие тяжести. Иринка повисла на шее Дмитрия и смешала все в одно: поцелуи, визги, упреки.
А там где-то неловко семенила мать. Дмитрий видел ее, он знал, что тяжело ей поспевать за летучей, как ветерок, дочерью. И тут же с радостью подумал: «Ну, слава богу! Мать здесь, значит, все в порядке». От сердца точно отвалили тяжелый холодный камень.
А вот и Петр. Младший брат. О, как он вымахал за эти пять лет! Он волнуется, он не находит слов от радости: ведь приехал старший, любимый брат, приехал из Москвы. Обнялись так, что старший Шадрин чуть ли не взмолился:
– Осторожней, раздавишь!
Силенкой природа младшего брата не обидела. Встреться он Дмитрию где-нибудь случайно, то вряд ли узнал бы в этом высоком и даже чуть-чуть сутуловатом восемнадцатилетнем парне того самого Петьку-Петюньку, которого в детстве на горбушке переносил через канаву, когда по валу ходили купаться на озеро. Петр говорил ломающимся баском.
Запыхавшись, вытирая на ходу слезы, подоспела и мать. В том же коричневом кашемировом платке, в каком Дмитрий видел ее по праздникам десять и пятнадцать лет назад, в той же старомодной плисовой кофточке, в которой она венчалась.
– Да что ты такой худой-то? Господи, неужто нездоров? – сокрушалась мать, не спуская глаз с сына. Об операции, которую перенес Дмитрий, она ничего не знала.
Иринка от счастья не стояла на месте. Она то поднимала с земли чемодан, то ставила его снова и все тянула за рукава братьев.
– Ну ладно вам, наговоритесь дома, пойдемте же!
– Ты уж прости нас, сынок, за телеграмму. Неделю назад ко мне привязалась такая лихорадка, так трепала, что температура выше сорока поднималась, аж в беспамятство бросало. Думала, что и не встану. А когда потеряла сознание, Иринка кинулась за врачом, да и телеграмму тебе тут же отбила. Уж больно она испугалась.
Домой шли торфяным валом, что тянулся за огородами. Лет пятнадцать назад мелиораторы из Москвы вырыли канаву, соединившую два озера. Ходили слухи, что в селе будут строить крупный торфяной комбинат государственного значения. Уже были завезены какие-то сложные машины, но вскоре грянула война и о комбинате совсем забыли. Машины куда-то увезли, а кирпичную кладку начатых корпусов растащили на печки, на ремонт школы, на погреба.
Утоптанная дорожка торфяного вала мягко пружинила под ногами. По обеим сторонам вала тянулись канавы. Когда-то в детстве Дмитрий в них купался и даже учился плавать. Теперь они заросли камышом и были затянуты тиной и лабзой. Справа лежало село, слева в знойном мареве дремал рям. Острый запах отцветающего багульника винным настоем бил в ноздри, отчего с непривычки у Дмитрия слегка кружилась голова. На полдороге остановились отдохнуть. Попавшийся навстречу белый, как лунь, старик снял картуз и поклонился:
– С приездом, Егорыч! Захаровна, что, дождалась сынка?
– Дождалась, Кузьмич, дождалась!
– Это хорошо, что приехал. А мои уж никогда не приедут. – Старик перекрестился, надел картуз и, что-то шепча себе под нос, пошел дальше.
– Кто это, мама? – спросил Дмитрий.
– Неужто не узнал?
Дмитрий смотрел в сутулую спину старика, но так и не мог припомнить: кто же это мог быть.
– Да это же дед Ионихин, Прохор.
– Неужели это он?
В памяти Дмитрия мгновенно всплыли картины далекого детства. Однажды с ватагой ребятишек он залез в огород к Ионовым, и его поймали. Дед Прохор тогда был еще ладным и крепким мужиком. Стянув с Дмитрия штаны, он до тех пор стегал его крапивой, пока на истошный крик не сбежались соседи и не вырвали мальчишку из цепких рук. Дня три ходил Митька с волдырями на лодыжках, ел стоя. С тех пор больше никогда не лазил по чужим огородам.
– А где же его внуки Николай и Семен?
Мать вздохнула.
– Как ушли в начале войны, так оба и не вернулись. На Николая похоронная пришла еще в начале войны, Семена убили прямо под Берлином.
– А Саня Говор жив?
– Чего это ты его вспомнил вдруг?
Саня Говор был деревенский дурак. Лет двадцать назад он пришел в районное село из какой-то глухой урманской деревни, жил тем, что подавали добрые люди, зимой спал в банях, летом коротал ночи где-нибудь на задах, за огородами, у костра. Это был безвредный здоровенный дурак, которого вечно дразнили ребятишки, бросая в него каменья и палки. Особенно не любили его собаки. У Сани Говора был хороший слух и густой бас, которому мог позавидовать даже профессиональный певец. Его любимой песенкой была песня про Дунин сарафан. Кто и когда обучил его этой песне – никто не знал, но, когда его просили спеть, он неизменно пел только эту песню.
– Нет Сани. Войну пережил, а на второй год весной как в воду канул: не то умер, не то куда ушел.
Дмитрий вспомнил: где-то он читал, что раньше в деревнях такие, как Саня, неожиданно и неизвестно откуда появлялись и так же неожиданно неизвестно куда исчезали. Саню Говоря ему было жалко. Ему, Дмитрию, даже стало немножко больно и грустно, когда он вспомнил, как однажды, в детстве, когда ему было лет десять, они стригли Саню Говора большими овечьими ножницами. Наделав на его крупной голове множество безобразных лестниц, они оставили на затылке хохол и со смехом разбежались. А потом, улюлюкая и подсвистывая, сопровождали его до самого ряма. Дальше, в лес, идти побоялись: остаться наедине с дураком в ряму, где водились змеи, было страшно.
Дмитрий вздохнул и взглядом окинул болотистую опушку ряма, где когда-то разорял утиные гнезда.
– Значит, нет в селе больше дураков?
– Как нет, есть. Но теперь они другого сорта…
Мать не договорила, вздохнула.
Дмитрий по-своему понял слова матери. Видно, здесь есть люди, которые чем-то обидели ее…
Как всегда с приезда, разговор не клеился. Дмитрий расспрашивал о пустяках: когда отелилась корова, какая масть бычка, подросли ли в палисаднике тополя, которые Дмитрий с братьями сажал еще до войны…
Иринка тянула братьев идти по улице. Ей не терпелось пройтись на виду у людей, под окнами, со своим старшим братом-москвичом, на зависть ровесницам-подружкам. Но Дмитрий настоял на своем, пошли огородами. Он был небрит, пиджак и брюки на нем с дороги были помяты. Не хотелось ему в таком виде показываться на глаза односельчанам.
– Что же Сашка не пришел встречать? – спросил Дмитрий, когда свернули к своему огороду.
– Его мобилизовали, – ответил Петр.
По его доброму счастливому лицу Дмитрий видел, что он готов был взвалить на свои покатые плечи несколько чемоданов. Шел он легко, играючи, будто нес на себе пустую плетеную корзинку. Сила из него так и выпирала.
– Куда мобилизовали?
– Караулить этих самых… кого на Север да на Дальний Восток отправляют. Нетрудовой элемент.
– Какой нетрудовой элемент?
В разговор вмешалась мать. Мудрая от природы женщина, к вопросу Дмитрия она отнеслась как к важному и серьезному разговору и рассказала, что в село согнали из деревень человек двадцать мужиков, заперли их в большом сарае, где когда-то была милицейская конюшня, и теперь эти мужики ждут решения своей судьбы. А судьбу их будет решать народ на сходе. Сход назначен на субботу, в районном клубе.
– Их охраняют?
– Как же, с ружьями, как и полагается.
Дмитрий вспомнил жидкобородого мужичонку в вагоне, который сошел в Барабинске, и решил, что пока он находился в дороге, в стране началась важная государственная кампания по борьбе с нетрудовыми и паразитическими элементами, которых хотят принудительно заставить работать в малонаселенных районах Сибири и Севера.
Утоптанная стежка, как и раньше, тянулась через буйно разросшийся картофель, посреди огорода. Слева, в клеклой низине, где весной особенно долго стоит снеговая вода, торчали тонконогие рыхлые саженцы капусты, которую, как видно, полили перед тем, как пойти на станцию: донышки лунок еще сыровато чернели. Откуда-то потянуло горьковатым дымком русской печки. Пахнуло запахом перепрелого навоза и еще чем-то таким родным и терпким, что присуще только их, шадринскому двору. Прямо из-под ног Петра вспорхнула маленькая птаха.
По огороду шли молча. Каждая грядка моркови, каждый подсолнух, гордо вознесший свою златокудрую голову над зеленой картофельной ботвой, захлестывал Дмитрия грустной радостью воспоминаний. Университет, Москва, Ольга… – как все это сейчас было далеко. Как и десять лет назад, он ощущал себя тем же Митькой, которому свой дом, свой двор, свой огород казался обособленным царством, целым миром. Все было так, как и раньше: и обнесенный сучковатым частоколом огуречник, низенькая, до половины врытая в землю саманная баня, которую топили по субботам, изрубленная почти до основания толстая березовая чурка, на которой рубили дрова.
Даже пестрые куры, рыскающие по двору в поисках лазейки в огуречник, и те казались такими, какими они были пять, десять лет назад: дотошные, неутомимые.
С улицы, виляя хвостом, пробежал широкогрудый здоровенный пес с темной спиной и желтоватыми тигристыми полосами по бокам.
– Верный, Верный! – Дмитрий принялся ласкать повизгивающего пса. – Узнал, смотри, узнал!
– Сынок, да это не Верный, это уже потомство Верного, Пиратом назвали.
– А как здорово походит на Верного! – с восхищением удивился Дмитрий. – Сколько ему?
– Три года уже. Щенком от Трубициной Розки взяли, – ответил Петр и поставил чемодан на крыльцо, добела выскобленное и застланное половиком.
– А где же Верный?
– Или кто убил или увели деревенские. Да разве мы не писали тебе в письме, что он пропал?
– Нет, не писали.
Мать рассказала, как горевали они, как долго искали любимого пса, который пропал в один из воскресных дней. В этот день, как обычно, с утра до вечера он пропадал у мясных рядов на базаре, где ему перепадало от мясорубов.
– Три дня подряд с крыши в самоварную трубу Сашка кричал. Как сквозь землю провалился.
Изба Шадриных состояла из кухни и горенки. Добрую половину кухни занимала русская печь. У окон стоял почти до основания проскобленный (так что на нем бугрились шишками сучки, которые не поддавались кухонному ножу), чистенький, промытый до желтизны сосновый стол: работа покойного отца. Сосновые табуретки, как и стол, были выскоблены и промыты. На полу ни одного следа. Наверное, вымыли перед тем, как пойти на станцию. У порога лежал половичок из старой мешковины. В левом переднем углу кухни, над бабкиным сундуком, на треугольной божнице стояла запыленная, прокопченная иконка величиной с книгу. Сразу же над дверями, так что высокий человек мог задеть головой, тянулись полати, где хранился весь шадринский хлам: старые, никому не нужные валенки, превратившиеся в лохмотья полушубки и ватные фуфайки, деревянное стиральное корыто, похожее на детский гробик (в этом корыте мать купала ребятишек, когда они были маленькие), оставшийся от отца плотничий инструмент…
На столе в громадном блюде, накрытом чистеньким вышитым рушником, млели в горячем масле пироги. Тут же, рядом с блюдом из-под рушника зеленело донышко бутылки.
В кухне все было так же, как и пять лет назад, только потолок осел еще ниже да окна изрядно покосились. Даже сверчок, тянувший свою вековую, на один лад песню, и тот словно бы говорил, что все здесь по-старому, как было в дни, когда Митька, забравшись с младшими братьями Петюшкой и Сашкой на печку, проводил часы за ловлей сверчка-невидимки.
Дмитрий вошел в горенку. Потолок в ней прогнулся и осел еще ниже, чем в кухне. «Как сдала изба за пять лет», – подумал он и принялся рассматривать карточки, которыми было увешано полстены. Каких только здесь не было фотографий: и в рамках, и без рамок, родные и знакомые, дети и взрослые… На подоконниках в глиняных горшках, оклеенных газетной бумагой, скромно красовалась герань. В самом большом горшке топорщился своими водянисто-прозрачными колючками столетник, который водится почти в каждой деревенской избе как средство от всех болезней. На широкой деревянной кровати, сделанной еще покойным отцом, пирамидой возвышались подушки. У глухой стены справа тянулась низенькая железная койка, застланная полосатым шерстяным одеялом, сотканным бабкой в молодости. В углу стояла этажерка с книгами. В переднем ряду были поставлены книги в ярких и новеньких переплетах. Пол горенки блестел: видать, выкрасили совсем недавно, перед приездом Дмитрия. Расшатанный столик, сколоченный лет пятнадцать назад отцом, был накрыт белой скатертью и застелен поверх зеленой филейной скатертью, тоже бабкиной работы. Как и раньше, все здесь стояло на своих старых, обжитых местах.
Мать хлопотала у печки. Иринка метнулась за Сашкой – сказать, чтоб поскорее шел к обеду, и если можно, то пусть отпросится у начальника: приехал брат из Москвы.
Осмотрев горенку, Дмитрий вышел в кухню и встал на приступку печки. Он услышал, как из сеней доносилось глуховатое бултыханье. По звуку догадался: Петька в большом черепичном кувшине, подвешенном на колодезной веревке к стропилам крыши, сбивал масло. Где-то из-под стрехи хлева неслось оглашенное кудахтанье. «Только что снеслась», – подумал Дмитрий, стоя на приступке печки и вороша на железном листе табак.
Самосад уже «подошел», было самое время его ссыпать с листа, чтобы не пересох. И снова захотелось закурить. Дмитрий уже взял было щепотку табаку, оторвал угол газеты, но, поборов себя, высыпал табак на лист и вышел из избы.
Заглянул в чулан. Там стоял холодок, пахнущий погребной плесенью. Лаз в погреб был открыт. Вдоль стены чулана на прохладной сырой земле рядком стояли накрытые выскобленными кружками крынки с молоком. Дальше, в углу, чернели щербатые горшки, туески, бутылки с керосином и сапожным дегтем и еще чем-то таким, что Дмитрий никак не мог разобрать: не то карболка, не то известка. На гнутом ржавом гвозде, вбитом в столб, висело старое порванное решето с зарубкой, которую сделал Дмитрий, когда был еще маленьким.
Сквозь щель в стене чулана острой золотисто-стеклянной полоской пробивался солнечный луч. К стене была приставлена оконная рама, обтянутая полотном. Дмитрий повернул раму и отступил к двери. На полотне была копия с картины «Утро Родины».
Дмитрий вынес картину во двор, поставил ее так, чтоб не задели снующие под ногами куры, и по памяти стал сравнивать ее с оригиналом, который он видел почти перед самым отъездом в Третьяковской галерее.
Копия показалась удачной. Об этом портрете он узнал два месяца назад. Мать писала, что Сашка выклянчил у нее новую простыню, которую она берегла в приданое Иринке.
Дмитрий поставил портрет назад в чулан и вернулся в избу.
– А хорошо Саша нарисовал.
Гремя печной заслонкой, мать отозвалась:
– Два месяца над ним колдует, одной краски перевел рублей на пятьдесят. Нарисует, а потом снова замазывает, и так раз десять, один извод, я уже из-за этого портрета исказнилась. Теперь, слава богу, кажется, закончил.
– Что же он стоит в чулане?
– Боится, чтобы мухи не обсидели. Собирается нынче после работы в клуб понесть.
– А возьмут?
– Говорит, что с руками оторвут. Да я тоже думаю, заплатить должны неплохо, уж больно похож получился.
Петр закончил сбивать в кувшине масло и теперь рубил дрова на баню. У Шадриных была традиция: для желанного гостя в день приезда всегда топилась баня. Высокий и сутуловатый, Петр размашисто и не торопясь поднимал над головой тяжелый топор и, со всей силой опуская его на березовую жердь, крякал, как заправский дровосек. В его скупых, расчетливых движениях сквозила мужицкая сила и неторопливая сноровка. С двух взмахов жердь, как перекушенная, сокращалась на длину полена. Дмитрий стоял в сторонке и любовался Петром. Когда остались две жерди, он подошел к брату.
– Дай-ка я попробую!
Петр широко и простодушно улыбнулся, молча передал топор Дмитрию.
Дмитрий загадал: если с двух ударов он перерубит жердь, то, значит, Ольга сейчас скучает о нем. Размахнулся до отказа, поднатужился и с силой опустил топор. Второй удар был неточный и слабей первого. Жердь была еще только надрублена. Лишь после пятого замаха сырое полено с искромсанным, измочаленным концом отлетело от жерди.
– Дай я сам, ты уже отвык. – Петр попросил у Дмитрия топор и поплевал на ладони: ему хотелось перерубить жердь за один взмах.
– Нет, погоди, я все-таки осилю ее с двух раз, – горячился Дмитрий и, оскалив стиснутые зубы – словно удар от этого будет сильнее, – снова поднял топор.
Изрубил две жерди, и только у вершины ему удалось пересечь березу с двух ударов.
«Все равно скучает!» – подумал он, перерубая остаток жерди.
Воткнув в пенек топор, он направился в избу.
На столе дымился горшок жирных щей. Пшеничный хлеб нарезан большими ломтями. Рядом лежали деревянные ложки.
– Сядь, перекуси с дороги-то, поди, голодный. А обедать уж будем после бани. Позовем Костюковых, крестный Аким придет, все об тебе спрашивает, совсем старый стал, все боится, что не дождется тебя.
Мать налила Дмитрию полстакана водки, Петру – чуть поменьше, себе – совсем на донышке.
– Это уж так, вроде бы для порядка, с тобой за компанию, сынок. За твой приезд! – Мать чокнулась с сыновьями и, горько морщась, выпила.
Выпил и Дмитрий. Закусил соленым огурцом. Зная страсть Дмитрия к огурцам, мать утром выпросила несколько штук у соседки, пообещав ей взамен капустной рассады, которой она славилась на всю улицу.
– Сашка все в пожарных? – спросил Дмитрий.
– Все там же, а где же ему с его образованием. Только там ему и место. Лежи себе целый день-деньской и жди пожара. А в наших местах их сроду не бывало, стены обмазаны глиной, крыши из пласта, и гореть-то нечему.
– Ну, это ты зря, мама. В Москве и каменные дома горят.
– Каменные? – удивилась мать и хотела что-то спросить у сына, но в это время дверь с шумом отворилась, и в избу вихрем влетел запыхавшийся Сашка. Следом за ним вбежала Иринка.
Обнялись, расцеловались. Рассматривая друг друга и не зная, что сказать в первую минуту, Дмитрий и Сашка стояли и переминались с ноги на ногу.
– А ты тово… стал… этого… ну, сам понимаешь… – Оторопевший от радости Сашка подыскивал подходящее слово.
– А ты тоже того… этого… – Дмитрий захохотал, хлопая брата по плечу. – В общем, сам знаешь: в огороде бузина, а в Киеве дядька!
– Нет, правда, здорово возмужал, – нашелся, наконец, Сашка.
– И я про то же самое. Прямо не узнаю тебя. Хоть бороду отпускай.
Сашке шел двадцать третий год.
Из братьев он рос самым отчаянным. Не зря его с детства звали Батькой Махно. Удаль так и кипела в его серых глазах. Густая копна каштановых волос тяжелыми волнистыми наплывами спадала на виски, закрывая уши.
В его дерзком цыгановатом профиле, в котором сквозило что-то диковато-разбойное, проступал непокорный отцовский нрав.
– Ну что же, гуси-лебеди, по чарочке, по маленькой, чем поят лошадей? Все-таки как-никак, а прошло пять лет! Мать, что это у тебя на столе хоть шаром покати?
– А тебе так и не терпится! Садись, похлебай щей, а чем поят лошадей – после бани. Нетто отпросился, что к чарочке-то потянулся?
– Отпустил начальник.
После легкого обеда мать и Иринка стали готовиться к встрече гостей.
Петр и Сашка занялись баней.
Пока мать и сестра хлопотали у печки, Дмитрий принялся разжигать самовар. Раздувая старым сапогом угли, он думал: «А была ли война? Был ли университет? И вообще, – было ли все? Неужели целых десять лет я не жил дома?»
Из поддувала самовара уже давно летели огненные искры, а Дмитрий, размечтавшись, все сжимал и сжимал в гармошку голенище ялового сапога.
Как и в былые годы, первыми пошли в баню мужики. С братьями Шадриными увязался соседский старикашка дед Евстигней, который уже давно потерял счет своим годам, но твердо помнил, что в японскую войну ему было сорок лет и что старшая дочь его в тот год вышла замуж.
Баня была сложена из самана и топилась по-черному.
Отвык Дмитрий от такого мытья, но решил, как и до войны, попариться. Залез на полок, хлестнул раза три веником по плечам и тут же, как ошпаренный, соскочил на пол, вслепую ища кадку с холодной водой. Сердце в груди билось так, что казалось: стоит еще минуту пробыть в таком адском пекле, и оно не выдержит, разорвется. Дмитрий окатил лицо холодной водой и почувствовал себя легче.
– Что, москвич, паром сдуло? Не годится так, не по-нашему. – Размачивая в кадке с горячей водой веник, дед Евстигней (с виду посмотреть: в чем душа держится, как кащей бессмертный) надел на лысую голову старенькую шапчонку, плеснул на раскаленные камни ковш воды и, перебирая высохшими руками, полез на полок. Волна сухого горячего пара обдала Дмитрию бок.
С каждом ударом веника дед Евстигней со смаком кряхтел и сипловато приговаривал:
– Так-так… Так-так… А-а-а… А-а-а!.. А ну, Санек, поддай еще ковшик, а то уж больно свербит спина, язви ее в душу!
– Мы и так еле дышим, а ты поддай.
– Поддай, поддай! Не жалей, бабам хватит пара! – Голос старика стал моложавей и властней. – А ну, кому говорят, подкинь ковшик!
Когда Сашка зачерпнул из кадушки воды, чтобы поддать пару, Дмитрий и Петр выскочили в предбанник.
Почти из дверей, пятясь от парной, Сашка плеснул полный ковш на раскаленную каменку. Пригнувшись, он тут же выскочил из бани и крепко закрыл за собой дверь.
– Ну, дед, отдавай богу душу! Только предупреждаю при свидетелях, я за тебя не отвечаю! – через дверь кричал Сашка деду Евстигнею.
Из бани доносилось неизменное: «А-а-а… А-а-а!.. Так-так…»
С распаренных спин братьев валил пар.
– Ты скоро там? – закричал через дверь Сашка.
– Обожди, вот спущусь сейчас, еще ковшик плесну, тогда и будет, – отозвался дед Евстигней. Было слышно, как зашипела каменка, как снова заходил веник по худым бокам старика.
Наспех, кое-как ополоснувшись, Дмитрий вышел из бани, как пьяный, слегка пошатываясь. С него градом лил пот.
– С легким паром, крестничек! – встретил его во дворе дед Аким. Сняв фуражку, он обнял Дмитрия за плечи и ткнулся седой, аккуратно расчесанной бороденкой в его щеку. – Гляди-ка, какой ты стал! Тебя теперь и не узнаешь.
– Не ты один, крестный, стареешь.
– Да, что верно, то верно. Седина в бороду, а черт в ребро. И у тебя, я вижу, белая паутина к волосам прилипла. А рановато, мы в твои годы, как грачи, черные ходили.
Вскоре пришли и Костюковы. С ними у Шадриных водилась давнишняя дружба, которую завязали еще покойные отцы.
Не отстал и дед Евстигней. Почуяв, что может перепасть чарочка, пришел спросить: не Дмитрий ли потерял в бане пуговицу. Присел на табуретку у печки, вроде как бы отдохнуть, а сам со стола глаз не сводит. Ушел только тогда, когда осушил чарку водки и закусил зеленым луком да ломтиком посоленного хлеба. От удовольствия крякнул, вытер ладонью усы и на прощанье сказал:
– Вот уважил, Митяшка! По кровям так и пошла, так и заиграла, ей-богу. – Надев картуз, дед Евстигней тронулся к дверям. – Хлеб-соль вам и доброй компании. Ну, я пошел. Не обессудьте, что незваным гостем явился.
В этот вечер до первых петухов из избы Шадриных неслись песни. Какие только не пели: веселые и жалобные, новые и старинные.
Пел и Дмитрий. Кажется, никогда еще в жизни он не пел с таким чувством. Особенно отводил душу, когда Сашка начинал какую-нибудь русскую народную, которую тут же дружно подхватывали все. Пели про Стеньку Разина, про бродягу, бежавшего с Сахалина, про лихую тройку…








