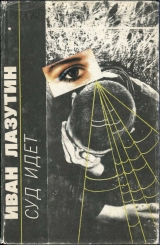
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 35 страниц)
Первый день Димка и Рыжий до позднего вечера толкались то в коридоре, то в тамбуре, стыдясь попадаться на глаза соседке по купе.
На второй день, рано утром, они вышли из вагона на пустынный перрон Свердловска. Большой незнакомый город. Большие каменные дома, огни… Много огней… Здесь уже выпал снег. Город выглядел чистеньким, словно его только что выбелили известкой без подсиньки.
Первый человек, с кем им пришлось разговаривать, был постовой милиционер. Поманив к себе Димку и Рыжего, он валкой, неторопливой походкой направился им навстречу. В душе у Рыжего защемило. Больше всего на свете он боялся ходить ночью через кладбище и иметь дело с милицией. Но ничего не поделаешь, в чужом городе от нее не убежишь.
– Откуда? – спросил милиционер.
– Мы из Дубинской, – дрогнувшим голосом ответил Рыжий.
– Это где такая?
– А это за Чухломой, в сорока километрах.
– Паспорта! – строго, как приказ, прозвучал голос милиционера.
Димка и Рыжий полезли за пазуху, где у них были зашиты документы.
Милиционер внимательно проверил паспорта, прочитал справки из сельсовета, даже отметки в школьных табелях и те пробежал глазами.
– Зачем приехали?
– Поступать на работу.
– Куда?
– Где примут, может, на фабрику, может, куда на завод.
Милиционер повертел в руках паспорта, вложил в них справки.
Не чувствуя под собой ног от радости, что не забрали, Димка и Рыжий кинулись в первый подвернувшийся на пути переулок.
Было шесть часов утра. Город только просыпался.
Димка хотел спросить у пожилого прохожего, где находится Дом крестьянина, но Рыжий со злостью огрызнулся:
– Вот еще! Спрашивать будем! Позориться только! Сами найдем!
И они искали. Читали все вывески и рекламы, попадающиеся на глаза. Бродили час, бродили другой, а Дом крестьянина никак на пути не попадался.
– Может, спросим? – нерешительно предлагал Димка.
– Вот еще! – отмахивался Рыжий. – Столько искали, а еще немного не можешь поискать.
Прошел еще час в бесплодных поисках. Уже рассветало, над городом поднялось ясное, холодное солнце.
– Может, все-таки спросим? – еще раз предложил Димка.
Рыжий молчал, сосредоточенно вчитываясь в какую-то маленькую дощечку, прибитую на заборе. В следующую минуту он судорожно махнул рукой и рысью кинулся за угол.
Оставшись один, Димка остановил прилично одетого прохожего и спросил у него про Дом крестьянина.
– Сам-то не здешний? – с улыбкой спросил пожилой мужчина в кожаном пальто.
– Нет, издалека.
– В Свердловске нет домов крестьянина. Здесь есть гостиницы и дома для приезжающих, там подешевле будет. Ищете где остановиться?
– Да, – тихо ответил Димка, косясь на забор, из-за угла которого вот-вот должен показаться Рыжий.
Прохожий подробно объяснил, как добраться до ближайшего дома для приезжающих. Димка поблагодарил его и двинулся к забору, из-за которого выкатился Рыжий.
…Вот они, наконец, на месте. Дежурный администратор оглядел их с ног до головы и, не читая документов, пробубнил:
– В баню сначала. Хорошенько прожарьте белье, а потом приходите, да справку не забудьте взять.
– Какую справку? – растерялся Димка.
– О том, что прошли санобработку. Там знают какую. Скажите, что нужна обработка.
Голодные и «обработанные», со справками на руках, Димка и Рыжий вернулись в дом для приезжающих.
Им отвели койки в разных комнатах.
Так началась жизнь на чужбине, вдали от родительского дома. Два дня Димка и Рыжий бродили по городу, заходили в конторы, толкались у проходных фабрик, искали подходящей работы, но «подходящей» работы никто не предлагал. Везде нужны были специалисты. А деньги были на исходе. На третий день Рыжий, читая на доске справок объявления, где, как правило, требовались слесари, токари, инженеры, техники… неожиданно для себя наткнулся на объявление в областной газете.
В объявлении извещалось, что открыт прием в спецшколу военно-воздушных сил. Оба друга и раньше спали и грезили стать летчиками. А тут вдруг нате: принимают даже с семилеткой. Окрыленные, они пешком кинулись по адресу и через полчаса были в школе.
Капитан, встретивший их, спросил:
– Где остановились?
– В доме для приезжающих.
…Пройдена медицинская комиссия. Оба признаны годными для спецшколы. Радости нет конца. Только капитан, который, как показалось Димке, был себе на уме и чему-то постоянно улыбался, вдруг неожиданно спросил:
– А денег у вас хватит, чтобы жить месяц, пока начнутся занятия?
Рыжий почесал за ухом и вопросительно посмотрел на Димку. Поняв его ободряющий взгляд, он деловито ответил:
– Заработаем, не маленькие.
– Где?
– Наймемся где-нибудь.
Капитан все с той же улыбочкой посмотрел на неунывающих сибиряков и заключил:
– Ну, ну… Давайте. Если будет туго – приходите, что-нибудь подыщем.
И они ушли.
В доме для приезжающих на Димку напала бессонница. Рыжему не терпелось скорее дождаться занятий, чтобы надеть летную военную форму, сфотографироваться в ней и послать домой. Он уже представлял, какой переполох наделает весть о том, что рыжий Семка будет летчиком.
Деньги кончились. За койки платить было нечем. Администратор предупредил в последний раз: в случае неуплаты их лишат мест и задержат паспорта до уплаты задолженности.
Наконец на третий день нашлась сдельная работа: пилить дрова при районной школе пионервожатых.
Над городом каждое утро нежным белым саваном ложился снег. Без варежек мерзли руки. Воротники приходилось поднимать так, чтоб холодный ветер не забирался за шиворот.
Директор школы попался чудак. Узнав, что на работу к нему нанимаются будущие курсанты летного спецучилища, в шутку он окрестил их «летчиками», что втайне льстило и Димке и Рыжему. Но в первый же день случился конфуз, который чуть ли не разрушил трудовое соглашение между директором и «летчиками».
Будучи от природы застенчивым и нелюдимым, Рыжий особенно не любил общество девушек. Когда они были рядом, он стеснялся. А тут как на зло: не успели они испилить несколько березовых бревен, как раздался звонок, и из школы хлынула целая ватага девушек.
– Летчики! Летчики! – кричали они на ходу.
Пила вывалилась из рук Рыжего. Он стоял на коленях, с надвинутой глубоко на уши фуражкой и не знал, что ему делать. Оробел окончательно. Щеки его залились краской стыда.
А девушки не унимались. Окружив пильщиков, они, перебивая друг друга, засыпали их вопросами:
– А страшно летать высоко?
– А вы нас покатаете на самолете?
– Ой, девочки, не могу! Всяких летчиков перевидала, а таких вижу в первый раз! Прямо на Чкалова походят!
– А вот этот рыженький такой же курносый, как Водопьянов!
– Только ростом до пояса Водопьянову.
Состояние Рыжего было такое, что он был бы бесконечно рад, если бы прямо рядом с пилой, которая еще продолжала качаться и тихонько звенеть, прямо у ног его, в самом центре девичьего круга разорвалась бомба. Пусть гибнет все: он, Димка, девчонки… Только бы оборвать эти минуты стыда и позора. Но бомба не разорвалась. К ногам Рыжего упала не бомба… а окурок, который он спрятал у козырька фуражки.
– Глядите, глядите, девчонки, какие дорогие папиросы курят летчики!
– Ой, не могу!..
Рыжий не выдержал. Окинув девушек сердитым взглядом, он встал и, как молоденький бычок, нагнув голову, сопел.
Спас звонок и строгий окрик дежурного по школе. Девушки, обгоняя друг друга, кинулись в помещение, а Рыжий все стоял на одном месте и не мог окончательно прийти в себя.
– Не буду больше пилить! – наотрез заявил он Димке.
– А жить на что?
– Не буду, и все! – твердил Рыжий.
Димке пришлось пойти на компромисс: пилили во время уроков. Как только в школе раздавался звонок, Рыжий бросал пилу и без оглядки убегал в соседний магазин игрушек, куда следом за ним шел Димка.
Так прошло три дня. Все дрова были перепилены и сложены в штабеля.
Заработанных денег хватило на неделю. Снова поиски работы. Выручил капитан, следивший за жизнью двух упрямых сибиряков, которые в школу приходили почти каждый день, но помощи не просили. Когда же капитан с трудом допытался, что его будущие курсанты второй день сидят на одном хлебе и воде, он подошел к Рыжему и, глубоко затянувшись папиросой, озабоченно сказал.
– Вот что, Реутов, ступай на второй этаж и подмени секретаря начальника. Старик, кажется, заболел. Работа у него немудреная, он вам сам все объяснит.
Рыжий вышел от капитана, даже не взглянув в сторону Димки: тут было не до землячества. По коридорам и лестницам взад и вперед сновали курсанты и преподаватели. Но Рыжему было не до них. Он жадно искал дверь на втором этаже, где работал секретарь.
Но вот, наконец, то, что он искал. На черной табличке серебряными буквами было написано: «Секретарь партбюро». «Все! Нашел!» – обрадовался Рыжий и нерешительно открыл тяжелую дверь. «Наверное, голова разболелась», – подумал он, увидев за огромным столом пожилого человека, озабоченно склонившегося над какими-то документами. Прямо от двери к столу секретаря вела длинная дорожка. Кашлянув в кулак, чтобы дать знать о себе, Рыжий двинулся к столу. Секретарь поднял глаза и, видя, как бесцеремонно шел навстречу ему вихрастый подросток в застиранном сереньком пиджачке и грязных сапогах, встал. Он был озадачен: без стука к нему не входили даже офицеры.
– Что скажете, молодой человек?
– Я пришел вас сменить.
Секретарь всем корпусом подался вперед и замер над столом.
– То есть как сменить?
Рыжий объяснил:
– Послали немного поработать за вас… Пока вы поправитесь…
Секретарь еще более был озадачен. В первую минуту ему показалось, что над ним кто-то хочет подшутить, а поэтому сердито спросил:
– Кто вас послал сюда?
– А капитан Федотов.
– Что он вам сказал?
– А что вы больны, а меня послал подменить вас, поработать за вас.
Секретарь, хмурясь, снял телефонную трубку, соединился с капитаном Федотовым и после первых же двух вопросов, которые он задал секретарю приемной комиссии, разразился таким хохотом, что Рыжий окончательно растерялся и стоял краснее вареного рака.
Нахохотавшись вдоволь, секретарь партбюро положил телефонную трубку.
– Молодой человек, вы ошиблись дверями. Вас послали не меня подменить, а секретаря начальника. Есть у нас старичок такой, зовут его Михаилом Ивановичем, он от меня через две двери. Так вот, ступайте к нему и скажите, что вас послали на помощь к нему. У него много работы по приему, и один он не справляется.
Старичка Михаила Ивановича Рыжий не нашел. Боялся влететь в новую историю. Он вернулся на первый этаж к капитану Федотову и нерешительно открыл дверь.
Федотов, как и секретарь партбюро, тоже долго и от души смеялся над ошибкой Рыжего, а потом, словно что-то вспомнив, озабоченно кивнул Димке.
– Вот что, друзья, садитесь за этот стол и пишите.
Димка и Рыжий нерешительно сели за стол и робко глядели на капитана, который расхаживал по кабинету с хитроватой затаенной улыбкой. Потом он дал им по листу бумаги, ручки, пододвинул поближе чернильницу и приказал:
– Пишите!
Димка и Рыжий не понимали, что они должны писать. Притаились.
Капитан продиктовал несколько предложений, подошел к столу, взял исписанные страницы и, подмигнув Рыжему, присвистнул.
– С твоим почерком, Реутов, можно писать письма турецкому султану.
Рыжий насупился. Он до сих пор не понимал, какому испытанию его подвергают. Грешным делом где-то на донышке души даже екнуло: «А что, если отчислят?» О том, что у него безобразный почерк, Рыжий слышал с первого класса.
Капитан подошел к Димке.
– А у тебя ничего. Прямо-таки, можно сказать, прилично. Будешь техническим секретарем в приемной комиссии. А ты, Реутов, – капитан пальцем указал на Рыжего и тут же рассмеялся, заметив, как тот внезапно побледнел и встал, – будешь водить голых на медкомиссию. Питаться будете оба в школьной столовой, жить будете в казарме.
У Рыжего отлегло на сердце. Хоть и не улыбалась ему перспектива водить голых на комиссию, но главное, что не отчислили за безобразный почерк.
Через две недели начались занятия. На последние деньги Димка и Рыжий сфотографировались в новой летной форме и заказными письмами послали домой карточки.
Никто: ни Димка, ни Рыжий, ни даже капитан Федотов не предполагали, что не пройдет и полгода, как ранним июньским утром тревожный и прибойный, как морские валы, голос Левитана затопит страну печальной вестью. «Война!» Это страшное слово бедой врывалось в семьи. Оно разлучало матерей с сыновьями, жен с мужьями, невест с женихами… Слово «война», несущееся неумолимым девятым валом, ломало все планы, разлучало человека с его мечтой, крушило надежды.
Трудно было понять в первую минуту, что случилось. И только скорбные лица пожилых людей, знающих, что такое «война», говорили: на Родину накатывается большая беда.
…Картины далекого детства проплыли перед глазами Дмитрия так отчетливо, что ему показалось: все это было только вчера, а не десять лет назад. И вот теперь он лежит в родном чулане и слушает, как за огородами, в болоте, квакают лягушки. Все как в детстве: те же звуки, те же запахи, то же надсадное дыхание коровы за мазаным плетнем. Та же луна, печальная и одинокая, застыла в россыпи голубоватых звезд. Только в душе появились новые чувства и ощущения. Москва, университет, Ольга, прокуратура – не сон ли все это?
XIII
Солнце садилось. Дмитрий подошел к сельскому клубу. Первое, что бросилось ему в глаза – необычный народ собрался у клуба. Молодежи почти не было. Стояли и сидели пожилые, семейные люди. По натруженным рукам, по загорелым лицам мужиков он догадывался, что все они только что с покоса. Мужики курили и сдержанно переговаривались. Попадались знакомые лица. Но, встретив в их глазах холодок отчуждения, Шадрин понимал, что его не узнают. Рыжебородый костистый старик, присев на корточки и привалившись спиной к завалинке клуба, недоверчиво посмотрел на подошедшего Дмитрия и на полуслове оборвал фразу.
Мужики, примостившиеся на корточках рядом с рыжебородым, тоже замолкли. Чувствуя, что помешал, Дмитрий отошел в сторону.
– Да это, никак, Егоров сын? – услышал он за спиной чьи-то слова.
– Какого Егора?
– Покойного Шадрина, бригадира второй полеводческой.
– А ведь и правда, Кузьмич, сын Егора. Теперь я его вроде признаю. Такой же лобастый и обличьем весь в отца. Гляди ты, орел какой вымахал! А ведь до войны был во. – Сухонький мужичонка, признавший Дмитрия, поднял ладонь на аршин от земли. – Митькой зовут. Одно лето в моей бригаде копны возил. Старательный был мальчонка. Сейчас, наверное, в город дал тягу после фронта.
– А ты думаешь, в тебя, дурака, пошел? Как возил копны сто лет назад, так и сейчас тягаешь их, как вол. Он, брат ты мой, сейчас где-нибудь в городе делами ворочает. Гляди, какой костюмчик на ем.
– Шадринскую породу я знаю, кровя сильные, и масло в голове есть.
– В обиду себя не дадут.
– Да и кланяться перед людьми не станут.
Дмитрию хотелось продвинуться поближе и рассмотреть лица говоривших, но в это время к нему подошел Филиппок. Разглаживая левой рукой усы, он почтительно поздоровался с ним и покачал головой.
– Конец Гараське приходит, Егорыч.
– Не расстраивайтесь, дядя Филипп, решать будет не Кирбай, а народ. Если народ видит, что зря привлекли, то никуда его не выселят.
– Эх, мил человек, ты говоришь – народ! Вот посмотришь, как на этом народе сегодня Кирбай верхом поедет.
– Это уже совсем нехорошо, Филипп Денисович. Вы начинаете говорить лишнее. Я просил у вас пенсионную книжку Герасима. Принесли?
Филиппок достал из кармана пиджака документы Герасима. Была здесь и орденская книжка, и благодарности от командующих фронтов за проявленную храбрость при выполнении боевых заданий, и выцветшая вырезка из армейской газеты с фотографией Герасима, где он стоял в белом маскхалате с автоматом на груди.
– Гляди, Егорыч, как можно из человека сделать скотину. А спрашивается: за что? За то, что правды хотел добиться!
А народ все подходил и подходил к клубу. Встречались здесь и знакомые лица. Здороваясь с ними, Дмитрий старался держаться как можно проще, чтоб не чувствовалось того невидимого барьера, который с годами лег между ним и его одноклассниками. Большинство из них после семилетки пошли работать и сейчас уже обросли семьями. Но как ни старался он обращаться с ровесниками как ровня с ровней, все-таки чувствовал, что его собеседники напряженно и мучительно подыскивают умные слова и важные темы для разговора о политике, о погоде, о Москве… А Дмитрию хотелось говорить о другом. Вспомнив, как однажды – это было в пятом классе – конопатый Лешка Гараев гвоздями прибил к полу галоши старенькой нервной немки, он чуть не расхохотался, глядя в лицо постаревшего и не в меру серьезного Гараева, которого теперь все величали Алексеем Гавриловичем: главный бухгалтер райпотребсоюза что-то значит.
– Ты помнишь, Леша, как тебя на месяц исключали из школы за немкины галоши? – спросил Дмитрий, совсем не желая обидеть или подорвать авторитет главного бухгалтера.
От этого вопроса Гараеву стало не по себе. Он сразу как-то посерел в лице, закашлял.
– А вы как там, Дмитрий Георгиевич, в Москве своей поживаете? Мы-то что! У нас нет ни музеев, ни метро. Как она там, Москва-то? Бывал я в ней разок, когда с фронта ехал.
Шумит, Алеша, шумит Москва… – ответил Дмитрий, мысленно ругая себя, что в воспоминаниях своих не учел одного обстоятельства: рядом с Гараевым стоял его подчиненный Шкапиков, счетовод райпотребсоюза.
Выручил Гараева заведующий клубом, окликнувший его с крыльца.
Поспешно прощаясь с Дмитрием, Гараев уважительно потряс его руку и как бы оправдывался:
– Извини, Георгиевич, даже поговорить как следует не дают. Но ничего не попишешь – дела… – Улыбаясь, Гараев развел руками.
На выбитом «пятачке», шагах в пятидесяти от клуба, танцевала молодежь. Оттуда плыли унылые переливы баяна. Поднимая пыль, пары кружились легко, задорно. А баянист, припав левым ухом к темным мехам баяна, всю душу выливал в грустные и тягучие «Амурские волны». Дрогнуло что-то в Дмитрие. Не удалось ему в молодости потанцевать на кругу родного села. До армии был еще мальчишкой, взрослые ребята на танцы не пускали. Приходилось только глазеть со стороны да втайне думать: «Обождите! Вот подрасту – и я тогда…» А когда подрос – грянула война. Танцевать пришлось по колено в грязи на разбитых дорогах Смоленщины. Теперь можно было бы и потанцевать, но уже как-то несолидно. Задору нет, да и года не те. У ровесников уже дети ходят в школу, а он все еще холостяком бодрится.
Всматриваясь в лица танцующих, Дмитрий заметил, что на «пятачке» кружились девушки и парни не старше шестнадцати-восемнадцати лет. «Нет, все! Оттанцевался старина. Пора уступить место тем, кто помоложе». С этой грустной мыслью Шадрин направился в клуб, куда потянулся народ.
У крыльца его остановил Филиппок.
– Как думаешь, стоит выступить против Кирбая, когда зачнут разбирать Гараську?
– Смотрите, вам виднее, – ответил Дмитрий и совсем некстати улыбнулся, заметив вывернувшегося из-за угла деда Евстигнея. Стуча по пыльной дороге суковатой палкой, он тревожно остановился в отдалении и принялся из-под ладони смотреть слезящимися глазами на народ, столпившийся у входа в клуб. Подходить ближе не решался.
– Тут не до смеха, Егорыч. Я к тебе от души, со всей сурьезностью, а тебе шуточки, – обиделся было Филиппок. Но заметив деда Евстигнея, в сердцах плюнул: – Тьфу ты! И его, паларыча старого, на сход несет! Сидел бы на печке да грел свою тощую задницу. Ты чего, дед, притих? – окрикнул он остолбеневшего Евстигнея. – Чего притащился-то?
Дед Евстигней подошел ближе, но к крыльцу подходить боялся.
– Чего, спрашиваю, принесла тебя нечистая? – громче переспросил Филиппок.
– А велели…
– Кто велел?
– Как же, кликали, всех кликали. Кулачить, сказывали, будут.
– Кого кулачить! – По усам Филиппка пробежала ухмылка.
– А энтих самых… которые… барышничают да самогоном торгуют.
– И тебя, дед, в списки записали, тоже в Нарым сошлют! – пошутил долговязый вислоплечий мужик в синей рубахе и военной фуражке с треснутым козырьком.
– Э-э-э, сынок, – просипел Евстигней. – Меня, когда всех кулачили, и то не тронули, а сейчас разве что в Могилевскую губернию сошлют, да и то вряд ли, потому как охоты нет туда торопиться.
В наступившей тишине Дмитрий услышал, как за спиной его раздались тяжелые шаги. Он повернулся.
К клубу гуськом и парами подходило руководство района. Почтенно здороваясь на ходу со знакомыми, сухопарый скуластый председатель сельсовета Фитюньков приседающей походкой шел рядом с Кирбаем, отстав от него на полшага. Видно было, что он в чем-то оправдывался. Глядя себе под ноги, Кирбай время от времени кивал головой.
Десять лет Шадрин не видел Кирбая. За эти годы он очень изменился. Погрузнел, раздался в плечах. А главное: в осанке появилось новое выражение, которое можно выразить словами: «Что не подвластно мне?»
За широкой спиной Кирбая семенил небольшого роста, в серой гимнастерке человек с пухлыми, румяными щеками.
– Кто это? – спросил Дмитрий у Филиппка.
– Второй секретарь райкома партии Кругляков, – в кулак ответил Филиппок и с хрипом закашлялся, чтоб не слышали его слов.
За Кругляковым шел высокий хмурый человек в коричневом прокурорском кителе. На его впалых, до синевы выбритых щеках залегли две глубокие складки, которым уже никогда не суждено исчезнуть: прокурор от природы был астеник.
– А это райпрокурор Глушков, – просипел Филиппок над самым ухом Дмитрия. Закрывая ладонью рот, он делал вид, что расправляет усы. – Парень хороший, вострый, только новичок он у нас, еще не огляделся как следует.
Рядом с прокурором шел председатель райисполкома. Это был рыхлый и широкий в кости человек, которому давно уже перевалило за пятьдесят. Он шел походкой утомленного человека, с какой-то не то виноватостью, не то застенчивостью в лице.
– А этот?
– Сам предрика… Так себе, ни рыба ни мясо. Слабокарахтерный. Сеньку-то Реутова узнал?
– Узнал.
– Этот молоток! Этот шайтан далеко пойдет! Гляди, как глазами сучит! Так и играет, так и играет ими… И ведь тоже не жук на палочке, а секретарь комсомола, на трибуне по праздникам стоит. А говорун! Не видал таких! – Филиппок причмокнул губами. – Этому палец в рот не клади.
Когда замыкавший шествие Семен Реутов поднялся по порожкам крыльца и скрылся в сенях клуба, Дмитрий тронул за локоть Филиппка.
– Пойдем. Если надумаете выступать – не горячитесь.
– Эх, мать честная, курица лесная! – Филиппок сокрушенно вздохнул. – Если бы мне в детстве телок не изжевал язык! Я бы так высказался, что все ахнули!
Зал был битком заполнен народом, когда Дмитрий и Филиппок вошли в фойе. Ребятишек, пытавшихся прошмыгнуть между взрослыми, Настя хватала за воротники и, как котят, выталкивала в сени. Некоторые из них, кто половчее, уже успели просочиться в фойе и, спрятавшись за круглую печку, воровато озирались по сторонам: ждали момента, когда зазевается сторожиха, чтобы проскочить в зал.
Глядя на ребятишек, Дмитрий вспомнил свое детство. И его когда-то вот так же хватали за шиворот и по порожкам вытуривали из фойе клуба, когда он пытался без билета прошмыгнуть в кино или на спектакль. А когда все-таки удавалось проскочить – разговору было на целую неделю. Даже авторитет среди ровесников вырастал, будто подвиг совершил.
Сесть было негде. Дмитрий и Филиппок прошли в задние ряды, где, примостившись на корточках, расположились двое пожилых мужчин.
В зале стоял приглушенный гул, в котором время от времени сдержанно всплескивали мужские окрики: «Иван, сюда, сюда!», «Постой, на ногу, идол, наступил…»
За барьером, отделявшим зал от сцены, где во время спектакля обычно собиралась безбилетная детвора, сидели на низких скамейках четырнадцать мужчин. Сидели спиной к залу. Двое из них время от времени тревожно поворачивали головы назад и кого-то разыскивали взглядом в публике.
Не раз видел Шадрин арестантов в московских тюрьмах. Видел убийц, бандитов, спекулянтов… Видел фальшивомонетчиков, растратчиков… Но нигде не производили на него преступники такое тяжелое и смутное впечатление, как эти четырнадцать человек, посаженных спиной к залу. За неделю, которую их продержали под стражей, они осунулись, обросли щетинистыми бородами, землистые лица посерели – это Дмитрий видел по их щекам, когда они поворачивались к залу. Ему очень хотелось видеть глаза людей, посаженных на скамью за барьером.
В переднем углу, у печки, обитой черной жестью, сидели две женщины. Одна из них, та, что постарше, приглушенно рыдала, пряча в цветастый платок распухшее от слез лицо. Другая из последних сил крепилась, чтоб не расплакаться. Слезы подступали к горлу, она старалась их проглотить и после каждого глотка этой горькой горечи только выше поднимала свою красивую голову, гладко расчесанную на пробор.
– Вот он, Гараська, слева второй, – с дрожью в голосе произнес Филиппок. – Чернее земли…
– Я его узнал, – глухо отозвался Дмитрий, не спуская глаз с Герасима. – А кто это у печки сидит, рядом с той, что в цветастом платке?
– Нюрка моя, ай не узнал?
– Узнал. Так только спросил.
– И чего ее принесло сюда? Не бабье это дело.
Посредине сцены за длинным столом, на котором стоял графин с водой, начал располагаться президиум схода. Первым к столу ныряющей походкой подошел председатель сельсовета Фитюньков. Вытащив из кармана колокольчик, он взглядом окинул зал, положил колокольчик рядом с графином. Следом за ним из-за занавеса вышли председатель райисполкома, прокурор, Семен Реутов. Последним показался Кирбай. Расселись.
Шепоток, приглушенно носившийся в зале, смолк. Двести пар глаз неподвижно остановились на пятерке за столом, накрытым зеленым сукном.
Зачем Фитюньков позвонил в колокольчик – было никому не понятно. Очевидно, по всосавшейся в кровь привычке, выработанной на шумных заседаниях и собраниях. В зале и без того стояла такая душная тишина, что через открытую дверь слышно было, как где-то неподалеку от крыльца клуба утробно хрюкала свинья, подзывая повизгивающих поросят.
– Товарищи, сельский сход считаю открытым! – Фитюньков откашлялся в кулак и осмотрел зал. – На повестке дня один вопрос. Знакомство с Указом Президиума Верховного Совета СССР о выселении нетрудовых элементов в малонаселенные места Востока и Севера и обсуждение кандидатур, подпадающих под действие Указа. Для зачтения этого исторически важного документа слово предоставляется председателю райисполкома товарищу Агафонову.
Агафонов тяжело поднялся из-за стола и подошел к маленькой трибунке, на которую Фитюньков предусмотрительно успел поставить стакан с водой. Не торопясь, он надел очки. Читал медленно, время от времени астматически тяжело дыша. Лишь изредка прорывавшиеся задавленные всхлипы плачущей женщины в цветастом платке нарушали тишину замершего схода. В средине чтения Агафонов остановился: свинья с поросятами подошла к дверям клуба и, задрав морду, смотрела в зал. Агафонов метнул гневный взгляд в сторону председателя.
– Безобразие!
Пригнувшись, Фитюньков поспешно прошмыгнул между рядами и скрылся за дверью. Через несколько секунд с улицы донеслось хрюканье убегающей свиньи и писк поросят.
По лицам скользнули улыбки.
Фитюньков вернулся на свое место и как ни в чем не бывало принялся перекатывать в ладонях колокольчик.
Агафонов закончил читать, сел на свое место и вытер платком вспотевший лоб. Вид у него был такой, точно он собирался сказать: «Все, что мог, я уже совершил».
Пока читали Указ, Дмитрий следил за лицами в президиуме. Благодушный Кругляков послал Кирбаю две записки, на которые тот отвечать не стал, а только лениво кивнул головой. Семен Реутов не сводил глаз с тех четырнадцати, что сидели на низеньких скамьях за барьером, почти у самых ног президиума. Многих из них он знал в лицо. За последние четыре года ему не раз пришлось исколесить район вдоль и поперек. Проводил в деревнях десятки собраний, часто читал лекции, доклады. Особенно внимание его привлек узкоплечий мужичонка, крайний справа. В нем он интуитивно чувствовал неплохого человека.
«Откуда я его знаю? Что его привело сюда?» – думал Семен, силясь вспомнить его фамилию. Но так и не припомнив, он написал записку Агафонову. На том же клочке бумаги председатель райисполкома крупно вывел: «Цыплаков. Из Толмачевки».
Теперь Семен отчетливо вспомнил подробности знакомства с Цыплаковым. Это было полтора года назад, зимой. Цыплаков вез его в район. Дорогой их застиг такой буран, что они чуть не заблудились и не замерзли. Семен был в военной шинелишке и в сапогах. Если бы не тулуп Цыплакова, которым укрылся окоченевший Семен (сам Цыплаков остался в потрепанной телогрейке), то вряд ли вернулся он живым и здоровым из этой командировки.
Шадрин смотрел на Семена и видел на его лице растерянность и виноватость. Районный прокурор Глушков производил впечатление умного, с безупречной совестью человека. Такие люди внушают доверие с первого взгляда. Прямой открытый взгляд его не скользил по головам присутствующих в зале. Если он останавливался на ком, то задерживался надолго.
Со стороны могло показаться, что он сам мучительно пытался понять: все ли из тех, кто сидит за барьером, достойны такого тяжкого гражданского наказания, как административное выселение.
Кирбай сидел за столом с поднятой и слегка откинутой набок головой. Что-то невозмутимое и властное было написано на этом обрамленном жесткими седеющими кудрями лице.
– Гляди, как они сеют-веют перед Кирбаем, – тихо проговорил Филиппок, улучив удобный момент.
– А прокурор?
– Этот вроде самостоятельный.
– А Семен?
– Ох и хитрюга! Политику тонко держит. Казанской сиротой прикинулся. А знаю, что сам норовит ему в горло вцепиться. Не ладят они.
После того как члены президиума о чем-то переговорили, председательствующий Фитюньков взмахнул колокольчиком и провозгласил:
– А теперь, товарищи, приступим ко второй части нашего общего вопроса. Обсуждение лиц, подпадающих под действие Указа, с которым мы только что ознакомились. Вначале я зачту общий список семей, которые представлены на колхозных собраниях к выселению, как нетрудовые паразитические элементы. Потом будем в рабочем порядке обсуждать персонально каждую кандидатуру в отдельности. Итак, товарищи, предлагаю вашему вниманию список.
Фитюньков зачитал четырнадцать фамилий с указанием колхозов, деревень, сельсоветов, где проживают семьи, подлежащие выселению. В зале снова повисла пропитанная мужицким потом и махорочным перегаром тишина.
– Елистратов Федор Игнатьевич, рождении тысяча восемьсот девяносто девятого года, беспартийный, из кулаков, в колхозе работал всего четыре года, последние семь лет он и вся его семья занимаются торговлей овощами со своего огорода, а также перепродажей вещей, купленных на станции у проезжих пассажиров. Кто может подробно охарактеризовать эту семью?








