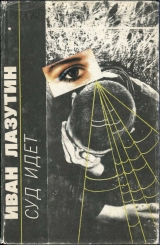
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц)
VI
Войдя в комнату общежития, Шадрин увидел на подушке записку.
«Дмитрий! Удивлен, что ты отказался от аспирантуры. В наше время это можно расценивать или как подвиг, или как жест шизофреника. А впрочем… может быть, ты прав. К теории нужно идти с плугом в руках, через целину практики.
Был у тебя – не застал. Зайду завтра. Жму руку. Зуев».
Шадрин порвал записку и бросил в урну. Зуева он не любил, считал его карьеристом. Последние два года тот предпринимал все, чтобы получить рекомендацию в аспирантуру: выступал почти на каждом заседании научного студенческого общества, был старостой кружка по теории государства и права, вечно крутился в деканате, часто провожал заведующего кафедрой до дома. А в кулуарах не раз с пеной у рта доказывал прописную истину, что «теория без практики мертва». Приводил при этом примеры того, в какой конфуз иногда попадают ученые-юристы, когда в аспирантуру идут прямо со студенческой скамьи.
«Негодяй!» – мысленно выругался Шадрин и повернулся к вытянувшемуся на койке Лютикову, который получил назначение в прокуратуру Красноярского края.
– Куда распределили Зуева?
– Известное дело – в аспирантуру. Он уже согласовал с будущим руководителем тему диссертации. Через три года Зуев будет нам в глубинку слать руководящие указания и станет обобщать опыт нашей работы. Вот так-то, Дима.
– Говоришь, будет слать указания?
– А как же? – Лютиков меланхолически зевнул. – Мы в оглоблях, а он на возу. Да еще с кнутиком в руках. «Но, но! – будет покрикивать на нас. – Пошевеливайся!» – С этими словами Лютиков неторопливо встал и вышел из комнаты.
Шадрин разделся и лег в постель. Попробовал читать – не получалось. Из головы не выходила записка Зуева. «К теории нужно идти с плугом в руках, через целину практики». Между строками вставало его лицо: розовое, маслянисто-угреватое, со слегка прищуренными глазами. Затаенная в уголках губ улыбка готова каждую минуту вспорхнуть.
«Мерзавец!» – выругался Шадрин и отложил книгу. Вспомнился случай, как в прошлом году вместе с Зуевым он проходил мимо памятника Горькому, что стоит на площади у Белорусского вокзала. Прикуривая, Шадрин остановился. Взгляд его упал на надпись, высеченную на гранитном постаменте. «Великому пролетарскому писателю М. Горькому – от Советского правительства».
Шадрин в недоумении посмотрел на Зуева. Он первый раз обратил внимание на эту надпись.
– Почему только от правительства?
– А что же ты еще хотел?
– А где же народ, из глубин которого вышел Горький?
Зуев притворно-весело хихикнул.
– Но ведь правительство у нас, Димочка, народное. Это же не в Америке, где у власти стоят финансовые воротилы. Ты, дружок, не творчески перевариваешь марксизм…
Слова эти еще больше подожгли Шадрина.
– Так почему же раньше, в феодальной России, на памятнике Минину и Пожарскому смогли написать: Минину и Пожарскому – благодарная Россия? Ведь когда читаешь такую надпись – дрожь по спине проходит. А здесь? – Шадрин указал рукой на памятник. – Не от меня, не от тебя, не от тех, кто сидит вот на тех лавочках. Только от правительства. Не понимаю… Даже обидно как-то.
– Нет, Дима, ты что-то недодумал. Я, например, эту надпись вполне принимаю.
Шадрин хотел сказать что-нибудь резкое, но сдержался. Развивать свою мысль глубже не решился – не верил в порядочность Зуева. Он вспомнил, как кто-то из студентов на табличке, прибитой к двери комнаты, в которой жил Зуев, в скобках, рядом с его фамилией, написал мелкими буквами: «Стукач».
На этом разговор у памятника оборвался. Но Шадрин его не забыл, хотя было это в прошлом году. И вот теперь – эта неискренняя, лицемерная записка.
Шадрину не лежалось. Он встал, поспешно оделся и вышел во двор. По цементным дорожкам скверика кое-где парами и стайками прогуливались студенты. От старых тополей, освещенных фонарями, падали длинные, во весь двор, тени.
«И в самом деле – пять лет заниматься в научных кружках, получить рекомендацию в аспирантуру и в последний момент, в решающий момент отказаться от того, к чему шел. Может быть, что-то недодумал? Может быть, погорячился? Ведь не зря же каждый год при распределении из-за аспирантуры бывает такой ажиотаж, что даже близкие друзья, конкурируя, становятся тайными врагами. Не сделал ли я красивый жест, над которым теперь похихикивают товарищи?» – думал Шадрин и не находил ответа.
Из распахнутых окон комнаты, где жили девушки с филологического факультета, доносилась музыка. Было слышно, как шаркали по полу подошвы. «Танцуют…» – подумал Шадрин и свернул в глухую затемненную аллею. Он упорно старался понять: правильно ли поступил, отказавшись от аспирантуры?..
Вспомнилась диссертация, которую недавно защитил аспирант Рюхин. Диссертация называлась: «Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года. Об ответственности за хищение государственной и общественной собственности». В тексте Указа говорится, что 140 за кражу государственной и колхозно-кооперативной собственности виновный подвергается лишению свободы от 5 до 20 лет.
«Разве это не ясно всякому здравомыслящему, – думал Шадрин, – дворнику и профессору, писателю и сталевару, инженеру и солдату? Воровать нельзя! За это – тюрьма. А что делают из этого? Рюхин нагрохал четыреста страниц. Из кожи лез, доказывая, что Волга впадает в Каспийское море. Указ, видите ли, полезен… В нем выражена сущность воспитательной и карательной политики Советского государства. Открыл Америку! До тошноты мусолил, что такое государственная собственность и что нехорошо ее расхищать… – Шадрин в сердцах сплюнул и тверже сжал кулаки. – Как должен презирать себя человек, когда он из простой истины делает академическую окрошку. Кретинизм! Вырождение! Кому нужно это ученое словоблудие? Рабочему? Он диссертаций таких не станет читать под пистолетом. Интеллигенту? Подобный академический блуд он может постигнуть сам. Законодателю? До сих пор он великолепно обходился без этой кастрированной ученой трескотни!
Ленин! Если бы он встал из гроба и увидел, как чахнут правовые науки! Их роль сведена к тому, чтобы, растоптав коммунистический принцип «Власть авторитета», нести знамя науки, на котором написано: «Авторитет власти». О боже, до чего мы докатились! Теория государства и права… – Шадрин глубоко вздохнул и посмотрел поверх темных, молчаливо застывших тополей, на которых гнездились грачи. – Да, была наукой этой теория, когда ее создавали и развивали Маркс, Энгельс, Ленин… А наши ученые-юристы? Дипломированные доктора и профессора? Что они с ней сделали? – Шадрин захохотал внутренне, приглушенно. – Дергают из трудов классиков цитаты и раскладывают из них академический пасьянс. Что же тогда остается делать аспирантам? Не зря их называют «мостовиками». Вся ученая хитрость состоит в том, чтобы положить словесный мост от цитаты к цитате. И чем длиннее библиографический список в конце диссертации – тем солиднее выглядит научный труд. Ничего живого! Ничего своего! Жалко, мелочно, унизительно».
Шадрин вспомнил заседание ученого совета, на котором Рюхин защищал диссертацию. Никто, кроме официальных оппонентов, ее не читал. Это было видно по скучным, вялым лицам сидящих в актовом зале. Все с нетерпением ждали конца нудного церемониала защиты.
«В Указе сказано ясно: воровать нельзя. За это – тюрьма. А Рюхин? Стакан чистого молока он вылил в ушат мутных словесных помоев, тщательно размешал и наклеил на чан этикетку: «Пейте! В этом сосуде стакан молока». И это – наука! Ученые степени, звания, жизненные удобства, почет в обществе».
Шадрин ускорил шаг. Его словно кто-то подхлестывал сзади. Казалось, что он спорил с кем-то невидимым, который шел за его плечами и нашептывал: «Каким ты безумцем был сегодня, Шадрин! Из ста билетов был один выигрышный. Ты его вытащил. И отдал другому. Ха-ха-ха!»
В эту минуту Дмитрий ненавидел Зуева. Если бы тот попался сейчас на глаза, он непременно наговорил бы ему немало обидных и оскорбительных слов.
«Подонок! Мерзкий лицемер! Ведь ты не раз заявлял товарищам, что в аспирантуру не пойдешь. А сам? – Шадрин облегченно вздохнул полной грудью и отмашью руки поправил волосы. – Нет, я поступил правильно. Пусть сегодня теорию государства и права развивают рюхины и зуевы. Честный человек может идти в правовую науку тогда, когда в ней будет господствовать ее святой принцип: «Власть авторитета!»
На ум Шадрину пришли стихи Маяковского. Он читал их сквозь зубы, мстительно, с ожесточением, точно кому-то угрожая:
Я к вам приду в коммунистическое далеко
Не так, как песенно-есененный провитязь.
Мой стих дойдет через хребты веков
И через головы поэтов и правительств!
«А сейчас – работа! Ты, Шадрин, сегодня водовоз и ассенизатор. Бандиты, воры, хулиганы, проститутки… – вот твой сегодняшний передний край. Бой!.. И еще раз – бой! Помни, когда рота идет в атаку, солдат не думает о военных трудах Клаузевица. Все его помыслы в одном: больше пуль вогнать в тело противника. Где говорит штык – там умолкает стратегия».
Долго еще бродил Шадрин по студенческому дворику, рассуждая сам с собой. Когда вернулся в комнату – все уже спали. Окно было широко распахнуто. Простодушный Лютиков выводил носом переливчатые рулады.
Шадрин подошел к окну. Где-то вдали острыми угловатыми изломами прочертила небо молния. И только спустя несколько секунд до слуха докатились приглушенные перекаты грома. Небо заволакивало тучами.
«Все на своих местах. Никаких аспирантур. Работа! Бой! Передний край!»
VII
Лето в Москве выдалось жаркое, душное. Плавился на тротуарах асфальт, знойные волны марева дрожали в раскаленном воздухе. Сухим, удушливым теплом веяло от перегретых кирпичных стен. Никли и увядали в газонах цветы.
Сданы государственные экзамены. Кончилась жизнь студенческая. Впереди – неизведанный мир труда. От экзаменов остался осадок большой усталости.
Как ни пытался Шадрин отогнать от себя вязкую паутину юридических терминов, научных положений и определений, они упрямо лезли в голову в мельчайших подробностях, в точнейших формулировках. Он даже удивлялся – перед экзаменами не было такой обостренной памяти.
Последние ночи мучила бессонница – сказалось переутомление от экзаменов, которые за пять лет так опостылели, что если бы Шадрину сказали: все их нужно сдать сначала, то он, наверно, предпочел бы идти в солдаты, чем повторить пятилетний курс. Можно привыкнуть ко всему, нельзя только привыкнуть к экзаменам. На каждый из них Дмитрий ходил, словно в атаку.
В конце июля Шадрина вызвали в клинику. Его хотел посмотреть профессор Батурлинов. Долго вертел старый хирург своего «тематического» больного, внимательно изучал анализы, расспрашивал, колдовал над рентгеновскими снимками. В конце осмотра сказал:
– Вам, молодой человек, повезло. Теперь проживете сто лет. Только при одном условии: год никаких физических работ, спиртное в меру, курить бросайте. Все остальное по принципу: «Ничто человеческое мне не чуждо». Через полгода покажитесь. Если измените адрес – сообщите в регистратуру клиники, чтобы знать, где вас искать. – Оторвав взгляд от бумажки, на которой он что-то писал, профессор из-под очков посмотрел на Шадрина так, будто впервые увидел его. – Как учеба?
– Закончена, профессор. Уже распределили.
– Великолепно! И куда же вас?
– В распоряжение прокурора города Москвы.
– Ого! С вами опасно водиться! Вы теперь большой начальник! Ну что ж, счастливо вам поработать в области уголовной хирургии. – Судя по тому, как молодо захохотал старый хирург, Дмитрию показалось, что Батурлинову понравилась собственная шутка.
Из клиники Шадрин вышел с чувством прилива жизненных сил.
Вспомнилась Ольга. Ему не терпелось рассказать ей о разговоре с профессором.
Сел в метро, доехал до Красносельской и только теперь вспомнил, что завтра у Ольги первый экзамен. Вернулся. Знал, что она теперь забилась где-нибудь меж грядок в палисаднике и зубрит учебник по товароведению.
«Еще двадцать дней! – подумал Дмитрий. – Целая вечность!» Этой вечностью он исчислял экзамены Ольги, после которых они условились пойти в загс.
Тайком от матери Ольга уже успела показать ему все, что приготовила Серафима Ивановна к ее замужеству.
Вспомнилась смешная сценка: Дмитрий сидит у стола и, сведя ломаные дуги бровей, деловито, без улыбки произносит:
– Ты мне списочек приготовь, чтоб я все прикинул и обмозговал. Сделай так, как это делали наши старики: слева – реестрик вещичек, справа – столбик цифр, примерная стоимость в рублях.
Ольга залилась краской стыда.
– Как тебе не стыдно!
– Иначе я не могу.
Ольга со смехом бросилась к Дмитрию, принялась трясти его за плечи, потом, как шаловливая девчонка, вскочила ему на колени и, обхватив шею, заглянула в глаза.
– Ну за что?.. За что люблю тебя? Даже сама не знаю! Грубый, угловатый сибирский медведь. Всю жизнь надо мной издеваешься и смеешься. – Ольга сокрушенно покачала головой и тяжело вздохнула. – Дура, какая я дура! С кем только связалась? Теперь-то уж я знаю, чем ты меня присушил.
– Чем?
– Когда первый раз поцеловал, то перед этим, я слышала, ты что-то шептал. Не иначе, как колдовал. Скажи, колдовал?
– Колдовал.
Правой рукой Дмитрий обнимал упругую талию Ольги, левой – гладил ее ноги.
– И тебе не стыдно?
– А чего мне теперь стыдиться? Ты моя жена.
– Будущая. А сейчас не давай рукам воли. – Она хотела убрать со своей ноги руку Дмитрия, но раздумала. В ее глазах светилась покорность.
Прижав голову Дмитрия к груди, она гладила его русые волосы, наматывала вихры на палец.
– Сколько еще дней ждать? – спросил Дмитрий, слушая, как мощными толчками бьется сердце Ольги.
– Двадцать. Как только сдам последний экзамен.
– Может быть, завтра подадим заявление?
– Если бы это зависело только от меня, я бы хоть сейчас побежала с тобой в загс. Но давай послушаем маму, не будем ее огорчать.
Дмитрий что-то пробормотал в ответ, потом легко ссадил ее с коленей.
– Ступай, учи уроки. Да чтоб без единой тройки. Если будут тройки, буду меньше любить.
Этот разговор произошел неделю назад. Дмитрий вспомнил его по дороге в общежитие.
В комнате, где он доживал последние дни, стоял беспорядок. Три железных скелета прогнутых студенческих коек сиротливо стояли вдоль стен. Это означало, что трое жильцов комнаты уже уехали на каникулы. Три койки, кое-как заправленные, говорили, что их хозяева почти «на колесах». На подушке Дмитрия лежала телеграмма. Разорвав ее, он прочитал: «Мать больна. Если можешь немедленно приезжай. Целую Ирина».
Дмитрий прилег на койку прямо не разуваясь и положил ноги на стул, стоявший рядом. Закрыл глаза. Пять лет он не был на родине. Пять лет ему было все недосуг навестить мать, братьев, сестру. И вот теперь она больна. Что с ней? Уж если прислали телеграмму и просят, чтоб приезжал немедленно, значит, случилось что-то серьезное. Сердце заныло в предчувствии чего-то недоброго. Ольга, женитьба, государственные экзамены, работа, квартира в Москве – все это растаяло в туманном мареве нахлынувших воспоминаний. Теперь он видел другое. Забураненное метелями сибирское село, покосившаяся избенка, из которой ранним утром валит дым, мать, накинувшая на голову старенькую клетчатую шаль. Еще затемно она идет на колхозную ферму доить коров. Закоченевшая, с посеревшим от холода лицом, она возвращается с фермы домой часа через три. Ее ждут чугуны, горшки, ухваты. В хлеве протяжно мычит корова – ее нужно поить. В курятнике разорались оглашенные куры – им нужно истолочь картошку. В сенках надрывает слух мухортый пятнистый поросенок, который в день съедает больше, чем весит сам. В избе стоит теленок, под которым растеклась стеклянная остывающая лужица. А печка уже догорает, нужно выгребать угли и сажать хлеб. В квашне дуется подошедшее тесто, а хлебные плошки как назло три дня назад взяла соседка и до сих пор не несет. И мечется, мечется мать из угла в угол, из сенок в хлев, из дома к соседям… Мечется быстро, споро, накинув на плечи латаную фуфайку и покрывшись клетчатой шаленкой. Она боится помешать Дмитрию, когда он сидит над книгой. Слышит Дмитрий, как гремит о ведро обледенелая колодезная веревка, которую мать внесла в избу. Слышит ее шепот – это она посылает за водой Сашку, который никак не хочет слезать с печки. Сашка хнычет и трет кулаком сухие глаза. Ему неохота выходить на улицу и по сугробам, наметенным за ночь, пробираться к колодцу в соседнем огороде. А потом, он знал, мать пошлет дергать окоченевшими руками из стожка промерзшее сено.
– Не пойду. Я вчера ходил за водой… Пусть Митька сходит; все я да я. Уж тридцать лет, как холуев нет, – Сашка гнусавит спросонья, делает вид, что плачет, а у самого ни слезинки.
– Сходи, сынок, Митя уроки учит, у него сегодня контрольная, – просит мать вполголоса, стараясь, чтоб не слышал старшой.
Сашка продолжает гнусавить.
– У него контрольная, а у меня ее нет, что ли? У меня еще почище контрольная… У меня арифметика…
Терпение матери лопается. Она не выдерживает и, размахивая над головой мерзлой колодезной веревкой, сгоняет с Сашки сонную одурь, стаскивает его с печки. Поддерживая штаны, тот, как невольник, спускается по приступкам на пол и долго ищет валенок, который незаметно для матери сам же пнул куда-то за лоханку.
– Ну ладно, ладно, пойду, только не дерись… – Сашка кряхтит, чешется, надевает найденный валенок. Но тут как назло пропали варежки. Бродит осоловело по кухне, лезет в печурку, заглядывает под стол… Наконец варежки нашлись. Но они оказались мокрые, их с вечера не положили в печурку.
– Не пойду в сырых варежках. Гляди, палец вылазит, хочешь чтоб обморозил?
Терпеливая мать вздыхает, подает Сашке свои варежки.
– Ну когда же ты соберешься? Рядится, как вор на ярмарку.
– Вор, вор… Только и знаешь, что меня посылать… – Сашка садится на пол, затыкает соломой дырявый задник серого валенка и не выходит из избы до тех пор, пока мать не выталкивает его вместе с ведром.
Минут через десять Сашка возвращается. Воды в ведре на донышке, расплескал дорогой. Дмитрий не выдерживает, бросает уроки, молча одевается, приносит два ведра воды. Потом выносит корове в тяжелой лоханке теплое пойло, сбрасывает с сеновала сено…
…Шадрин силился припомнить хотя бы один случай, когда мать отдыхала днем. И не мог вспомнить.
Стук в дверь рассеял воспоминания. Дмитрий вздрогнул.
– Войдите! – бросил он раздраженно.
В комнату вошел Белявский. На лице его расплылась счастливая улыбка.
– Как дела, сибиряк? – спросил он, протягивая Дмитрию руку.
– Как сажа бела.
– Что случилось? У тебя нехороший вид.
– Читай. – Дмитрий протянул ему телеграмму.
Белявский прочитал телеграмму и с озабоченным лицом присел на стул.
– Я считаю, что нужно-таки немедленно ехать. То есть не так, чтобы очертя голову, но особенно не задерживаться.
– Ты что имеешь в виду? – спросил Дмитрий.
– Разумеется, чтобы не делать лишних расходов на дорогу, нужно твой перевод в Новосибирск оформить как можно быстрей. Если хочешь, мы попытаемся это сделать сегодня. И ехать! Немедленно ехать!
Шадрин привстал с койки, подошел к окну и настежь распахнул створки. Он чувствовал на себе тревожный взгляд Белявского, слышал его прерывистое дыхание.
«Наверное, бежал до самого четвертого этажа», – подумал Шадрин.
– В Сибирь я выезжаю сегодня. Но ненадолго, недели на две.
– Это же лишние расходы! Глупо и бессмысленно.
Шадрин подошел почти вплотную к Белявскому и в упор посмотрел ему в глаза.
– Через две недели я вернусь из Сибири и стану уже коренным москвичом.
– Как?! – Красивые глаза Белявского, обрамленные густыми пушистыми ресницами, недоуменно округлились.
– Очень просто. Я твердо решил остаться работать в Москве!
– Но это же нечестно! Мы же договорились! Это даже подло!
– Нечестно?! Подло?! – Ноздри Дмитрия вздрогнули и побелели. Наступая грудью на Белявского, который пятился к двери, он процедил сквозь зубы: – Ух ты… честнейший человек! Показал бы я тебе, что такое честность, да нельзя. Марш отсюда! – Носком ботинка Шадрин отворил дверь, в которую задом выскочил побледневший Белявский.
В этот же день Дмитрий получил за два месяца стипендию и вечером зашел к Ольге. По виду его она поняла, что у него не все благополучно.
– Почему ты такой бледный? Ты себя плохо чувствуешь? Был у профессора? Ну что он сказал? – Ольга закидывала Шадрина вопросами.
– Профессор сказал, что проживу сто лет, – ответил Дмитрий, а сам думал совсем о другом – и это Ольга видела.
– Так почему же ты такой взволнованный?
Дмитрий молча подал телеграмму и сел в холодок, на скамейку около крыльца, затянутого зелеными бубенчиками распустившегося плюща.
Ольга прочитала телеграмму и села рядом с Дмитрием.
– Ну что ж, Митя, нужно ехать. Так, зря, не вызывали бы.
– Я тоже думаю, что нужно ехать.
– А деньги на дорогу есть?
– Сегодня получил стипендию за два месяца.
Вечером Дмитрий выехал в Сибирь.








