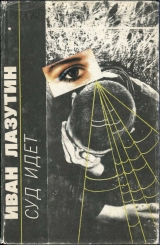
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 35 страниц)
XXIV
Два дня Дмитрий провалялся с температурой. На третий почувствовал себя лучше. Во всем теле ощущалась такая слабость, будто целый месяц пролежал в больнице. Подняв с пола окурок, он прижег его и закурил. Вспомнилось детство, когда он с ребятишками, набрав на дороге добрый десяток «бычков», забирался куда-нибудь в канаву или в подсолнухи и курил. Курил до головокружения, до тошноты. Чтобы не опозориться перед товарищами, Митька захлебывался дымом, кашлял, вытирая кулаком слезы, курил. Мучился, страдал, но все-таки курил. Курил, чтобы походить на большого. А сейчас он многое отдал бы за то, чтобы кто-нибудь тогда, в далеком детстве, вытащил его из подсолнухов да так отходил ремнем, чтобы навсегда отбить охоту подражать взрослым.
На столе стоял чайник с остывшим кипятком. Рядом с чайником лежала надорванная пачка печенья. Дмитрий и раньше с таким-то особым теплом в душе думал об уборщице тете Фросе. После ее утреннего прихода, когда она за два часа навела в комнате полный порядок и жарко натопила печку, Дмитрий сбросил с себя одеяло и сразу почувствовал, что к нему прибывают силы. Своим ворчаньем тетя Фрося чем-то напоминала покойную бабку. Даже бранные слова у них были одни и те же: «окаянные», «родимец тебя расшиби», «анчутка». Бывало, бабка ругает его, а он улыбается. От каждого слова ее ругани только теплее и уютнее становилось у него на душе.
Навестить Шадрина тетю Фросю послал старший следователь Бардюков. Узнав от хозяйки, что он второй день не встает с постели, тетя Фрося быстро куда-то сбегала и принесла в граненом стакане, накрытом листком промасленной бумаги, малинового варенья. Решив, что Дмитрий простудился, она начала его лечить. Первым делом принялась за печку. Дмитрий видел, какими глазами посмотрела вошедшая хозяйка комнаты на огромную охапку сухих березовых дров, принесенных тетей Фросей из дровника. Этих дров хозяйке хватило бы на три дня.
После чая с малиновым вареньем Дмитрия ударило в пот. Он уже сменил две пары белья. На улицу выходить не решился – боялся простудиться. Тетя Фрося строго-настрого приказала лежать и потеть. Но вот курить… Убийственно хотелось курить. Один тощий «бычок» только растравил аппетит старого, заядлого курильщика.
Накинув на плечи пиджак, Дмитрий в одном нижнем белье полез под кровать, где, на его счастье, уцелела заплесневевшая папироса, лежавшая у самого плинтуса. Дмитрий тщательно высушил ее у печки и закурил.
Пока в комнате была тетя Фрося, пока дымилась последняя папироска, Шадрин еще мирился со своим одиночеством и с тем, что случилось в его жизни. А случилось ужасное. Ольга арестована. Навалилась тоска. Да такая берущая за самую душу тоска, что Дмитрий не мог больше лежать в кровати. Встал, оделся и принялся нерешительной походкой вышагивать от кровати к двери, от двери к кровати.
«Подлец!.. Трус!.. Омерзительный, маленький человечишка-следователь!» – стиснув зубы, скандировал Шадрин, припоминая пощечины Ольги и ее последние обидные слова. – Ты права, милая. Я маленький и жалкий человек, который в угоду формальностям готов проклясть саму правду, саму честь и даже совесть. Надо что-то придумать!.. Неправда, можно найти выход из этого страшного лабиринта формальных улик. Я поговорю с Бардюковым. Я расскажу обо всем Кобзеву, они поймут, у них за плечами опыт. Они разгадали много загадок и шарад…»
Шадрин ходил по комнате до тех пор, пока не услышал над головой четыре удара стенных часов.
– Хватит! К черту болеть! Эдак сгниешь в этой сырой кротовой норе!..
Шадрин оделся и вышел во двор. Никто его не остановил, никто не удержал. Хозяйка, которой тетя Фрося наказывала смотреть за больным и «никуда не пущать», проводила Шадрина недобрым взглядом. Она сразу же кинулась открывать дверь, чтобы тепло из комнаты жильца расходилось по всей квартире…
Через час Шадрин был уже в прокуратуре. Больше всего он боялся столкнуться в коридоре с Ольгой.
Завидев Шадрина, тетя Фрося всплеснула руками.
– Ох, господи! Какая нелегкая тебя принесла? Ты посмотри на себя, ведь еле душа в теле, а ты встал!
– Ничего, тетя Фрося, ничего, все пройдет. До свадьбы все заживет, – пробуя улыбнуться, ответил Дмитрий. Но улыбка получилась жалкой.
Первое, за что взялся Шадрин, войдя в свой кабинет, было дело Анурова. Оно лежало в сейфе. Листая страницы, он подумал: «Допрашивал сам Бардюков, его почерк».
Дмитрий внимательно прочитал протокол допроса и очных ставок, которые прошли без него. Однако зачем понадобилось повторять эти допросы – он не понимал. «Наверное, прокурор мне не доверяет, приказал вновь повторить допросы», – подумал Шадрин, сравнивая ответы, записанные Бардюковым, с теми, которые занес в протокол он, Шадрин.
Дмитрий поражался полнейшему, вплоть до мельчайших деталей, совпадению в показаниях. «Да, все это нужно было Богданову».
С затаенным страхом Шадрин перевернул лист, ожидая, что на следующем будет протокол допроса Ольги. Но – он ошибся. Вместо протокола допроса к делу была подшита небольшая бумажка – подписка о невыезде. Дмитрий отшатнулся на стуле. Он буквально ничего не понимал. Три дня назад он своими руками подписал постановление об аресте Ольги и Мерцаловой, а тут вдруг подписка о невыезде, написанная рукой Ольги.
Шадрин принялся листать дело назад и нашел в нем постановление прокурора об аресте Мерцаловой. Значит, Лиля была уже в тюрьме. «Почему? Почему Мерцалова арестована, а Ольга нет? Тут что-то непонятное. Неужели Богданов замышляет какой-то новый, хитрый ход? Но ведь тогда должно быть все наоборот: Ольгу нужно арестовать, а Мерцалову оставить на свободе, взяв с нее подписку о невыезде. Ничего не понимаю!..»
Во всем деле не было ни одного документа, говорящего о том, что Ольгу допрашивали. А вот, наконец, и показания Мерцаловой. Дмитрий стал читать их. «Бедняжка, какие вопросы ей пришлось выслушать! – подумал он. – Молодец! Она вела себя с достоинством и как поистине честный человек».
«Нет», «Нет», «Нет», – читал Дмитрий после каждого вопроса следователя. А как она благородно объяснила, на что Ольге понадобилась тысяча двести рублей денег: «По личному делу, на несколько часов». На вопрос следователя: «По какому такому личному делу?» – Лиля ответила резко: «Есть такие личные дела, которые не подлежат оглашению даже в уголовных протоколах». На этом, как видно, следователь осекся и не стал лезть дальше в интимную сторону жизни Ольги, так как понял, что такая, как Лиля Мерцалова, не разрыдается и не разболтает от страха святые тайны. Мерцалова отрицала все: и то, что она и Ольга брали деньги у Шарапова, и то, что Фридман дарил им ценные подарки, и что она и Ольга знали о преступных махинациях Анурова и его компании…
Не успел Дмитрий до конца прочитать показания Мерцаловой, как в кабинет к Шадрину вошел Бардюков.
– Что с тобой? Говорят, ты заболел?
– Обождите, Алексей Сергеевич, одну минутку.
Шадрин жестом дал понять Бардюкову, что ему осталось дочитать всего несколько строчек. Когда он дошел до последнего «Нет», только тогда встал и протянул руку старшему следователю.
– Немного прихворнул. Продуло где-то.
– А тетя Фрося тут подняла такую панику, будто ты помирать собрался.
– Она мою хозяйку чуть не отколотила.
– За что?
– За то, что та плохо топит печку и морозит меня, как Суворов своих солдат – ниже нуля.
– Э, брат, ты еще плохо знаешь нашу тетю Фросю. В прошлом году ее выбрали в местком. Вот бы ты посмотрел, какого жару она давала на собраниях нашему начальству! А ты говоришь – чуть не отколотила хозяйку…
– А что же сейчас ее снова не выбрали? Плохо работала?
– Работала прекрасно!
– В чем же дело?
– Начальство не рекомендует. Неспокойная, говорят.
Взгляды Шадрина и Бардюкова скрестились на папке с делом Анурова. И как-то сразу были забыты и хозяйка Шадрина, и тетя Фрося.
– Я без тебя допросил тут твоих мальчиков, – сказал Бардюков.
– Ну и как?
– Расписано все, как по нотам.
– То есть?
– Подозрительные совпадения в показаниях. Это настораживает. Причем, тот факт, что показания о соучастии Мерцаловой и Школьниковой были даны в самый последний допрос, когда по сути дела было уже все решено, меня наводит на подозрение.
– В чем?
– Девушек оговорили.
– С какой целью?
– Вот это-то мне и не ясно. Не вижу никакой выгоды, кроме вреда.
– Кто отменил арест Школьниковой? – спросил Шадрин.
– Прокурор. Это мне тоже не совсем понятно. Судя по показаниям Фридмана и Анурова, Школьникова повинна в большей степени, чем Мерцалова, а мера пресечения у нее мягче.
– Почему до сих пор еще не допросили Школьникову? – затаенно спросил Шадрин, чувствуя, как сохнут его губы. Хотелось пить.
– Это третья загадка. Прокурор отменил арест и приказал Школьникову пока не трогать. Я хотел ее допросить, но он послал меня в тюрьму сдублировать очную ставку и допросить Мерцалову. Так что за Школьникову придется взяться тебе самому. И пора уже кончать с этой ануровщиной. Что-то мы долго с ними возимся. Надоели, как горькая редька! – Бардюков встал и положил ладонь на папку с делом Анурова. – Итак, дело снова у тебя. Ты его начал, ты его и доводи до конца. У меня своих хлопот полон рот. Будет что-нибудь неясно – заходи или постучи кулаком в стенку.
Бардюков придавил папироску в маленькой свинцовой пепельнице, изображающей капустный лист, и вышел. Шадрин остался один. Впереди предстоял допрос Ольги. Легко сказать – допрос. Нет, он не будет ее допрашивать. Он не сможет этого сделать, он не имеет права…
В дверь постучали. Стук был робкий, неуверенный.
– Войдите, – тихо проговорил Шадрин, чувствуя легкое кружение в голове.
В кабинет вошел профессор Батурлинов. Дмитрий узнал его сразу. Все в той же боярской шапке, в той же черной шубе с шалевым воротником и в высоких меховых ботиках. В правой руке старик держал массивную трость. Раньше он ее не носил. Глаза профессора слезились.
Много неожиданностей пришлось пережить Шадрину в жизни. Неожиданностей страшных, опасных, маленьких и больших… Будучи разведчиком, он ходил во вражеские окопы за «языками», познал «сладость» рукопашной схватки во вражеском блиндаже, лежал под огнем своих снарядов. Да мало ли пережито за годы, когда не только его жизнь, но судьба целой Родины была в опасности! Но ни разу не испытывал Шадрин такой растерянности и беспомощности, как сейчас, при виде профессора Батурлинова. Он инстинктивно попятился и плотно прижался спиной к стене. У него даже не хватило духу сразу пригласить старика сесть. Сделал он это минуту спустя, когда профессор, переминаясь с ноги на ногу, попросил разрешения сесть.
– Да, да, садитесь…
Профессор сел, подбирая полы меховой шубы.
– Я к вам, товарищ следователь. Вы арестовали мою внучку… Мерцалову Лилиану Петровну. Я пришел просить вас хорошенько разобраться в обстоятельствах дела.
Старик говорил глуховатым голосом. Из того, что сказал он, Шадрин заключил только одно: внучка его – это единственное и самое дорогое для него существо, ради которого он живет, работает и находит радость в жизни. Отними у него это существо – и он рассыплется, как старый дуб, в который во время ночной грозы ударила молния.
Шадрин слушал профессора, а сам думал: «Неужели он не узнал меня? Да, кажется, не узнал. Хорошо, что он почти не смотрит на меня. Он стыдится поднять свои заплаканные глаза. И это Батурлинов, знаменитый Батурлинов. Депутат Верховного Совета. Тот, кто является главой целой армии советских хирургов. Мировая величина!.. Сидит перед следователем и готов упасть на колени, чтобы выпустили из тюрьмы его внучку».
Шадрин выслушал профессора и, когда тот достал из кармана большой платок и поднес его к лицу, встал.
– Профессор, сейчас… в настоящее время помочь вам я ничем не могу. Будем разбираться. Если ваша внучка невиновна, ее выпустят. Перед ней извинятся. Но пока… пока этого сделать я не в силах.
Голос профессора дрогнул.
– Выслушайте меня, молодой человек… Почему ее посадили в тюрьму? Куда она денется? Разве нельзя до суда оставить ее на свободе?
– Вы обращались к прокурору?
– Прокурор меня не принял. Я два часа просидел у его дверей. Говорят, у него сегодня неприемный день.
– Вы бы представились, что вы профессор, депутат…
– Нет. Зачем же это? Как-то, знаете, неудобно… Я там не один хотел попасть к нему. Люди тоже ждали приема.
– Профессор. – Голос Шадрина дрогнул. Он встал. – Однажды вы спасли мне жизнь. Уже это одно обязывает меня сделать все, что в моих силах. И я думаю, я убежден… – Он хотел сказать: «Я уверен, что ваша внучка невиновна», но не сказал. – Я убежден, что все будет хорошо.
Старик пристально посмотрел на Шадрина. Теперь он, кажется, узнал его. Лицо профессора на миг просветлело, он потянулся к столу следователя.
– Вы… Шадрин?
– Да, я Шадрин. Тот самый Шадрин, которого вы год назад вырвали из когтей смерти.
– Да, да… Как же, помню, помню! Великолепно помню! Я, знаете, даже невесту вашу помню. Она еще ко мне на дачу приезжала. В эту ночь была метель такая, что ни зги не видать. Вот хорошо, что я вас встретил!.. – Но тут профессор как-то осекся. Пристально глядя в глаза Шадрину, он продолжал мять в своих больших ладонях боярскую шапку.
– А вы… вы, молодой человек, можете отдать мне на поруки мою внучку?
– К сожалению, это может разрешить только прокурор.
Профессор тяжело встал. Ему не хватало воздуха. Он дышал так, как дышат пожилые люди с больным сердцем, когда поднимаются в гору. Опираясь на трость, он молча поклонился Шадрину и направился к двери. На ходу сказал:
– Ну что ж, простите, товарищ Шадрин, за беспокойство.
Профессор закрыл за собой дверь.
Запрокинув голову и закрыв глаза, Шадрин сидел не шелохнувшись.
«Профессор Батурлинов не смог сказать секретарше, что с прокурором хочет говорить депутат Верховного Совета. Ему, видите ли, было неловко перед простыми людьми, которые тоже томились в коридоре и ждали приема…» Эти пронесшиеся в голове Шадрина мысли в какой-то миг осветили весь кристально-чистый облик этого седого, благородного просителя. Шадрину стало больно и стыдно, что он так сухо говорил с профессором. Почему он, Шадрин, не пошел сразу же к прокурору и не сказал, кто ждет приема? «Что происходит?! Ничего не пойму! Как все запуталось! Ольга, профессор Батурлинов, его внучка… Пойти! Догнать старика! Вернуть, зайти с ним к прокурору! Сказать этой холодной глыбе, кого он мариновал два часа в полутемном коридоре!..»
В кабинет Шадрина без стука вошла секретарша с размалеванными губами и в непомерно узкой юбке.
– Вас вызывает прокурор.
Шадрин встал.
– Обождите… Мне сейчас некогда… Я сейчас вернусь… – Шадрин говорил невпопад. Отстранив секретаршу, он почти выбежал в коридор.
Батурлинова в коридоре уже не было. Дмитрий выскочил на улицу, огляделся. Профессора нигде не было видно.
«Наверное, приезжал на машине», – подумал Шадрин и вернулся в свой кабинет. Он даже забыл, что его вызывали к прокурору. Вспомнил только тогда, когда секретарша открыла дверь и, насмешливо кривя рот, проговорила:
– Больно длинна ваша минута, Дмитрий Георгиевич.
С папкой под мышкой Шадрин вошел в кабинет к прокурору и не сел до тех пор, пока тот вторично не предложил ему сесть. Богданов поставил свою подпись на каком-то документе и отодвинул его в сторону.
– Я вызвал вас, товарищ Шадрин, чтобы предупредить: с делом этого злополучного универмага пора кончать! Недопрошенным остался один человек – кассирша Школьникова.
– Почему ее не допросил Бардюков?
Прокурор криво ухмыльнулся.
– Специально ждали вашего выздоровления. Школьникову вы будете допрашивать сегодня.
– Я не буду допрашивать Школьникову, – сказал Шадрин.
Прокурор поднял на Шадрина удивленный взгляд.
– Что это значит?!
– Я не могу допрашивать Школьникову.
– Почему?
– Не имею права.
Прокурор хотел вставить какой-то вопрос, но Шадрин перебил его.
– И вообще дело Анурова я больше вести не имею права.
– Это почему же?
– К делу причастен человек, в котором у меня есть личная заинтересованность.
– Родня?
– Нет.
– Кто этот человек?
– Кассирша Школьникова.
– Ах, вот оно что! – Богданов сложил губы в трубочку и присвистнул. – Тогда конечно. Тогда мне многое становится ясно. Кем она вам приходится? Жена?
– Нет.
– Родственница?
– Нет.
– Любовница?
– Нет.
– Так кто же?
– Друг. Невеста. На днях мы должны были зарегистрироваться.
Прокурор встал. Картинно подбоченясь, он улыбался.
– Желаю вам согласия и мира под оливами. А дело сейчас же передайте Артюхину. Только тут же напишите объяснительную записку, мотивируя, почему вы не можете дальше вести дело Анурова. И сейчас же пошлите ко мне Артюхина. Да, кстати, скажите Артюхину, чтобы он приготовил постановление об аресте Школьниковой. Я знакомился сам с делом и считаю, что это наиболее разумная мера пресечения. Мы бываем иногда слишком либеральны и гуманны и от этого затягиваем дело. А нас поджимают сроки.
Шадрин оставил на столе прокурора папку с делом Анурова и, как пьяный, вышел из кабинета. Но тут же вернулся.
– Больше двух часов ждал вашего приема профессор Батурлинов. Он по поводу внучки, Мерцаловой. Хотел просить вас, чтоб вы отдали ее на поруки хотя бы до суда.
– Профессор Батурлинов? – Прокурор вскинул голову и, что-то припоминая, сморщил лоб. – Где-то слышал эту фамилию… А, впрочем, это не имеет значения. Перед законом все равны: и дворник и профессор. Освобождать из-под стражи Мерцалову нельзя.
– Профессор Батурлинов – это не просто рядовой профессор, это мировая величина, гордость нашей отечественной медицинской науки, депутат Верховного Совета…
Богданов ничего не ответил, он только что-то записал в календаре.
Шадрин вышел. Из головы его не выходило: Ольга… Таганская тюрьма. Ее сегодня арестуют, ее повезут туда на «черном вороне»… Он видел ужас в ее глазах, видел перекошенное горем лицо матери… Теперь он до конца понимал, как тяжело профессору Батурлинову. Писал объяснительную записку, а сам думал: «Что делать? Как им помочь? Как доказать, что их оговорили?..»
Когда передал дело Анурова Артюхину, тот в первую минуту никак не мог понять, что случилось, и только глупо моргал своими добрыми глазами.
Вернувшись в свой кабинет, Дмитрий снова почувствовал неприятное кружение в голове и слабость во всем теле. Откуда все это? Неужели по пятам ходит болезнь? А потом эта тошнота и пот… Такой пот, будто он целый час просидел в парной и вышел прохладиться в предбанник. Мокрая рубашка прилипала к лопаткам, по спине, по желобку над позвоночником ощутимо стекала струйка. Она холодила и щекотала. Во рту сохло…
Богданов внимательно прочитал объяснительную записку Шадрина и поднял на него свои стальные, с холодной голубинкой глаза.
– Что с вами? Вы мокрый, как мышь.
– Я болен.
– Ступайте к врачу. В таком состоянии работать нельзя.
Проходя по заиндевевшему скверику, Дмитрий остановился. На лавочке, ссутулившись, сидел профессор Батурлинов. Он глубоко, почти до самых глаз, надвинул на голову боярку и, не обращая ни на кого внимания, вслух разговаривал сам с собой. И что-то чертил тростью на земле.
Дмитрий прошел мимо. Ему было страшно встречаться взглядом с профессором. Ежась от озноба, который пронизывал все тело, он направился к трамваю. Думал об одном: «Только бы не упасть посреди дороги… Только бы добраться до койки…»
XXV
Сырой мартовский ветер хлестал о забор старой отклеившейся афишей. На голых тополях с криком гнездились грачи. В тихом глухом дворике, где не было ветра, расхаживали сизые голуби. Все радовалось грядущей весне: облитые солнцем каменные дома, вездесущие воробьи, купающиеся в лужах, розовощекие ребятишки, возвращающиеся шумной ватагой из школы, счастливо улыбающаяся молоденькая почтальонша, которая попалась навстречу Струмилину. Можно было подумать, что в сумке ее, в письмах, спрессовано столько человеческой радости, улыбок и светлых надежд, что она, как на крыльях, торопилась доставить людям эти улыбки, эти радости и надежды…
Только на душе у Струмилина было по-осеннему пасмурно, неуютно. Он припоминал только что состоявшийся разговор с заведующим ординатурой доцентом Самариным. Струмилин вошел к нему в кабинет, когда тот собирался уходить.
– Вы ко мне?
– Да, к вам, – ответил Струмилин и положил перед Самариным рекомендацию профессора Талызина.
Струмилин слышал от других, что Самарин формалист и плохой врач. Но он не думал, что разговор этот обернется так обидно для него и ворохнет в памяти дни концлагеря. Он и сейчас отчетливо видел перед собою гладко выбритые щеки Самарина, его заваленный бумагами стол и холодный кивок головой.
Профессор Талызин, руководивший в течение последних трех лет работой Струмилина, рекомендовал дирекции института обратить внимание на успехи хирурга и зачислить его в ординатуру.
– Прекрасно, прекрасно, – нараспев говорил Самарин, пробегая глазами рекомендацию. – Анкету заполнили?
Струмилин положил на стол документы.
Самарин долго и внимательно читал анкету и биографию Струмилина, потом поднял на него усталый взгляд и, точно пытаясь взвесить, как подействует на собеседника его откровение, спросил:
– Будем говорить начистоту?
– Разумеется, – ответил Струмилин, озадаченный таким вопросом.
– Так вот, товарищ Струмилин, заберите свои документы, а рекомендацию уважаемого профессора Талызина оставьте себе на память. Пока забудьте, что на свете существует ординатура. Я говорю – пока!
Струмилин старался понять, куда клонит Самарин.
– Почему?
– С вашей биографией ординатура пока исключается. Только прошу вас об одном: наш разговор – не для протокола. Я мог бы принять от вас документы, проманежить вас несколько месяцев, заставить вас попотеть над экзаменами, и в результате все свелось бы к тому, что вы не прошли по конкурсу. Пожалейте себя и свое здоровье.
– Вы имеете в виду мой плен? – с затаенной обидой спросил Струмилин.
– Да, я имею в виду ваш плен. – Самарин вздохнул, достал из портсигара папиросу, долго, очень долго разминал ее и наконец прикурил. – Время… Время не на вас работает, товарищ Струмилин. Ваше счастье, что вы еще имеете место в хорошей клинике. И не где-нибудь в провинции, а в Москве.
На большом квадратном столе заведующего лежали папки с личными делами ординаторов. На стене висела инструкция, предостерегающая от заражения гриппом. В мраморном чернильном приборе уже давно высохли чернила, и заведующий писал авторучкой. От всего, что здесь окружало Струмилина, вдруг повеяло казенным холодом амбулаторного коридора, где тяжело больному человеку сказали, что врач, которого он ждал с таким волнением, срочно вылетел в другой город, а когда вернется – неизвестно.
– Это что – указание сверху? – спросил Струмилин.
– Да.
– Можно с ним познакомиться?
– Нет. Оно неписаное. Но это правило железное.
Самарин аккуратно отодвинул от себя документы Струмилина и занялся своим делом. Так прошла минута, другая, третья… Оба, Струмилин и заведующий ординатурой, молчали. Потом Самарин не выдержал и заговорил первым.
– А впрочем, я только дал вам совет. Можете документы оставить. Но я вам сказал честно, что вас ожидает. Вы только измучаетесь, и все впустую. Выбирайте.
– Я забираю документы, – твердо сказал Струмилин.
На улице стояла московская весна. Не было журчащих ручейков, не было проталин на лугах и косогорах, не слышалось звонкого щебета синиц. Была просто мартовская Москва, отсыревшая, залитая до самых маковок крыш солнцем. И лишь последние остатки снега, который грязными кучами лежал еще кое-где в глухих переулках, говорили, что зима нет-нет да и бросит свой прощальный взгляд на голые сучья продрогших рогатых тополей.
В памяти Струмилина проплыли обрывки того дня, когда он, раненый, вместе с полком попал в окружение, потом в плен. Он слабо помнил, как его подобрали, как привезли в немецкий госпиталь, как делали операцию, потом перевязку. Очнулся поздно ночью и долго не мог понять, где он и что с ним. Помнил только взрыв, сильный взрыв… А потом все поплыло кругом…
– Где я? – спросил Струмилин у медицинской сестры, которая поправляла повязку на ране.
– В немецком госпитале, – ответила полногрудая молодая женщина на немецком языке и как-то грустно-грустно посмотрела на Струмилина.
…Все это было давно, восемь лет назад. И вот теперь заведующий ординатурой сказал, что есть предписание сверху не принимать в ординатуру тех, кто раньше был в плену у немцев.
«К черту!.. К черту казнить себя воспоминаниями! Эдак можно сойти с ума». Струмилин ускорил шаг. Он изо всех сил пытался прогнать наплывы кошмарных картин немецких концлагерей, где ему пришлось пережить много тяжелых дней, когда один заветный маяк, одна звезда хранила его и звала к жизни – Родина.
– Родина!.. – произнес Струмилин.
Широко шагая и размахивая руками, Струмилин не обращал внимания на прохожих и вслух читал случайно подвернувшиеся на память строки из Есенина:
Это все, что зовем мы Родиной,
Это все, отчего на ней
Пьют и плачут в одно с непогодиной,
Дожидаясь улыбчивых дней…
В клинике Струмилина ждала операция. Только что привезли истекающего кровью шестнадцатилетнего подростка, упавшего с лесов на новостройке. С распоротым животом, в полном сознании, он лежал на операционном столе и смотрел на всех молящими, сухими глазами. Он не плакал. Он с трудом выговаривал пересохшими губами:
– Воды… Пить…
Но пить было нельзя, предстояла операция кишечной полости.
Струмилин чувствовал, как у него дрожали пальцы, как едкие капельки пота щипали веки, как сердце временами билось с перебоями. А большие ясные глаза подростка молили: «Спасите!»
Когда висевшая на волоске жизнь была спасена, когда после сорока минут борьбы за человеческую жизнь Струмилин почувствовал, что у него слабеют ноги и слегка кружится голова, он вышел из операционной, снял халат и сказал дежурному врачу, что плохо себя чувствует и уходит домой. В дверях его остановила старшая сестра и голосом, в котором прозвучала тревога, сообщила, что показательная операция профессора Батурлинова завтра утром не состоится.
– Почему?
О профессоре Батурлинове Струмилин много слышал и знал, что это весьма пунктуальный и точный старик. Он никогда ничего не переносил и не откладывал на следующий день.
– Он болен.
– Что с ним?
– Говорят, у него в семье несчастье.
– Какое несчастье?
– Внучку посадили. Говорят, что в тюрьме сейчас. Ну и слег старик.
– В тюрьме?! Что она сделала?
– Не знаю, не знаю…
На такси до дому езды двадцать минут. Струмилин спешил. Дома, в одном из старых блокнотов, записан телефон Лили. А в последнем письме, которое он сжег неделю назад, она очень просила позвонить ей. Но он не позвонил.
Боль, занозой сидевшая в сердце после разговора с Самариным, как-то сразу приутихла, ушла на второй план. «Лиля в тюрьме… Что с ней? За что?» – эти вопросы вставали перед ним тревожной загадкой. Струмилин пожалел, что так холоден, так жесток был по отношению к Лиле последние полгода. Вспомнил казенный ответ на ее теплое письмо, в котором она просила единственное – хоть иногда видеть его. «Это жестоко! Это даже предательски!..» – ругал себя Струмилин, поднимаясь по скрипучим, полуистлевшим от времени деревянным ступеням лестницы.
Найдя книжку, где был записан телефон Лили, он кинулся к телефону, но, натолкнувшись взглядом на соседку, которая из любопытства всегда готова была стоять на сквозняке, лишь бы подслушать телефонный разговор своего соседа, передумал и вышел на улицу, к автомату.
Набрал номер и попросил Лилю. Молодой, с хрипотцой голос ответил, что Лили нет дома.
– Где она?
– Она… Ее… – Голос в трубке осекся. – Кто ее спрашивает.
Струмилин догадался, что это была приходящая домработница Батурлиновых, он узнал ее по окающему владимирскому говорку.
– Вас беспокоит друг Лили. Скажите, в какой тюрьме она находится?
– В Таганской… А кто ее спрашивает?
Струмилин не давал опомниться домработнице:
– Скажите, пожалуйста, по каким дням разрешают в тюрьме свидание?
– А кто это спрашивает? – заладил одно и то же хрипловатый голос.
Струмилин так и не представился. Он поблагодарил домработницу и повесил трубку. Через Мосгорсправку он тут же соединился с коммутатором Таганской тюрьмы и узнал о днях и часах посещения заключенных. Сегодня вторник. Целые сутки ждать ему и томиться в догадках: за что посадили Лилю? Что ее ожидает? Что она могла сделать преступного?
Струмилин вернулся домой и попытался уснуть. Но уснуть не мог. То он вступал в мысленный диалог с розовощеким Самариным, который так глубоко его обидел, то он просил прощения у Лили. А когда думал о ней, то она почему-то представлялась ему такой, какой он видел ее в последний раз, когда шла она по переулку, – согбенная, несчастная.
«А может быть, и моя доля вины есть в том, что она сейчас находится в тюрьме?..»
На другой день рано утром Струмилин подходил к воротам Таганской тюрьмы. Никогда в жизни не приходилось ему иметь дело ни с тюрьмами, ни с уголовными преступниками. Концлагерь – совсем другое. Там, на чужбине, он был рабом, брошенным за колючую проволоку, в тифозные бараки. Брошен для того, чтобы умереть униженным, в неволе. Здесь – огромные кирпичные стены и узенькие зарешеченные окна, выходившие на веселые московские улицы, которые как бы дразнили своей вольностью и напоминали заключенному, что за стеной – просторный мир Москвы. Люди!.. Миллионы улыбающихся, счастливых, родных людей, которые говорят на твоем родном языке, дышат тем же воздухом, что и ты.
Струмилин волновался в ожидании предстоящего свидания, которое в порядке редчайшего исключения разрешил прокурор Богданов. «За что?!» – не выходило из его головы, и он терялся в смутных догадках.
Но вот, наконец, вышел белобрысый долговязый парень в солдатской форме и выкликнул его фамилию. Струмилин вошел в комнату, которая была местом свидания, и замер почти на самом пороге. «Неужели это она?!» – мелькнуло у него в голове. Там, у стены напротив, стояла женщина в полосатом байковом халате, который висел на ней мешковато. Бесцветные пепельные губы, бледно-желтые провалы щек и над всем этим – глаза. Большие, испуганные и удивленные, они смотрели из голубоватотемных провалов и словно спрашивали: «Что вам нужно?! Кто вы такой?»
Струмилин поборол минутную растерянность и подошел к Лиле.
– Лиля? Как ты сюда попала?
Горькая улыбка свела губы Лили.
– Как видишь… За хорошие дела сюда не попадают.
– Лиля, я спрашиваю серьезно, – с дрожью в голосе произнес Струмилин.
Лиля потупила взор и недрогнувшим голосом спокойно ответила:
– За кражу.
– Что?!
– За соучастие в хищении государственного имущества.
– Я этому никогда не поверю! Все, что угодно, только не это… Я же знаю тебя, Лиля!
Надзиратель указал Струмилину и Лиле места за столом. Как и полагается по тюремной инструкции, они сели друг против друга. Рядом со Струмилиным сидела пожилая женщина, а напротив ее за столом горбился рыжий веснушчатый парень. Это, очевидно, был сын женщины, она была тоже рыжая. Судя по тому, с каким аппетитом парень уплетал кусок ливерной колбасы, можно было думать, что тюрьма не пошатнула его аппетит. А пожилая женщина смотрела на сына и исходила тихими беззвучными слезами.








