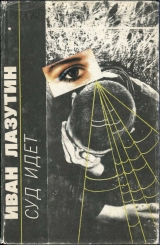
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 35 страниц)
IV
Заснула Лена в двенадцатом часу, после двойной дозы снотворного. Рядом с ней, прижавшись, как воробышек, безмятежно спала дочь. Поправляя на них одеяло, Струмилин заметил торчавший из-под подушки уголок толстой тетради в клеенчатом переплете. Потихоньку вытащив тетрадь, он на цыпочках, чтоб не разбудить спящих, прошел к столу. Зажег настольную лампу и потушил большой свет.
Толстую, наполовину исписанную тетрадь Струмилин видел впервые. Это был дневник жены. В начале его стояло обращение к мужу.
«Родной мой! Эти строки ты прочитаешь, когда меня уже не будет рядом с тобой. Сегодня был большой консилиум. Был приглашен сам профессор Гордеев. Он только молча кивал головой и, забыв о том, что я тоже врач, вынес мне приговор на латинском языке. Я и сама знала до этого, что мою единственную ногу ожидает та же участь, что и… А раз так, то, значит, скоро я покачусь на роликах, упираясь ладонями в мостовую. А ведь это ужасно! Я рада, что месяц от месяца у меня растет давление. Может быть, мне не удастся дожить до того печального дня, когда меня положат на операционный стол.
Вспомни, мой милый, те времена, когда мы служили в медсанбате кавалерийского полка. Не ты ли мне говорил, что по лихости и удали в верховой езде, по красоте посадки мне нет равных во всем полку. Помнишь, сам командир полка Егор Иванович Манычев любил посмотреть, как брала я на своем Орлике препятствия. Все чаще и чаще в последнее время я вспоминаю эти мелькнувшие, как солнечные зайчики, дни.
А помнишь, как я поспорила с майором Маловым, что перескачу на своем Орлике через небольшую речушку (я забыла, как зовут эту речушку), и проспорила? Самым смешным в этом комическом эпизоде был ты, который вызвался быть третейским судьей. Орлик взял бы речку (в этом я и сейчас уверена), если бы не сплоховала сама наездница. В двух саженях перед препятствием я испугалась и хотела остановить вытянувшегося в струнку моего верного друга. Но было уже поздно. Я только сбила ему ритм галопа и все испортила. Но поделом мне за это. Зато хорошенько искупалась в апрельской водице. Мне и сейчас смешно и мило до слез вспоминать, как ты, мой тайный поклонник, бросился выручать меня из воды. Если б ты видел себя в эту минуту!.. Ты бы не мог не расхохотаться. С округленными от страха глазами, перемазанный грязью и опутанный водорослями, ты, военврач Струмилин, походил на вынырнувшее со дна маленькой речонки привидение. В тот день я первый раз почувствовала, что ты будешь моим мужем, самым близким другом.
Кто знал тогда, мой дорогой, что двадцать второго июня на рассвете наш полк поднимется по боевой тревоге и через несколько дней попадет в окружение! По-настоящему, на всю жизнь я полюбила тебя уже в окружении, когда увидела в своем Струмилине не только хорошего врача, но и до безрассудства смелого солдата.
Те четыре дня, когда мы еще отдавали последние силы, пытаясь прорваться к своим, остались в моей памяти кошмарным воспоминанием. Каждый, кто был в силах носить оружие, свершил подвиги, достойные высоких почестей героя. Но где они сейчас, наши боевые друзья и товарищи?
Вспомни, как умер командир полка. Словно чувствуя, что день десятого июля будет последним днем в его жизни, он рано утром побрился, начистил сапоги, искупал коня и надел свою парадную бурку. Вечная ему память!.. Он думал, что свои близко и если хорошенько нажать, то можно вывести остатки полка из окружения. Что-то легендарно-сказочное было в его затянутой ремнями остроплечей фигуре, покрытой отороченной мехом буркой. Перед тем как повести полк на прорыв, он объехал эскадроны и старался приободрить уставших, но не упавших духом солдат. Он и мне по-отцовски подмигнул и сказал: «Не робей, Аленка, ужинать будем на родной земле, со своими». Конь под ним плясал. Казалось, что командир нарочно дразнил его и бодрил, пытаясь всем своим уверенно-непобедимым видом внушить подчиненным веру в предстоящую операцию.
Ветер свистел в ушах, когда сквозь пули и осколки мы скакали через воронки и траншеи к соседнему леску. А как красиво взял комполка проволочное заграждение! И это с его-то добрыми пятью пудами веса. Я видела, как склонился он на крутую шею вороного, как провисли поводья, как кто-то, поддерживая в седле своего командира, скакал рядом с ним. Мне кажется, что это был его бывший ординарец, которого он месяц назад разжаловал из сержантов в рядовые за то, что тот опоздал на два часа из увольнения. Уже у самой опушки леса, куда от остатков полка доскакала только треть (остальные легли на этом двухкилометровом переходе), ординарец встал во весь рост на стременах, выгнулся дугой, точно стараясь кого-то обнять, выронил из рук клинок и повалился с коня. Я видела, как волочило его потом по земле. Я скакала сзади, видела, как оборвалось стремя, в котором застряла нога убитого. Но командира все-таки не бросили. Его довезли до того места, куда немцы побоялись заходить. А помнишь, как он умирал? Если б наши художники и поэты хоть в десятой доле смогли передать напряжение и горечь той минуты – зрители и читатели каменно замирали бы у этих полотен, над этими поэмами.
«Вышли?» – спросил он, умирая.
«Вышли, товарищ командир», – сказал ему кто-то.
«Ну и слава богу… Командование полком поручаю командиру эскадрона Чуканову…»
Он даже не знал, что Чуканов остался лежать в ковыльной украинской степи, навек успокоенный немецкой пулей. Последнее, что было сказано умирающим командиром, – это приказ держать соседнюю деревушку и ждать подкрепления от своих.
Тебя тогда ранили в руку. Я обрабатывала и перевязывала рану. Уже тогда ты мне казался таким же родным, какой ты есть для меня сегодня.
Я никак не могу согласиться с тем, что звание Героев Советского Союза у нас присваивают только счастливчикам, кому довелось остаться в живых, или тем, кто свой подвиг совершил на виду у всех, отдав за него жизнь в наступательном бою. А разве мало героев безымянными погибли в обороне? Отступление, плен, окружение в нашей армии считается позорным делом. Наш командир попал с полком в окружение. И вряд ли жене его и сыну прислали письмо из штаба, в котором сообщили, что их муж и отец в боях за Родину пал смертью храбрых. Он погиб как герой, но числится в списках без вести пропавших во вражеском окружении.
Я уверена, что придет время, когда имена этих безымянных героев, которые остались лежать «за той чертой», будут высечены золотыми буквами на черном граните вечных постаментов. О подвигах, вовремя не замеченных, Родина вспомнит и оценит их.
О том, как через два дня мы стали уже военнопленными, мне страшно вспоминать. Из всего того мерзкого и ужасного, что пришлось пережить, я запомню только одно: вы, пленные мужчины, относились ко мне, единственной среди всех уцелевших из полка женщин, как святые, как подвижники. Я это помню и память эту унесу с собой в могилу. По глупой традиции почему-то принято считать, что русский мужчина самый некорректный в отношении к женщине. Хвалят за эти добродетели лощеных французов! Ерунда! Все это салонная фальшь! Наш русский мужчина не умеет перед женщиной расшаркиваться в поклонах и целовать ей руки. Но случись, что эту женщину обидели, что ей угрожает беда, тот самый невоспитанный по этикету рязанский мужик пойдет на нож и грудью своей заслонит от пули свою соотечественницу.
До пересыльного пункта вы несли меня на руках. Почему тогда меня не пристрелили конвойные, я и сейчас никак не могу понять. Может быть, потому, что был секретный приказ гитлеровского интендантства о том, чтобы русских женщин с красивыми светлыми косами по дороге не убивать. Таких женщин было приказано доставлять живыми до пересыльных пунктов, где их тут же стригли и, если была нужда, пускали в расход.
Больше всех досталось тебе, мой дорогой военврач Струмилин. И тяжело раненый, ты ни на минуту не забывал обо мне. Ведь я знаю, что первое слово, которое ты произнес, когда пришел в сознание, – было мое имя. И ты еще иногда ругаешься на меня, когда я не нахожу себе места, если ты заболеешь или долго не возвращаешься с работы. О ком же мне заботиться? Кого же мне любить, как не тебя и нашу маленькую дочурку? Вот и сейчас, пишу эти строки, а сама думаю: как ты сейчас поживаешь там, в Одессе? Я боюсь, чтоб ты далеко не заплывал в море. Чего доброго – сведет судорогой ногу, и тогда… Мне даже страшно об этом подумать!
А иногда я подолгу лежу в бессоннице и до того забью себе голову всякими дурными мыслями, что по целым ночам не могу заснуть. То мне представится, что на тебя напали одесские жулики, то кажется, что ты разлюбил меня и встретил там молодую и красивую девушку и танцуешь с ней вальс. А она, грациозная и легкая, как пушинка, кружится и улыбается тебе, улыбается и кружится. Ты тоже счастлив с ней и тоже улыбаешься. В такие минуты я начинаю плакать, и мне становится невыносимо больно.
С сегодняшнего дня я решила вести дневник. Вот и сейчас записала четыре страницы и так устала, как будто на мне возили воду. И вместе с тем как-то легче стало на душе, точно я досыта наговорилась с тобой, мой дорогой, мой бывший военврач сто семнадцатого кавалерийского полка, гвардии капитан Струмилин.
Все эти дни в Москве стоит ужасная духота. Панорама, расстилающаяся под моими окнами, совсем больничная: поникшие под нестерпимым солнцем деревья, обсыпанные жухлым, нагретым песком дорожки и застиранные полосатые пижамы больных. Лучом света в этом больничном царстве являешься ты и твой черноморский отдых. Мне очень хочется, чтобы ты хоть раз в жизни по-настоящему загорел, чуточку потолстел и научился чаще улыбаться. Завтра я напишу тебе оптимистическое письмо и непременно солгу в главном пункте: мое здоровье.
Врачам болеть гораздо труднее, чем медицински необразованным людям: те даже перед смертью верят и ждут от нас, врачей, исцеления. Иногда бывают и чудеса: некоторых все же удается спасти. А нам, грешным эскулапам, никто не зажжет заветных туманных огоньков надежды, когда картина насквозь ясна. И все-таки завтра в письме я буду тебе лгать и доказывать, что моей ноге ничего не угрожает, что моя гипертония была временна, что я уже подумываю, как бы скорее выписаться и что-нибудь предпринимать насчет работы. Сидеть целыми днями сиднем в кровати становится невыносимым. Давать письменные шаблонные ответы радиослушателям – тоже навязло в зубах. Хочется работать с живыми людьми, видеть скорбные, молящие глаза больных, которые смотрят на тебя и безмолвно говорят: «Доктор, помоги, спаси…» Если верховный главнокомандующий во время опасных боев чувствует такую же ответственность и напряжение, как лечащий врач, когда он входит в палату тяжелобольных, то он знает наверняка, что такое ответственность и что такое отвечать за судьбы людей. Ловлю себя на одной мысли: все сравнения и аналогии я почему-то привыкла строить в одном плане: война, сражения, командир, солдат… Это, очевидно, потому, что самой болезненной и самой чувствительной частицей сердца я срослась с моим фронтовым прошлым.
Перечитала свою первую дневниковую запись и поняла, что у твоей жены никакой логики мышления нет. Какие-то обрывки мыслей, вздохи, ахи и охи… Оправдывает только одно: пишу то, что приходит на ум, что стучится в сердце. Озабочена только одним: чтоб когда-нибудь эти строки не навели на тебя уныние.
Каждую ночь мне снишься ты и Танюшка. Три дня назад приходила мама – обещала в следующее воскресенье прийти.
Дежурная сестра уже дважды тушила свет в моей палате: давно пора спать. Вот и сейчас снова слышу чьи-то легкие шаги в коридоре. Если это дежурный врач, то мне непременно влетит. Итак, милый, спокойной ночи. Тянусь уставшей правой рукой к выключателю».
На этом первая запись в дневнике обрывалась. Струмилин отодвинул тетрадь в тень от колпака настольной " лампы и подошел к кровати. Разметав руки, Лена спала. Выражение ее лица было таким, точно она собиралась сказать: «Если б я смогла хоть в сотой доле рассказать в этом дневнике, как я люблю тебя и как ты мне дорог!..»
Таня, запрокинув свое румяное личико, уткнулась носом под мышку матери и правую ручонку положила ей на грудь. Одеяло сползло до пояса.
Струмилин долго стоял над спящими.
Вздох жены испугал его, и он на цыпочках отошел к столу. Сонно чмокая губами, Лена перевернулась на другой бок, и снова послышалось ее ровное дыхание.
Струмилин загородил дневник спиной и принялся читать дальше. Эшелон военнопленных, гамбургские страдания, издевательства фашистов, два его побега, освобождение Советской Армией, снова возвращение в строй – все это с изумительной четкостью вставало перед его глазами.
Настенные часы пробили два раза. В соседних домах потухли огни. Струмилин никак не мог оторваться от тетради в клеенчатой обложке. Только теперь перед ним во всей своей полноте и неизмеримой глубине открывались те грани характера жены, о которых он раньше только догадывался, а если замечал их, то не ценил.
Последняя запись оборвалась неожиданно, она испугала Струмилина. Лена писала:
«Двадцатого сентября. На всех перекрестках и переулках, где растут деревья, прибили таблички с надписью: «Листопад. Берегись юза». Вот уже и осень наступила. Может быть, эта осень будет последней в моей жизни. Об этом я думаю как врач, а не как больной. Давление растет. Приступы боли в ноге все учащаются. Коля даже не знает, что я живу на одном морфии. Я делаю уколы тайком от него, чтоб он не знал о приближении конца. Пусть моя лебединая песня будет пропета для него совсем неожиданно.
Бедняга, он так много работает, у него две ставки, приходит домой всегда усталый, носится по магазинам, часами простаивает в очередях, готовит обед, сам купает Танечку, ухаживает, как нянька, за мной… Последние дни я больше думаю не о себе, а о нем, о дочурке. Как он переживет мой уход?! Он это чувствует и понимает, как медик, но на что-то надеется и гонит от себя страшные мысли. Я это вижу. Как два актера, мы фальшиво играем друг перед другом бодрячков и оба осознаем, что лжем в этой игре, успокаивая друг друга. По что делать: иногда и во лжи есть спасительные островки, если эта ложь святая.
Еще мне кажется, что с юга он приехал с каким-то новым настроением. Он словно помолодел духом, временами бывает рассеянный. Таким он давно уже не был. А что, если он познакомился там с какой-нибудь женщиной и делит себя между мной и ею? Это, пожалуй, самое страшное, самое тяжелое, что на меня обрушится в мои последние дни. Умереть я хочу с одной радостной и счастливой верой: он любит только меня одну, такую, какая я есть, – изуродованную, приговоренную, беспомощную…
Пусть весь мир твердит мне о том, что он любит другую, – я в это не поверю! Он это не может! Нет, нет, Струмилин этого не сделает! Я его знаю. Он слишком благороден и добр. Он слишком чист, чтобы отравить мои последние дни. А может быть, я не права? И эгоистически, жестоко сужу его, когда хоть на одну минуту допускаю мысль, что он близок с другой женщиной? Может, мне, наоборот, нужно внушить ему, чтобы после моей смерти (как страшно произносить это холодное, ледяное слово! Я смотрю в зеркало и вижу ужас в своих глазах. Какой-то серый могильный пепел уже дышит в них!) он нашел себе добрую, порядочную женщину, которая могла бы до конца оценить его и заменить мать Тане. Судьба дочурки меня страшит. Как они будут тут без меня?..
Что-то их сегодня долго нет. Я вся изныла за эту неделю. Как она там, моя кроха, не похудела ли?.. Пишу эти строки, а сама после каждого слова заглядываю в окно – не идут ли. Сейчас вот-вот они должны показаться. Кто их будет встречать, когда в этом доме меня не будет?.. Но вот, кажется, и они. Я вижу их издалека. Они показались в переулке. Где мои костыли? Как только они подойдут поближе, я крикну им. Танечка взглядом ищет окно нашей комнаты. Как у нее выгорели волосенки, совсем как зимний зайчонок! Допишу в понедельник. Милые, лечу к вам… Скорее!..»
Струмилин вспомнил вечерний разговор о Лиле и понял, что подозрения Лены, которые она строила на одном чутье любящей жены, на одной только интуиции, теперь подтвердились фактом. Нужно что-то делать. А что? Он пока не знал. Знал только одно, что завтра ему предстоит об этом говорить с женой. Если он будет лгать, она все равно ему не поверит. Он никогда не обманывал ее даже в мелочах. А тут была не мелочь, говорить придется о Лиле.
Закрыв дневник, он на цыпочках подошел к кровати и, осторожно приподняв угол подушки, засунул под нее тетрадь. Разделся бесшумно, чтобы не разбудить Лену, лег в раскладную кровать.
Пробило уже три часа, а Струмилин все не засыпал. Он думал о том, что он скажет завтра жене о Лиле.
V
Проснулся Струмилин в десятом часу утра, когда жена и дочь, уже давно бодрствуя, разговаривали шепотом, боясь разбудить его.
Не открывая глаз, Струмилин прислушался.
– Ступай, дочка, поставь чайник.
– А как его поставить?
– Налей под краном воды и попроси тетю Феню, чтобы она поставила его на плиту, только дверью сильно не хлопай.
Струмилин не слышал, как прошла мимо него дочь. Не слышал, как закрыла за собой дверь. Слегка приоткрыв глаза, он увидел, как Лена воровато достала из-под матраца маленькую коробочку, вытащила из нее стеклянную ампулу и наполнила ее содержимым шприц. Боязливо поглядывая на дверь, она быстро сделала укол в бедро и поспешно спрятала шприц под матрац.
Первое, что хотелось сделать Струмилину, было желание немедленно встать, отобрать у жены шприц, морфий, устыдить ее. Но другая, тяжелая мысль пригвоздила его к кровати. «У нее дикие боли. Она крепится изо всех сил, чтобы не кричать. Она не хочет расстраивать нас с дочерью. Родная, прости меня за вчерашнюю ложь, которую я повторю тебе сегодня! Я ее повторю для твоего спокойствия. Но я клянусь тебе, что сегодня я все скажу Лиле. Скажу, чтобы больше она не искала со мной встреч».
Пришла Таня и тихонько подкралась к матери.
– Мама, много спать вредно, нам в садике об этом говорили.
– Ступай, доченька, разбуди папу, только осторожно. Вначале поцелуй его, потом потряси за плечо.
Продолжая притворяться спящим, Струмилин слышал, как к его раскладушке подошла дочь, потом почувствовал, как она прикоснулась своими лепестками губ к его щеке и принялась трясти за плечо. Струмилин открыл глаза.
– Вставай, – проговорила Таня шепотом. – Много спать вредно.
– Почему вредно? – также шепотом спросил Струмилин.
– Так в детском садике говорили.
Струмилин отметил в своем сознании одну забавную черту человека: если он по необходимости долгое время говорит шепотом, чтоб не нарушать чей-то покой или чтоб его не подслушали, то даже тогда, когда в этом уже нет необходимости, человек все-таки по инерции продолжает говорить шепотом. А поэтому и Лена и дочь от неожиданности вздрогнули, когда он, потягиваясь, громко проговорил:
– Доброе утро, леди и джентльмены! – сказал и улыбнулся. Ему было смешно смотреть на испуганные лица матери и дочери.
Лена в это утро не встала. Завтрак ей подали в постель.
– Что-то побаливает нога и кружится голова, – сказала она и с трудом выпила стакан чаю.
В этот день Струмилин ходил в магазин за продуктами, запасаясь ими на целую неделю, готовил обед, вместе с дочерью ходил к метро за мороженым.
К полудню самочувствие Лены улучшилось, и она решила встать к обеду. Наблюдая из окна, как отец и дочь, взяв друг друга за руки, переходили улицу и о чем-то разговаривали, Лена не могла сдержать слез. Она проводила их взглядом до поворота в переулок, где они скрылись за углом.
Взгляд ее упал на толстую тетрадь, торчавшую из-под подушки. «Что я делаю? Ведь так она может попасть в руки Коли!» И Лена надежно припрятала дневник в потайной разрез в матраце.
Струмилин и Таня вернулись с мороженым и большим букетом осенних цветов. Бордовые георгины горели посреди печальных хризантем.
Ничто не могло так радовать Лену, как цветы. На них она могла смотреть часами, не отрываясь. При виде цветов она, как маленькая, захлопала в ладоши, попыталась пойти навстречу мужу, но, наступив на больную ногу, глухо вскрикнула и присела на стул.
После обеда, когда Лена и дочь, примостившись у окна, стали переводить картинки, Струмилин вышел из дома. Его уход Лена не заметила. А когда она случайно подняла глаза и через окно увидела мужа уже в переулке, крикнуть не решилась. Однако что-то тревожное опять закралось в ее душу, и она уже без особой радости занималась с дочерью.
Ровно в четыре часа Струмилин был у входа в метро «Кировская», где его ждала Лиля. Она пришла на несколько минут раньше. Дорогой он настраивал себя на сухой, почти официальный тон. Мысленно сравнивая жену с Лилей, он все более и более раздражался, про себя произносил тот гневный монолог, который должен определить все его поведение с Лилей. Одна дружбу пронесла сквозь смертельные испытания и никогда не изменила ее обетам. Жертвовала собой, чтобы спасти его. Разве этого мало, чтобы оценить ее до конца? А другая? Курортное знакомство. Избалованная роскошью и модами женщина. Любовь ли это? Чем она проверена? На каких огнях ее закалили? Романтическая привязанность к герою-бильярдисту, который на два дня вскружил ей голову? А потом? Что потом? Потом вино и вагонная постель. Это был, пожалуй, самый позорный шаг, не устоял перед соблазном, сдался… Будь хоть на этот раз мужчиной и скажи ей всю правду в глаза. «Лучше резануть раз, чем тянуть эту слащавую мелодраму… Будь что будет!» С этими мыслями Струмилин остановился около телефонных будок в вестибюле и посмотрел на часы.
– Вы очень точны, Николай Сергеевич. Я и это ценю в вас, – услышал он из-за спины.
– Спасибо, – отчужденно ответил Струмилин, стараясь не смотреть в глаза Лиле. Но в эту же минуту он почувствовал, что весь фундамент разговора, который он мысленно построил дорогой, начинал шататься, давать трещины. Образ жены начинал исчезать, растворяться в ясном взгляде красивых глаз Лили…
– Что-нибудь случилось? – с искренним беспокойством спросила Лиля.
– Да. – Струмилин хмуро смотрел поверх головы Лили.
– Ты какой-то смешной и растерянный. Пойдем на бульвар, расскажи все толком.
– Пойдем. Я расскажу тебе все по порядку. – Струмилин посмотрел на Лилю и заметил в глазах ее тревогу. Она предчувствовала недоброе.
На скамейках, усыпанных желтыми листьями, сидели пожилые люди. Время от времени они посматривали на своих внучат, которые тут же возились с игрушками. Со стороны пруда доносились смех и возгласы катающихся на лодках. Какой-то чудак, примостившись на заднем сиденье лодки, лихо играл на гармонике «Саратовские страдания». Две девушки, повязанные яркими косынками, сидели на веслах.
Первой заговорила Лиля.
– Ты хочешь сказать мне что-то важное, Коля?
– Да. Я хочу сказать тебе очень важное, очень серьезное.
– Я слушаю тебя.
– Больше мы не должны встречаться.
– Почему? – Лиля неожиданно круто остановилась. Но тут же справилась со своим секундным замешательством и поравнялась со Струмилиным, который продолжал идти, не замедляя шага.
– Так нужно! – твердо ответил он.
– Зачем же ты вчера хотел познакомить меня со своей женой? Ты говорил неправду? Шутил?
– Нет, я говорил правду. Но это было правдой вчера. Правдой оно было случайно. И вообще наша встреча была случайной и… если хочешь, нелепой, бессмысленной.
– Нелепой?! – выдохнула Лиля. – Бессмысленной? Тогда зачем же ты лгал мне раньше?
– Я лгал тебе? – Струмилин остановился. В голосе его звучал металлический холодок. Трещинки в фундаменте начали затягиваться бетоном. – В чем я тебя обманывал?
Лиля виновато потупилась, опустив голову.
– Коля, прости меня, я не то сказала. – Она говорила с трудом. Слова, перехваченные нервной спазмой подступающих рыданий, были еле слышны. – Прости меня, во всем виновата я. Но что я могла сделать с собой? Я не виновата, что встретила тебя…
Рядом с замурованной трещиной в фундаменте неожиданно обозначилась новая трещина. Струмилин пытался стянуть ее железными прутьями. «Размяк, как мальчик на первом свидании. Шел для твердого мужского разговора, а сам…»
И все-таки Струмилин готовил последний удар, который должен разрубить вязкую повитель, запутавшую его и Лилю.
– Лиля, я не люблю тебя. Ты это знаешь.
– Да… Но ты этого мне никогда не говорил… – подавленно и как-то испуганно произнесла Лиля.
– Все, что было между нами, все это – курорт. Все это не то. Все это – флирт, который у нас зашел слишком далеко, его нужно кончать. Ты прекрасно знаешь, что значит для меня моя жена, ты знаешь, как она тяжело больна. И страшнее всего, что она начинает догадываться о нашей курортной дружбе. Вчерашнее твое знакомство с дочерью и твои подарки еще больше утвердили жену в ее догадках. С детьми не экспериментируют. Еще страшнее, когда над ними шутят. – Струмилин помолчал, холодно посмотрел на Лилю и закончил: – У меня жена, у меня дочь, и я прошу тебя… – Он не договорил.
В какую-то секунду все трещины в фундаменте были затянуты намертво железными обручами.
– Хорошо… Я оставлю тебя в покое… – Слова эти Лиля произнесла покорно, и даже не посмотрев на Струмилина, тихо пошла в сторону прудов.
Струмилин остановился. Сердце его билось неровно, с глухими перебоями.
Словно ожидая удара вслед, Лиля высоко подняла плечи и, ссутулившись, ускорила шаг.
А Струмилин думал: «За что? За что я ее так?!» Эта мысль, как бритвенное жало, резанула по сердцу Струмилина, и он снова почувствовал, как в фундаменте образовалась такая брешь, которую нельзя уже стянуть никакими прутьями. В нем был непоправимый пролом, из-за него могло рухнуть все здание.
Около часу бродил Струмилин по городу. Его разрывали противоречия, он до мельчайших деталей вспоминал разговор с Лилей, анализировал каждое ее слово и в конце концов приходил к выводу, что не так, не то нужно было говорить Лиле, что он незаслуженно жестоко, как ударом ножа в спину, обидел ее. И тут же перед глазами его вставал образ жены. Она представлялась ему такой, какую видел ее вчера, спящую в кровати, преданную ему, готовую ради него на все: на муки и на лишения.
И чем ярче и живее выплывал из тумана образ жены, тем легче становилось ему. Ускоряя шаг, он вслух разговаривал сам с собой: «Иначе нельзя! Нужно обрывать все одним ударом! И не тянуть. Дома меня ждут жена, дочь. Что я им скажу, когда вернусь? Где я был? Чем объяснить Лене свое волнение?.. Цветы? Да, только цветы! Это, пожалуй, единственное, что остудит все ее догадки и подозрения. Кажется, у Ремарка где-то мудро сказано: цветы покрывают все – даже могилы».
Домой Струмилин возвращался с бутылкой сухого вина и с букетом цветов. Еще издали заметила его из окна Таня и замахала ручонками. Всматриваясь в лицо дочери, он искал на нем улыбку, выражение радости и восторга, с каким обычно она встречала его, когда он возвращался домой. Но этого выражения не было на лице дочери. Поравнявшись с домом, он увидел совсем другое: по румяным щекам Тани скатывались слезы.
– Мама… – донесся до слуха Струмилина слабый детский голос.
На третий этаж Струмилин вбежал.
У Лены был сердечный приступ. Разбросав руки, она лежала на кровати; как выброшенная на берег плотвица, хватала ртом воздух и с трудом выговаривала:
– Там… в тумбочке… пятнадцать капель…
Через час приступ кончился, и Лена, по-прежнему счастливая и возбужденная, смотрела на цветы, на дочь, на мужа.
– Давайте выпьем, – улыбаясь, тихо сказала она и поманила к себе пальцем Струмилина. – Выпьем за все хорошее.








