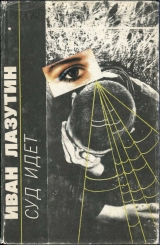
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 35 страниц)
II
Бардюков уже сидел в кабинете молодого следователя и читал протоколы допросов, когда вернулся Шадрин.
– Слабовато, слабовато, голубчик, – сказал старший следователь, язвительно улыбнувшись. – Из четырех возможных одно попадание. Маловато. С этим народом нужно меньше деликатничать, и тогда они говорят, как на исповеди. Что же ты их отпустил ни с чем?
– Я сделал перерыв, ждал вас. У меня что-то не идет дальше. Заартачились и ни с места…
– Понятно, понятно… Старая песня: тяжело подняла, прыгнула с подоконника, упала со стула… Кто там из них пришел? Бардюков плюнул на ладони и потер ими так озорно, точно в следующую секунду собирался ринуться в драку. – Ну-ка, давай сюда одну из них! Посмотришь, как с этой братией надо обращаться.
Шадрин пригласил Филиппову, ту самую блондинку, с которой он так неудачно начал свой первый рабочий день в прокуратуре.
Рядом со столом, за которым сидел Бардюков, у окна стоял маленький канцелярский столик. Шадрин присел за него и решил наблюдать, как будет допрашивать строптивую гражданку следователь со стажем.
На вошедшую Бардюков даже не взглянул. «И это, наверное, тоже входит в его тактику», – подумал Шадрин. Бардюков, казалось, в эту минуту думал о чем-то совершенно постороннем, не относящемся к делу.
Но это продолжалось недолго. Точно спохватившись, старший следователь пробежал глазами протокол допроса гражданки Филипповой, поднял голову и только теперь пригласил вошедшую сесть.
– Благодарю вас, – поджав губы, ответила девушка, и, обмахнув платочком стул, жеманно села.
– Вы, гражданка Филиппова, ответили следователю на все вопросы, кроме одного.
– А именно?
– Кто вам делал аборт?
– Я уже говорила гражданину следователю. – Девушка перевела глаза на Шадрина.
– Хватит! Слышали! Не повторяйте еще раз ложь, если не хотите накликать на свою голову неприятностей.
– Пожалуйста, не угрожайте. Я сказала…
– Вам не угрожают! Вас допрашивают, – с расстановкой произнес Бардюков, а сам тем временем достал из стола фотоаппарат, быстро поднес его к глазам и щелкнул два раза затвором.
Только теперь Филиппова поняла, что ее сфотографировали. К щекам девушки прихлынула кровь. Когда Бардюков снова поднял аппарат, подследственная закрыла лицо руками. Следователь еще раз щелкнул затвором.
– Замечательно, прекрасно! – весело приговаривал Бардюков. – Вот будут оригинальные снимочки для доски публичного обозрения. А там, глядишь, и «Вечерняя Москва» клюнет на такой шедевральный портретик!
– Вы не имеете права фотографировать меня! Я ничего не сделала такого…
– Конечно, это «такое», гражданка Филиппова, делали не вы. Я в этом не сомневаюсь. Но предупреждаю в последний раз: если вы не назовете фамилию вашей абортистки, две эти фотографии будут помещены на самом видном месте в районной фотовитрине. Поди, видели – висит у самого метро? Ваше божественное личико в двух позах будет завтра же красоваться среди хулиганов, забулдыг и пьяниц…
Бардюков встал и раздраженно продолжал:
– Вы, гражданка Филиппова, прикрываете преступников, а тем самым являетесь прямым сообщником нарушителя советских законов. Примите к сведению также и то, что решение суда по инициативе прокуратуры, лично по моей инициативе будет доведено до всеобщей огласки по месту вашей работы! Об этом узнают все ваши друзья, ваши родные… Короче – чем искреннее будут ваши показания, чем быстрее вы сообщите фамилию абортистки, тем легче вам будет.
Бардюков сел и, делая вид, что ему уже давно пора заниматься другими делами, резко бросил:
– Вы свободны! У меня нет больше времени на то, чтоб вас уговаривать. – Он посмотрел на Шадрина. – Дмитрий Георгиевич, пригласите, пожалуйста, следующую гражданку.
Филиппова встала и в нерешительности застыла на месте. Напор и грубоватая стремительность, с которыми обрушился на нее старший следователь, сделала свое дело.
– Гражданин прокурор… – невнятно пролепетала Филиппова, полагая, что имеет дело с самим прокурором. – Я прошу вас, выслушайте меня. Вы понимаете… Я не могла оставить ребенка. Поймите, я не могла… Ведь я еще не замужем, а родители мои так строги, что они никогда не простили бы мне этого, они прогнали бы меня из дома…
Бардюков сделал вид, что не хочет слушать допрашиваемую. Еще строже он бросил ей:
– Одна минута в вашем распоряжении! У меня нет времени выслушивать сказки о ваших внебрачных любовных похождениях. Пусть о них узнают читатели фотовитрины «Не проходите мимо»…
– Гражданин прокурор, я все скажу… Только умоляю вас – не делайте этих карточек и не сообщайте на работу… Я все скажу!
Филиппова вытирала платком слезы.
– Присядьте и кратко расскажите: где, когда и кто вам делал аборт?
Филиппова присела на кончик стула.
– Вы понимаете, гражданин прокурор… Я не могла иметь ребенка… Мои родители…
– Хватит, голубка, хватит! Повторяю еще раз три вопроса: кто, где, когда?
После некоторого молчания Филиппова приглушенно ответила:
– На Скатертном переулке.
– Когда?
– Семнадцатого августа.
– Фамилия и имя?
– Перешвынова Елизавета Степановна.
Бардюков не давал опомниться Филипповой.
– Сколько заплатили?
– Двести рублей.
– Твердая такса. Вот так бы нужно с самого начала. Посидите минутку здесь.
Старший следователь вышел к прокурору выписать постановление на обыск у Перешвыновой.
Когда он вернулся, лицо Филипповой было распухшим от слез. Краска с ресниц мутноватыми дорожками вместе со слезами текла по щекам. Бардюков с трудом сдерживал улыбку. Давил внутренний хохоток и Шадрина.
– Гражданин прокурор, умоляю вас, не посылайте карточки в эти витрины!.. Если узнает отец или на работе… Я сказала всю правду, как вы велели… – Дальнейшие слова были прерваны приглушенными рыданиями.
Шадрин сидел и любовался «чистой» работой старшего следователя. То, над чем он бился больше часа, Бардюков сделал за семь-восемь минут. Любовался, а сам думал: «Где, где же та методика и тактика расследования, которую преподают в университетах? Гуманность, особый подход, разъяснительная работа, увещевание – все это сюсюканье кафедральных генералов от юридической науки… А здесь, в жизни, на практике все по-иному. Здесь своя, наступательная тактика…»
– Хорошо, – снисходительно произнес Бардюков. – Обещаю вам не посылать эти фотографии в «Окна сатиры». Но это только в том случае, если вы сказали правду. – Он пододвинул Филипповой протокол допроса. – Распишитесь вот здесь и здесь. И вы свободны.
Крупная слеза, блеснув на слипшихся ресницах Филипповой, сорвалась и упала на текст протокола. Бардюков быстро промокнул ее пресс-папье и повернулся к Шадрину.
– Прошу следующую. Вы, гражданка Филиппова, свободны.
Допрос двух других женщин прошел еще интенсивнее и с наибольшим напором. Бардюков был во власти какой-то неукротимой инерции. Шадрин ждал, что он, как по шаблону, полезет в стол за фотоаппаратом и будет снова повторять угрозы о том, что сообщит родным, на работу, поместит снимки в публичной витрине. Но ничего подобно не случилось. Толстой буфетчице из заводского клуба, которая освободилась от ребенка на пятом месяце беременности, он прямо безо всяких обиняков заявил, что на ее месте весьма и весьма невыгодно говорить органам следствия неправду. Критичность положения допрашиваемой, как это понял Шадрин, состояла в том, что у нее уже месяц, как кончился срок временной прописки в Москве, на что Шадрин совершенно не обратил внимание, когда проверял ее паспорт.
– Вы знаете, что вас могут за двадцать четыре часа выселить из Москвы? – тихо и вкрадчиво спросил Бардюков. Он даже пригнулся, когда задавал этот вопрос.
– Знаю, – робко ответила толстая буфетчица с громадными голубыми клипсами в ушах. После этого вопроса она как-то сразу потухла. Губы ее крупно вздрагивали.
– Вы что, хотите ускорить час вашего административного выселения из Москвы?
После этих двух вопросов, направленных в самое уязвимое место, допрашиваемая сообщила имя и фамилию своей абортистки, назвала ее адрес. Перед уходом она просила Бардюкова только об одном: чтоб ей разрешили в течение недели продлить временную прописку по старому адресу.
Хмурясь и почесывая подбородок, Бардюков помолчал, о чем-то подумал с озабоченным видом, потом великодушно разрешил буфетчице жить в Москве еще неделю без прописки. Но тут же предупредил: неделю и ни днем больше!
Следующей, четвертой, была молодая худенькая девушка в штапельном платьице, которая час назад по-голубиному невинно твердила Шадрину, что она передвигала гардероб и почувствовала боль в пояснице.
Бардюков с ней разговаривал совсем иным языком. Выслушав ее наивную ложь, он положил ладонь на стол и спросил:
– Только что окончили техникум?
– Да.
– Давно работаете на заводе?
– Двадцать дней.
– По существу проходите испытательный срок?
– Да, – с каждой минутой робея и вытягивая вперед худенький подбородок, ответила девушка.
– Комсомолка?
– Да.
– Большая у вас комсомольская организация?
– Большая.
Бардюков печально вздохнул и принялся разминать упругими короткими пальцами папиросу.
– Жалко мне вас, гражданочка Светловидова, но ничего не могу сделать. Придется о вашем поведении сообщить на работу, в комсомольскую организацию… И вообще вынести на широкий суд общественности. Не успела окончить техникум, еще незамужняя, и на вот тебе… Нагуляла. Вот будет веселенькое дело, когда узнают товарищи!
Еще два года назад, во время студенческой практики в прокуратуре и в милиции, Дмитрий Шадрин сделал вывод, что почти ни одна женщина, попавшая на допрос к следователю в качестве обвиняемой или подозревавшейся в совершении преступления, не обходится без слез. На этот раз он был даже тронут горькими рыданиями Светловидовой. Она силилась что-то сказать, но не могла, ее душили слезы.
А Бардюков, входя в раж, наступал.
– Я, конечно, постарался бы скрыть ваш позор от широкой огласки. Может быть, даже добился бы того, чтобы не сообщали об этом на ваш завод и в комсомольскую организацию, если бы вы с самого начала чистосердечно рассказали обо всем. Но ведь вы…
– Я все скажу, товарищ следователь… Только… – Спазмы рыданий захлестнули ее слова.
Успокоившись, девушка рассказала все, что от нее требовал Бардюков. Не переставая плакать, она вышла из комнаты.
Бардюков встал. Довольный собой, спросил Шадрина:
– Ну, как?
– Да-а-а… – неопределенно протянул Шадрин. – Почерк самобытный. И если не классический, не университетский, то по крайней мере фронтовой… Эти три допроса меня многому научили. Главным образом своим наступательным ритмом…
Вечером Дмитрий приехал к Ольге. Она нетерпеливо расспрашивала: что он делал днем, кого допрашивал, какие из себя эти преступники… И Дмитрий фантазировал. Сочинял разные небылицы о квартирных кражах, о спекулянтах мануфактурой, о хулигане, который публично оскорбил пожилую женщину. Сказать правду о первом рабочем дне он не мог по двум причинам: нельзя нарушать следовательскую тайну, а потом – уж слишком неромантические и неинтересные были его дела и подследственные.
В этот вечер они долго бродили у Оленьих прудов, заходили в самые глухие уголки парка. Ежась от ночного холодка и от выпавшей росы, Ольга как-то по-домашнему, будто к мужу или старшему брату, льнула к Дмитрию.
В беседке, где они присели на плетеной качалке, Дмитрий после долгого молчания, глядя сквозь кусты рябины на печальный месяц, спросил:
– Когда же подадим заявление?
– Тридцатого октября, – одним дыханием ответила Ольга.
– Долго… Ох, как это долго!..
Дмитрий закутал Ольгу в пиджак и положил на ее плечо руку. Выбившиеся из-под косынки пряди волос щекотали его губы. Душистые и теплые, как парное молоко, губы Ольги пахли степными цветами, дневным солнцем. Шадрин отшатнулся от нее. Она показалась ему спящей. На темных впадинах глазниц лежали черные полукружья ресниц. Губы, облитые лунным светом, глянцевито блестели. Кажется, никогда она не была такой красивой и вместе с тем такой покорной, такой родной.
Наклонившись к ней, он чувствовал ее спокойное, ровное дыхание. Взял ее на руки и легко, как ребенка, понес.
Ольга, не открывая глаз, тихо шептала:
– Да что ты делаешь?..
А в небе, задевая голубые рога месяца, хлопьями плыли облака. Они были такими же невесомыми, какой казалась Дмитрию Ольга.
III
Сегодня Лиля раньше обычного ушла с работы – отпросилась «по семейным обстоятельствам». Решила во что бы то ни стало повидать Струмилина. За прошедшую неделю она несколько раз пыталась дозвониться ему, но его не подзывали к телефону.
И вот прошел уже час, в течение которого Лиля украдкой наблюдала за дверью центрального входа клиники. Но Струмилин не появлялся. По ее расчетам, он уже давно должен был кончить работу и спешить в детский садик за дочерью, куда ее по понедельникам отводили на целую неделю.
Сидя на скамейке больничного дворика, Лиля провожала взглядом каждого, кто выходил из главного корпуса, и уже хотела было пойти к дежурной сестре и спросить, был ли Струмилин сегодня на работе. Но решила подождать еще. «Если не выйдет через десять минут, пойду… Позвоню вечером домой», – решила она, но тут же вздрогнула, почувствовав на своих плечах чьи-то руки. Знакомые, выхоленные, длинные пальцы… Сердце Лили забилось учащенно.
Позади скамейки стоял Струмилин.
– Где ты пропадаешь? Я проглядела все глаза, ожидая тебя!
– Лиля, я на одну минуту. Пойду сброшу халат, – сказал Струмилин и поспешно зашагал в сторону главного корпуса клиники.
Вернулся он скоро. С больничного дворика они вышли молча. У входа в метро, где легко можно потерять друг друга, очутившись в крутоверти толпы, она крепко сжала руку Струмилина.
Струмилин чувствовал волнение Лили и по тому, как она необычно молчала, понял: она что-то скрывает от него. Временами ему казалось, что Лиля пришла сказать о своем решении раз и навсегда расстаться с ним, объяснить всю нелепость их безрадостной дружбы, которая все глубже и глубже тянет ее ко дну, с которого ей будет тем трудней вынырнуть, чем дальше зайдут их отношения. А они зашли так далеко, что начинали пугать и Лилю и Струмилина, который раньше никогда не допускал даже мысли, что кто-нибудь третий может встать между ним и его женой.
– Ты что-то таишь от меня, – сказал Струмилин, пристально глядя в глаза Лили.
– Откуда ты взял? – замявшись, ответила Лиля. Она чувствовала, что ее полушутливый тон и неискренние слова никак не вяжутся с выражением лица.
До детского садика, куда Струмилин шел за дочерью, говорили о пустяках: о футболе, о новых расцветках ситца, поступившего в универмаг, где работает Лиля, о нашумевшем фильме по роману известного писателя…
От сказочного царства детского сада пахнуло на Лилю ветерком воспоминаний о далеком детстве. Когда-то и она с выгоревшими на солнце косичками носилась по зеленому дворику. Но это было давно, когда еще были живы отец и мать, до войны, в Воронеже, на тихой Студенческой улице, утонувшей в кипени каштанов и тополей. Те же маленькие и низенькие дверцы гардеробчиков, на каждой из которых были приклеены опознавательные знаки: заяц, морковка, бабочка, собака, стрекоза… Здесь же, глядя на своих детей, стояли родители, которые с тихой радостью наблюдали, как самостоятельно одеваются эти крошки. На глазах одной молоденькой мамаши Лиля заметила слезы. Ее сын, беловолосый бутуз, обняв шею матери, целовал ее в щеки, тыкался в подбородок и смешно картавил.
На дверце ящичка, где хранились личные вещи дочери Струмилина, была приклеена картинка с изображением пчелы.
– А где же Таня? – спросил Струмилин у сестры, которая вытирала нос веснушчатому мальчику.
– Она моет руки. Ваша дочка такая чистюлька, что перед едой каждый раз моет руки по полчаса. А вот она и сама.
С еще влажными пухлыми ручонками, на которых Лиля заметила нежные ямочки, к Струмилину подошла девочка лет трех. Голубые отцовские глаза недоверчиво остановились на Лиле.
– Ты чего так смотришь, дочка? – спросил Струмилин, опустившись на колени и поглаживая рукой льняные завитушки пушистых волос девочки. – Это тетя Лиля. Познакомься с ней. Она хорошая.
Таня смущенно, исподлобья посмотрела на незнакомку и нерешительно подала ей руку.
– Меня зовут тетя Лиля, – смущаясь, произнесла Лиля и неожиданно так покраснела, что румянец обжег даже уши.
– А меня – Танечка.
– Ну вот… и хорошо… А ты любишь конфеты?
– Люблю.
– Вот мы сейчас дорогой и купим. Ты какие конфеты любишь, Танечка?
– Всякие.
До метро Таня шла между Лилей и Струмилиным, взяв их за руки. У кондитерского киоска, где Лиля остановилась, девочка оживилась, глазенки ее заблестели.
– Хочешь «Мишку на севере»?
– Хочу, – сгорая от нетерпения, лепетала девочка и не спускала глаз с витрины, заставленной конфетами.
– А «Красную шапочку»?
– Тоже хочу.
Пока Лиля возилась с девочкой и рассовывала по ее карманам конфеты, Струмилин стоял в стороне и наблюдал, как быстро нашли общий язык трехлетний ребенок и двадцатипятилетняя женщина. Но вместе с тем ему было обидно и досадно видеть эту трогательную картину. Захотелось поскорее уйти домой, чтобы в памяти дочери не остался образ Лили.
– А у вас есть девочка? – неожиданно спросила Таня, подняв на Лилю глаза.
– Нет, Танечка, у меня нет маленькой девочки.
– Тогда у вас, наверное, есть большая девочка?
– И большой нет.
– А мальчик у вас есть?
– Нет и мальчика, – ответила Лиля и, пожалуй, первый раз в жизни искренне пожалела, что у нее нет до сих пор ребенка.
– А почему у всех тетей есть девочки или мальчики, а у вас нет?
Такой вопрос окончательно смутил Лилю. В его наивности и непосредственности звучало что-то недетское, глубокое.
– У меня через год будет.
– Через год? А это долго?
Чувствуя, что необдуманным ответом она наводит любознательного ребенка на новые вопросы, Лиля поспешила перевести разговор на другое.
– Танечка, ты лучше расскажи про свой детский сад. Какие песни вы поете? Знаешь ли ты какие-нибудь стихи?
Девочка очень любила читать стихи. Эту страсть она унаследовала от отца. Всю дорогу до дома Таня картавила детские стихи. Когда же Лиле в последние минуты захотелось поговорить со Струмилиным о своем и она перестала смотреть на девочку, то та поняла, что ее уже больше не слушают. Неожиданно оборвав стихотворение на середине, она умолкла. Этого не заметили ни Лиля, ни Струмилин.
– Коля, мне нужно с тобой серьезно поговорить, так дальше нельзя. Мы должны что-то решить. И потом… я знаю, к чему все это может привести…
– Что я могу решить? Неужели ты не видишь мое положение? – После некоторого раздумья он спросил: – Хочешь, я познакомлю тебя с женой? Ты узнаешь, что это за человек. – Он пристально посмотрел на Лилю. – Хочешь, сегодня?
– Нет, Коля, только не сегодня! Сегодня я не могу. Я не готова к этой встрече. И потом – зачем? Мы, кажется, подходим к вашему дому?
– Да, подходим.
– Когда и где я тебя увижу?
– Зачем? – строго и сухо спросил Струмилин, не глядя на Лилю.
– Я должна тебе сказать все… Многое сказать.
– Приходи завтра днем к метро «Кировская».
– Во сколько?
– В четыре часа.
Дальше Лиля идти не решилась. За поворотом в переулок, где живет Струмилин, ее могла увидеть из окна его жена. А она этого не хотела, хотя не питала к ней ни ревности, ни неприязни. Со слов Струмилина жена его предстала в воображении Лили страдалицей, которая до конца дней своих прикована к постели.
Поцеловав Таню, Лиля попрощалась со Струмилиными, резко повернувшись, быстро пошла назад.
– Папа, а почему ушла тетя?
– Ей нужно домой, дочка.
– А почему ей нужно домой?
Струмилин смотрел вслед Лиле до тех пор, пока она не скрылась за поворотом.
– Зачем ей нужно домой? – переспросил Струмилин. С дочерью отец теперь разговаривал автоматически, бездумно. – Дела у нее дома, дочка, дела…
Еще издали увидел Струмилин в окне своей комнаты бледное лицо жены. Большие серые глаза, окаймленные темно-голубоватыми впадинами, горели болезненно. При виде дочери она замахала руками и, сделав из ладоней рупор, приглушенно крикнула:
– Танечка! Дочка!
Услышав голос матери, Таня подняла голову.
– Папа, смотри, смотри, вон мама! – Вырвав свою пухлую ладошку из руки отца, девочка побежала к подъезду.
В эту минуту Струмилин уже не помнил Лилю. Он видел одно: трепыхающийся голубой бант в светлых кудряшках дочери и страдальчески-счастливые глаза жены.
Когда Струмилин вошел в комнату, Таня уже сидела на коленях у матери и угощала ее «Красной шапочкой». По обе стороны ее на кровати лежали костыли. Одна пустая штанина полосатой пижамы болталась над полом. Больная нога была укутана в теплый шерстяной чулок и обута в войлочный глубокий башмак.
Раздеваясь, Струмилин наблюдал за женой и дочерью. Не замечая никого, обнявшись, словно они не виделись вечность, мать и дочь не могли наглядеться друг на друга.
– Кто тебе купил такие хорошие конфеты?
– Тетя.
– Какая тетя? – удивленно спросила мать.
– Тетя Лиля.
– Какая тетя Лиля?
Таня посмотрела на отца.
Радостная улыбка потухла на лице матери.
– По дороге в детский садик я случайно встретился со знакомой девушкой. С ней мы отдыхали в одном санатории в Одессе. Ну, вот она ее и угостила. Ее зовут Лилей. Я ей много рассказывал о тебе.
Струмилин заметил, как что-то тревожное появилось в глазах жены.
Струмилин подошел к ней, сел рядом и положил свою руку на плечо.
– Почему ты вдруг стала такая грустная? Тебе нездоровится?
Подсознательным чутьем, которое у ребенка временами бывает особенно обостренно и развито сильнее, чем у взрослых, девочка почувствовала, что отец сделал что-то дурное, чем-то обидел мать. Она переводила взгляд с одного на другого.
– Нет, я хорошо себя чувствую. Ты говоришь, ее зовут Лилей? Она интересная? И, наверное, молодая, здоровая, да?
– Лена, перестань.
– Дочка, расскажи мне, какая тетя Лиля? Очень красивая?
Таня оживилась.
– Очень красивая!.. Она мне конфеты купила и поцеловала, когда уходила.
– Лена, зачем ты об этом говоришь с ребенком? Ты что, мне не веришь?
– Коля… – В грудном голосе жены звучали страдальческие нотки. – Сейчас ты мне сказал неправду. Ведь я тебя знаю, милый. Зачем ты от меня скрываешь то, что ты не умеешь скрыть? Ведь я и раньше догадывалась, что у тебя кто-то есть. Это я почувствовала, когда ты приехал с курорта. Ну скажи? Зачем ты говоришь неправду, ведь я тебя и так ни в чем не связываю. Разве не я тебя на курорт почти силой отправила? Не хмурься, дружок, долго я тебя связывать не буду. Ну, от силы год, два…
– Лена!
Губы Лены вздрагивали, по щекам текли слезы. Сквозь поднимающиеся рыдания она тихо, почти шепотом, произнесла:
– Я прошу тебя только об одном: не мучай меня сомнениями, не скрывай от меня эту женщину. Ведь я все знаю. Расскажи мне лучше о ней. Я ничего плохого тебе не сделаю. Ты же знаешь меня, милый. Может быть, мы с ней даже станем друзьями. Ну, не нужно быть таким сердитым. Посмотри на меня. Я знаю, что ты со мной измучился, но что я могу сделать? – Лена обняла Струмилина и поцеловала в небритую щеку.
Таня, обрадованная тем, что намечающаяся размолвка между отцом и матерью постепенно гаснет, свела их руки и что-то начала запальчиво лепетать.
О Лиле в этот вечер больше не вспоминали. Лена делала вид, что забыла о ней совсем, и старалась казаться веселой. Однако веселье ее было тревожным. Прыгая на одной ноге по комнате, она принялась накрывать стол. В этот вечер ей все хотелось делать самой. Таня помогала матери и была безмерно счастлива, когда та подхваливала ее.
– Ну и хозяйка ты у меня растешь! Все-то ты у меня, дочурка, умеешь делать! Прямо совсем стала большая. Гляди, папа, как она хорошо моет стаканы, ну, что же ты не смотришь?
Струмилин поднял голову. И нужно же случиться беде: в тот самый момент, когда Таня почувствовала, что на нее восхищенно смотрит отец, она, перестаравшись, уронила стакан. Он упал на утюг, стоявший на полу, и разбился на мелкие части. Никогда еще не видели мать и отец таких горьких и обидных слез дочери. Долго уговаривали они ее, доказывая, что купят в магазине новый стакан, что тот стакан, который разбился, был плохой, что он очень скользкий, что хорошие стаканы совсем не скользкие и не вылетают сами из рук.
Когда сели за стол, Лена почувствовала себя совсем разбитой. Бодрящая нервозность, которая, словно стальная пружина, двигала ею весь вечер, теперь прошла, и она ела без всякого аппетита, через силу. Потом почувствовала себя совсем плохо. Уронив голову на руки, она слабо проговорила:
– Коля, помоги мне…
Струмилин на руках донес жену до кровати, помог ей удобнее лечь и настежь открыл окно. В комнату хлынула волна свежего сентябрьского холодка. Ознобно поеживаясь, Таня стояла у кровати матери, приложив свою крошечную ладонь к ее лбу.
– Сейчас лучше?
– Сейчас лучше, доченька.
– А сейчас? – Таня, вытянувшись на цыпочках, положила на лоб матери вторую ручонку.
– Сейчас совсем хорошо.
Так, напрягаясь, девочка стояла с вытянутыми руками до тех пор, пока мать не почувствовала, что та начала дрожать от напряжения.
– Хватит, доченька, мне уже хорошо. Ступай, корми папу вторым и сама хорошенько покушай.
Ужин прошел молча. Струмилин ел через силу, не хотел обижать жену, которая всегда огорчалась, когда не могла угодить мужу.








