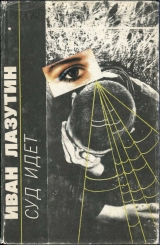
Текст книги "Суд идет"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц)
VI
Светало. На больничном дворе, покрытом сугробами наметенного за ночь снега, медленно и неуклюже поворачивался рыжебородый дворник в залатанной фуфайке, под которую было поддето что-то толстое. Он расчищал дорожку. Всем своим видом он походил на медведя, вышедшего поутру размяться. Отчетливо слышно было, как скреб об асфальтированную дорожку железный наконечник его деревянной лопаты. Этот звук задевал за душу. Он напоминал Ольге неприятный скрежет ножа о тарелку. От этого скрежета по телу ее пробежали мурашки.
«Что с ним? Жив ли? – уже в сотый раз вставал перед ней один и тот же вопрос, ответа на который она ждала и боялась. – А что, если?! Нет! Этого не может быть. Он должен жить!»
Вспомнился случай, когда в прошлую осень, в середине октября, они возвращались из театра. Было уже поздно, моросил мелкий нудный дождь. Фонари на столбах тусклыми пятнами желтели в дождевом мареве. На оголенных мокрых кленах висели таблички: «Берегитесь юза. Листопад!» С шоссе они свернули на Майский просек. Прошли по большой аллее, где в одном из стареньких деревянных домов жила Ольга. Улица была не асфальтирована, заброшена. Грузовые машины за день так размесили на ней грязь, что только в сапогах можно было пройти к дому. Дмитрий нес ее на руках до самого крыльца, увитого желтым, поблекшим плющом. В этот вечер он первый раз поцеловал ее. А потом говорил о том дне, когда останется позади университет и они вместе поедут куда-нибудь далеко-далеко, в Сибирь или на Дальний Восток. Дмитрий был влюблен в Дальний Восток. Он часто, подолгу и увлеченно рассказывал Ольге о поросших дубняком сопках, о море, о людях, населяющих этот богатый и суровый край.
– Девушка, вам кого? – раздался за спиной Ольги хрипловатый голос.
Она оглянулась. Метрах в пяти от нее, с лопатой в руках, стоял дворник. Он неторопливо снял рукавицы, засунул их за пояс и воткнул лопату в снег.
– Я в хирургическое, – ответила Ольга.
Дворник с минуту помолчал, раскуривая подмоченную папиросу. Потом откашлялся и деловито заключил:
– Не пустят. В такую рань никого не пускают.
Ольга подошла ближе к дворнику. Даже на расстоянии от него попахивало водочным перегаром.
– Мне только узнать, как состояние больного Шадрина. У него сегодня ночью была тяжелая операция.
– Все равно в часы приема, с четырех до шести, – спокойно ответил дворник и так зевнул, что у него хрустнуло где-то в скулах. – Приказ есть для всех приказ. Хочь операция, хочь передача, хочь свидание, уж такой порядок.
Дворник бросил в снег папиросу, громко высморкался, надел рукавицы и взялся за лопату.
За чугунной узорчатой оградой, обрамленной пушистым кантом нежного снега, начинал жить своей обычной жизнью большой город. Торопились ранние прохожие. Искрились радужными вспышками троллейбусные дуги. Пофыркивая бензинным дымком, проносились мимо чугунной ограды машины…
«Москва слезам не верит», – почему-то вспомнила Ольга поговорку, которую она в детстве не раз слышала от матери.
Под ногами похрустывал влажный снег. Ольга подошла к подъезду хирургического отделения. Окна приемного покоя были занавешаны. С минуту постояв у порога, она нерешительно поднялась по бетонным ступенькам и чуть приоткрыла тугую дверь. Вошла. Чем ближе была минута, когда она узнает исход операции, тем страшнее ей становилось.
В какое-то мгновение она хотела вернуться назад и скорее, без оглядки убежать с больничного двора, чтобы унести с собой то единственное, последнее, что еще связывало ее с Дмитрием: надежду на его выздоровление.
Но возвращаться было уже поздно. Прямо навстречу ей – это она заметила через стеклянные двери, ведущие в длинный, устланный ковровой дорожкой коридор, – спешила сестра.
Лицо у нее было сердитое. Ольга подумала: «Сейчас прогонит или отчитает».
– Вам кого? – спросила пожилая женщина в белом халате, которую молоденькая девушка, передавшая ей стопку чистого белья, назвала тетей Варей.
– Мне бы узнать, как прошла операция у Шадрина.
– А кто ты ему доводишься? – с тревогой в голосе, которую остро почувствовала Ольга, спросила тетя Варя.
– Я его… – Ольга смутилась, но тут же поправилась и робко ответила: – Я его… сестра…
Сетка морщин на обветренном лбу тети Вари обозначилась резче. Глядя под ноги девушки, она рассеянно ответила:
– Порадовать вас, голубушка, пока нечем. Состояние вашего брата, не буду вас обнадеживать, пока тяжелое. Операция кончилась, но больной все еще лежит без сознания, и вряд ли он… скоро придет в сознание.
«Готовят к последней, самой страшной вести», – мелькнуло в голове Ольги.
– Когда же будет известно?
Тетя Варя скорбно поджала губы.
– Приходите к обеду, может, что и решится. Ручаться нельзя, сами знаете, какая была операция.
Ольга поблагодарила тетю Варю, бесшумно повернулась и вышла из коридора приемного покоя. Остановилась на бетонных ступенях. «Состояние вашего брата пока тяжелое…» – звучал в ушах голос няни.
Когда проходила мимо рыжебородого дворника, тот, еще издали завидев девушку, толчками разогнул свою сутулую спину и, опершись животом на лопату, снял правую рукавицу.
– Ну как, благополучно?
Ольга ничего не ответила и прошла мимо. Ее снова окликнул дворник. Ольга остановилась. Виновато почесывая затылок и словно в чем-то оправдываясь, дворник проговорил:
– Девушка, вы бы мне… на опохмелку, пятерочку, уж я бы вам уважил. Все разузнаю: и как прошла операция и чего просит больной. Только фамилию скажите, а я все сделаю.
Ольга, словно не расслышав просьбы дворника, медленно вышла с больничного двора. Не осенняя дождливая ночь, освещенная тусклыми фонарями, предстала теперь перед ее глазами, а носилки в руках двух здоровенных санитаров. И это низенькое кирпичное здание – последняя крыша над головой тех, кто не возвращается из больницы.
– Нет, нет!.. – отгоняя от себя страшную мысль, твердила Ольга и ускоряла шаг. Она уже почти бежала. – Он должен жить! Это несправедливо! Это жестоко!
А слез все не было. Холодным снежным комом росла в душе обида. На кого – сама не знала. Знала только одно, что в опасности жизнь самого дорогого человека, с которым она в мыслях уже давно соединила свою судьбу. Не раз, лежа в постели, она втайне от всех рисовала подробности их семейной жизни. И вдруг… все должно оборваться.
…А через час, продрогшая, стуча зубами, Ольга снова шла по направлению к клинике. Не дойдя до больничной арки, она свернула в соседний дворик, где дети лепили снегурку.
В этот дворик выходили окна хирургического отделения. На вывеске, прибитой над парадным входом в соседнее здание, было написано: «Детский дом № 12».
Розовощекий веснушчатый мальчуган с серыми веселыми глазами и ямочкой на подбородке нерешительно подошел к Ольге. Шмыгнув носом, он спросил:
– Вам кого, тетя?
– Вы детдомовцы?
– Да, – ответил мальчик. – А вы, случайно, не новая пионервожатая?
– А что, разве к вам присылают новую вожатую?
– Да. У нас была вожатая, да она женилась, а нам нужно такую, чтобы не женилась.
Ольга грустно улыбнулась.
– Глупенький, все пионервожатые когда-нибудь выходят замуж. Вот и ваша вышла.
– Нет, – упорствовал мальчуган, шмыгая влажным носом. – Нам нужно такую, чтоб не женилась.
Поодаль, шагах в пяти за спиной веснушчатого мальчугана, стояла девочка в красном пальто, в белых рукавицах и такой же белой шапочке. Взгляд ее больших синих глаз был печальный и любознательный. Насупившись, она хотела подойти поближе, но не решилась.
– Как тебя зовут? – спросила Ольга у малыша.
– Ваня, – ответил мальчик. – А вас?
– Меня – тетя Оля. А тебя как зовут, девочка?
Девочка по-прежнему молча стояла на месте и, потупив застенчивый взгляд, ножкой выбивала под собой лунку.
– Ну, чего ты дичишься? Не бойся. – Ольга подошла к девочке.
– Нина, – робко ответила та.
– Вот видишь, Ваня смелый, он не боится.
Польщенный, мальчуган выступил вперед.
– Потому что мой папа был летчик, а ее – пехотинец.
– А разве пехотинцы хуже летчиков?
Ваня долго пыжился, потом ответил запальчиво:
– Мой папа Герой Советского Союза, он был летчик-истребитель и сбил восемнадцать самолетов! О нем даже в газетах писали.
– Это хорошо, что у тебя такой папа. А где твоя мама? – спросила Ольга и тут же поняла нелепость своего вопроса, который мог причинить боль ребенку.
Малыш как-то сразу растерялся и понуро опустил голову.
– Мама вышла замуж за дядю Колю, а дядя Коля все время пьет вино и бьет маму. И меня бил.
Ольга попрощалась с детьми и вышла со двора детдома. Нина и Ваня, догнав ее, проводили до ворот, за которые им запрещалось выбегать.
Снова больничный двор. Рыжебородый дворник хмуро оглядел Ольгу с ног до головы, сердито крякнул и отвернулся.
Не дойдя до корпуса хирургического отделения, Ольга увидела, как двое санитаров вынесли на носилках человека, лица которого не было видно. Из-под простыни, которой было накрыто тело покойного, торчали большие ступни мужских ног, обутых в грубые больничные носки. У Ольги захолонуло в груди. Ей не хватало воздуха.
«Неужели?.. Неужели его понесли?!»
– В морг понесли. Еще один богу душу отдал, – прохрипел где-то за спиной Ольги рыжебородый дворник. – Не ваш ли?
Ольга бездумно, медленно пошла по узкой тропинке, проложенной в сугробах. Потом, сама не зная зачем, прижав руки к груди, побежала к моргу. У входа в морг санитары поставили носилки и решили перекурить.
Ольга сорвала с головы покойника простыню и испуганно отшатнулась назад. На носилках лежал труп седобородого человека. Кожа на его ввалившихся щеках натянулась, отчего обнажился оскал редких прокуренных зубов.
От морга Ольга шла точно пьяная. Она невидящими глазами смотрела куда-то вдаль, поверх продрогших в сугробах тополей.
– Ваш? – хрипловатым голосом спросил дворник.
Слов его Ольга не расслышала. Она молча прошла к хирургическому отделению. У ступеней, ведущих к парадному входу в центральный корпус, остановилась.
«А что, если и его вот так же?» – пронеслось в голове, и она уже хотела подняться по ступенькам парадного входа, но в ту же самую минуту двери открылись, и из них, выпуская облако теплого пара, показался высокий молодой мужчина в белом халате. Левой рукой он открывал дверь, а правой поддерживал под руку профессора Батурлинова. Полы меховой шубы старика были распахнуты. Бобровая шапка-боярка надвинута до самых взлохмаченных бровей. Лицо профессора было бледное, но помолодевшее. Сквозь мертвенную усталость проступало и что-то другое, похожее на скрытое торжество. В схватке со смертью он вышел победителем.
– Профессор! – Ольга кинулась к Батурлинову, загородив ему дорогу. Дальше она не могла говорить, слова застревали в горле. В глазах ее застыл немой вопрос: «Что с ним?»
– Долго будет жить ваш Шадрин. Он у вас двужильный, – небрежно, как упрек, сурово бросил профессор и, легонько отстранив Ольгу, направился к «Победе», которая тут же, шагах в десяти, попыхивала голубоватым дымком.
Ольга хотела броситься вслед за профессором, упасть перед ним на колени, целовать его руки, но было поздно: Батурлинов уже сидел в машине. Развернувшись, «Победа» скрылась за больничными воротами.
Медленно и плавно переворачиваясь в воздухе, над больничным двориком кружились мохнатые снежинки. Одна из них упала на щеку Ольги, затрепетала маленькой прозрачной каплей и тут же смешалась со слезами. Невесомо – как тополиный пух в, июне, ложились снежинки на бетонные ступени парадной лестницы.
К Дмитрию Ольгу не пустили. Молоденькая няня с раскосыми глазами, которая ухаживала за Шадриным, сказала, что больной пришел в сознание и чувствует себя удовлетворительно.
– В какой он палате, нянечка?
– В седьмой. – Няня показала на коридор.
С глазами, полными слез, Ольга спустилась в больничный двор и медленно пошла к воротам. Все тот же рыжебородый дворник, который утром просил на опохмелку, участливо проговорил:
– Зря себя горем убиваешь, девушка! Его уже теперь все равно не поднимешь. Судьба…
Только теперь Ольга по-настоящему разглядела лицо дворника. Доброе, широкое русское лицо усталого человека, которому, кажется, немножко нездоровится.
Порывшись в карманах, Ольга нашла в одном из них десять рублей и подошла к дворнику.
– Вот вам, опохмелитесь… Он жив.
Ошеломленный дворник стоял в нерешительности, не смея брать деньги.
– Ну возьмите же, возьмите! – Ольга улыбалась сквозь слезы.
– Что же я, выходит, вроде нищего какого али… – Дворник замялся, сконфуженно глядя то на девушку, то на деньги. – Ежели бы что велели сделать, тогда можно, а так – как же?.. Так нельзя, мы не нищие…
Ольга засунула в карман дворника десятирублевую бумажку.
– Возьмите, я прошу вас! Это для того, чтобы вы выпили за здоровье Шадрина. Он лежит в седьмой палате. – С этими словами она круто повернулась и побежала к воротам.
Проходя мимо дворика, где играли детдомовские ребятишки, Ольга заметила Ваню. Не отдавая себе отчета – зачем, он кинулся к ней навстречу. Бежал неуклюже, широко расставив руки. Так бегут дети к родной матери, издали завидев ее с гостинцами. Какая-то неведомая сила толкнула Ольгу навстречу малышу. Она подхватила его на лету, подняла на руки и принялась целовать в холодные розовые щеки.
При виде слез Ольги глаза малыша также увлажнились. Казалось, каждую минуту он готов был разреветься, сам не зная отчего.
Стайка ребятишек, присмирев, стояла поодаль и недоуменно наблюдала за этой необычайной картиной. Потом к Ольге подошла Нина, с которой она познакомилась час назад.
– Ниночка, чего же ты боишься, глупенькая? Мальчики, идите все сюда! Я что-то расскажу вам интересное! – Ольга оживленно замахала руками, зазывая к себе ребятишек, которые бочком, пока еще нерешительно, продвигались к ней. Каждому из них было не больше шести-восьми лет.
Окруженная детьми, Ольга взяла за руку Ваню и Нину. Цепочка ребят гуськом потянулась в сторону, где белели больничные окна. Под одним из окон первого этажа на красной кирпичной стенке была выцарапана цифра «7». «Кто-то из посетителей нацарапал для приметы», – подумала Ольга и знаком остановила ребят.
– Только слушайте меня, ребята, внимательно! Вон за тем окном, в седьмой палате, лежит тяжело больной человек. Он бывший фронтовик. Он очень храбрый и бесстрашный человек! В боях с врагами он был тяжело ранен. Много лет, с самой войны, он носил в своем теле осколки от немецкого снаряда. Все врачи ему говорили, что эти осколки нельзя вытащить, потому что это будет смертельно, но и жить с ними долго он не мог. Так вот, ребята, сегодня ночью совершилось чудо! Ему сделали сложную операцию. Знаменитый на всю страну профессор Батурлинов вытащил из тела раненого осколки и сказал, что он теперь будет жить долго-долго!
Ольга сказала неправду об осколках, но в эту минуту она была твердо уверена, что в детском сознании эти осколки предстанут в тысячу раз героичней и мужественней, чем какая-то «аневризма аорты». И эти слова подожгли и увлекли детей, которые каким-то первородным инстинктом тянутся к ратным подвигам.
– А он кто был: летчик или моряк? – сверкая черными глазенками, спросил толстенький, как чурбачок, карапуз с монгольскими широкими скулами.
– Он был и десантник, и разведчик. Ночью на парашютах они прыгали с самолета на территорию врага и громили его войска и склады. А еще он воевал на «катюшах». Когда выздоровеет, он сам вам все расскажет и о себе и о войне. Он очень хорошо рассказывает, а сейчас… – Ольга подхватила под руки Ваню и Нину и потянула их в сторону громадной снегурки, сооруженной в дальнем углу двора. Запыхавшись, она остановилась. – Ребята! Чтобы он скорей поправился, давайте эту снегурку перенесем под его окно. Он тоже, как и вы, когда-то был маленьким и лепил снегурок и дедов-морозов.
Дети засуетились вокруг снегурки, не зная, как к ней подступиться, с чего начинать и как ее двигать к больничному окну, за которым лежит только что спасенный воин-герой.
Выручила пионервожатая, молоденькая девушка, которая, боясь помешать ребячьему азарту, стояла чуть в стороне и слышала весь разговор Ольги с детьми. Одетая в потертое коричневое пальто, под которым четко обозначались ее худенькие лопатки, она вначале показалась Ольге робкой школьницей, неведомо зачем забредшей на детдомовскую площадку. Но когда вожатая подняла над головой руку и громко сказала: «Ребята! Внимание!», Ольга почувствовала, что эта энергичная девушка может увлечь детвору.
– У меня идея!
Окруженная детьми, вожатая повернулась в сторону Ольги и спросила:
– Скажите, пожалуйста, как фамилия раненого, о котором вы сейчас говорили?
– Дмитрий Шадрин.
– Так вот, ребята, кто за то, чтоб второе звено нашего пионерского отряда взяло шефство над бывшими фронтовиками, которых лечат в этой больнице?
Детдомовский дворик огласился галдежом.
– А теперь, ребята, за дело! – скомандовала вожатая.
Дети со всех ног кинулись к снегурке. Вожатая остановила их:
– Стойте! Эту снегурку не трогать! Слепим новую, еще больше и красивей! А рядом со снегуркой – громадного деда-мороза. Итак, ребята, за работу!
Вывернувшись из детской стайки, вожатая отбежала в сторону и, скатав маленький комок, покатила его по белой простыне еще неутоптанного, липкого снега, который сохранился в уголке двора.
Об Ольге забыли. Она стояла в стороне. «Как мало им нужно для большой радости», – подумала она, глядя на разрумянившихся детей, которые сооружали снегурку перед окном седьмой палаты.
VII
Операция прошла успешно. О ней много говорили врачи. Судили-рядили о ней и больные, которые (как от них ни скрывай) всегда знают, чем живет больница. Докатился слух об этой блестяще выполненной операции и до опытнейших хирургов других клиник Москвы. Что касается старых, консервативных врачей, то те втайне считали: тут помогла счастливая случайность, так как чудес на свете не бывает. Слухи эти доползли и до больного Шадрина, который теперь уже знал, на что он был обречен. Проговорилась няня. На четвертый день после операции, когда Дмитрию стало значительно лучше, она бесшумно вошла в палату и, боязливо оглянувшись на дверь, озабоченно поджала губы.
– Моли бога, что приехал Гордей Никанорыч, а то б тебе… все говорят… – Чувствуя, что она может сказать лишнее, тетя Варя закончила: – Ажнык сами врачи ужахаются, вот какой он, Гордей-то Никанорыч. Тебя-то, детка, спас, а сам в тот же вечер слег. Говорят, от нервного переутомления давление повысилось. Сам профессор Кулешов сразу на тот же день поехал к нему. Вот уже третий раз ездит, говорит, что пошел на поправку.
В этой с виду ворчливой нянюшке, которая иногда любила пожурить больных, Дмитрий вдруг почувствовал близкого человека. Ему хотелось встать и обнять эту добрую старенькую няню, которой давно бы уже пора идти на пенсию, а она все еще с утра до вечера ползает на коленях с мокрой тряпкой под койками, поправляет ночью сползшее с больного одеяло, украдкой молит бога, чтоб он помог тому несчастному, которого завтра ждет трудная операция.
Еще до войны, когда Дмитрий мальчуганом был в Севастополе, он увидел знаменитую Севастопольскую панораму. Больше часа слушал пояснения экскурсовода, который рассказывал о легендарном сражении 1854–1855 годов. Защита Севастополя была запечатлена великим художником на громадных полотнах. И, странно, почему-то из сонма лиц – начиная от адмирала Нахимова и кончая самым незаметным солдатом – ему особенно отчетливо врезался в память почти святой лик первой в мире сестры милосердия Даши Севастопольской. С красным крестом на рукаве, с иконкой и зажженной свечой в руках, она, простая русская женщина, дочь моряка, стоит над умирающим солдатом. Сколько святого мужества во всем ее спокойном облике! В эту минуту она забыла обо всем: о том, что она женщина, что за спиной свистят пули и рвутся чугунные ядра, что и ее на каждом шагу подстерегает смерть, которая только сейчас скосила солдата.
Боясь неосторожно повернуть голову, Дмитрий взглядом следил за няней. В какое-то мгновение своим разгоряченным воображением Дмитрий представил, что на полу, рядом с его койкой, ползает не тетя Варя, а постаревшая и ссутулившаяся Даша Севастопольская. Та же кротость в лице, с годами чуть-чуть огрубевшем, та же самоотреченность.
В палате, где лежал Шадрин, было еще два человека. Против койки Дмитрия стояла койка Феди Бабкина, неунывающего остряка и балагура, которому, судя по его рассказам, – а в них он отводил себе не последнюю роль, – за войну пришлось не раз поваляться в военных госпиталях.
Когда тетя Варя неосторожно задела локтем за угол тумбочки, Федя нервно вздрогнул и быстро вскинул голову.
– Безобразие! Раз в жизни увидел толстый кошелек на дороге и то не дали подобрать! Разбудили!
Тетя Варя подняла на больного удивленные глаза: не бредит ли? Но Федя не бредил. Проснувшись, он уже тянулся рукой к тумбочке, где лежали папиросы.
– Эх, тетя Варя! Что ты наделала! Если б ты видела, какой это был кошелек! Кожаный, толстый, прямо сотенные из него так и выпирают. Эх, мать честная! – Федя причмокнул языком и сокрушенно покачал головой.
– Да будет уж тебе лопотать-то чего не следует! – не понимая, о каком кошельке идет речь, отмахнулась няня.
– С места не сойти! – Федя перекрестился, поддразнивая богомольную старушку. – Сам видел, целая пачка. Только протянул я руку за кошельком, а тут кто-то как хватит меня по шее, я и проснулся. Даже в руках не подержал. – Федя горестно вздохнул. – Тысяч двадцать, не меньше. Куда там «Москвич» – на «Победу» бы поднатужился. Вот они какие дела-то, тетя Варя. Промеж пальцев уплыли денежки… и все из-за вас.
Тетя Варя поправила выбившуюся из-под белой косынки седую прядь. Она хотела что-то ответить Бабкину, но в это время дверь в палате открылась, и няню позвали к дежурной сестре. Уходя, она неожиданно, в самых дверях, резко остановилась и увидела, как Федя разминает папиросу.
– Ты гляди у меня! Только закури! – Тетя Варя пригрозила пальцем и кивком головы показала на Шадрина.
Когда дверь за няней закрылась, Федя положил папиросу на тумбочку и, сидя на постели, нащупал босой ногой тапочек. Вторую ногу он потерял на Волховском фронте. Осторожно, точно опасаясь, как бы внутри у него что-нибудь не лопнуло, он накинул на плечи халат, встал и, подхватив костыли, сделал плавный, точно на пружинах, большой шаг к двери. Но тут же круто остановился и строгим долгим взглядом оглядел палату.
– Лучанский, ты жив еще?
Небольшому толстенькому Лучанскому три дня назад вырезали аппендикс. Несмотря на то что легкая операция прошла как нельзя удачно и безболезненно, Лучанский третий день не шевелился. Он лежал в постели с таким страдальческим видом обреченности, точно из него выпотрошили все внутренности, и если он еще остался жив пока, то только за счет счастливой случайности.
На громкий окрик Феди Лучанский слегка вздрогнул и тихо простонал:
– Что ты надо мной издеваешься? Разве нельзя разговаривать потише?
– Я спрашиваю, ты жив еще? – громче спросил Федя.
Лучанский не отвечал. Он даже не пошевельнул губами. Обоим им врач строго-настрого запретил подниматься с постели неделю. Однако, несмотря на запрет, Федя мог пролежать спокойно только два дня. На третий он потихоньку, так, чтоб не видели врач и няни, добрался до курительной комнаты, где ходячие больные из других палат уже успели соскучиться по его неиссякаемым рассказам и анекдотам.
Встретившись с умоляющим взглядом Лучанского, Федя сделал озабоченное лицо.
– Ну ладно, Лева, ты меня извини. Хочешь, я поддам что-нибудь оптимистическое?
Федя расстегнул халат, намотал на поясницу одеяло, подпоясался полотенцем и снова застегнулся. Фигурой он стал походить на растолстевшего старца, у которого бедра шире, чем плечи. Сгорбившись и болезненно покашливая, Федя подхватил свои костыли и медленно зашагал по палате. Запричитал зловеще, обреченно, с трагической безнадежностью:
– Все в землю ляжем, все прахом будем… Какая разница, кто нынче, а кто завтра? Ведь говорила же няня, что умер недавно один больной после операции аппендицита. И все почему? Да потому, что судьба. И операция, говорят, прошла удачно, и чувствовал себя больной прекрасно, а вот возьми на четвертый день и зацепись в живое у него кишочка за кишочку. А там рядышком что-то лопнуло, вроде пленочка-перепоночка какая-то. И приключился антонов огонь. По-научному, сепсис, заражение крови. А все почему? Да потому, что громко чихнул. А почему, спрашивается, чихнул? Да потому, что в нос табачинка попала. А почему, спрашивается, эта самая сволочная злодейка-табачинка в нос попала?
Федя вошел в роль. Понизив голос, он почти шепотом продолжал:
– Да потому, что судьба этой табачинки в нос попасть.
Осторожно прикрыв одеялом голову, Шадрин еле сдерживал смех, от которого в глубине груди, чуть пониже ключицы, больно покалывало.
– Федор, перестань паясничать! – с трудом подавив смех, сказал Дмитрий, когда Бабкин был уже в дверях.
– Несерьезный человек, – еле слышно простонал из угла Лучанский, продолжая лежать неподвижно. Когда Федя вышел из палаты, он еще тише и еще беспомощнее простонал: – Товарищ Шадрин, а это правда, что кто-то умер после операции аппендицита? – спросил и, скосив глаза, остановил свой страдальческий, молящий взгляд на Шадрине.
Два чувства боролись в Шадрине: жалость к больному человеку, чрезмерная мнительность которого причиняет ему больше страданий, чем сама болезнь, и какая-то неосознанная брезгливость к мелкому малодушию. Но жалость победила.
– Шутит он. Разве вы не видите? Это же – Теркин после войны. Вы на него не обижайтесь, другим он быть не может. А насчет смерти от аппендицита – это он загнул, чтоб вас попугать. Я читал в одном медицинском журнале, что за последние двадцать лет – а там как раз приводятся статистические данные советской хирургии, – так вот, за последние двадцать лет еще не было во, всей стране ни одного случая смертности от операции аппендицита. Раз вовремя вырезали – значит, все в порядке!
Дмитрий говорил неправду: никаких статистических данных по хирургии он нигде, никогда не читал. Ему просто хотелось утешить человека.
Глаза Лучанского подернулись мягкой поволокой от радости и надежды.
– Вы удивительный человек! – несколько ободренней, но все так же беспомощно и не пошевельнув ни одним пальцем, произнес Лучанский. – Вы знаете, от вас веет верой в жизнь, оптимизмом! И еще чем-то таким, чему трудно дать название, но… – Лучанский замялся, потом сентиментально закончил признанием, что он очень рад, что его положили в одну палату с Шадриным, который защищает его от грубых выпадов Бабкина.
От этих слащавых душевных излияний Шадрину стало неловко. Он уже пожалел, что нейтрализовал шутку Феди, напугавшего Лучанского смертью от аппендицита. Дмитрий нажал кнопку звонка. Пришла тетя Варя.
– Няня, сегодня ко мне пустишь посетителей?
– Сегодня пущу, – ответила тетя Варя, заправляя одеяло на койке Бабкина. – Вот непоседливый воробей: так и скачет, так и скачет!
Ругала, а в глазах светилась материнская доброта. «Да, я не ошибся, – подумал Дмитрий, наблюдая за каждым движением тети Вари. – Это постаревшая Даша Севастопольская».








