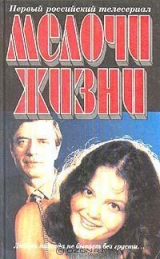
Текст книги "Мелочи жизни"
Автор книги: Георгий Полонский
Соавторы: Максим Стишов,Аркадий Ставицкий,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 38 страниц)
– Он договорился?
Маша неопределенно пожала плечами:
– Вроде бы...
«Вот ведь какая... – со злостью подумал Сергей. – Словно не она, а я пустил ее жизнь под откос. Хоть бы сейчас повела себя по-человечески...» Он сжал кулаки, чтобы чуть-чуть прийти в себя, успокоиться. Очень хотелось курить, но он боялся, что если уйдет, то начать разговор будет еще сложнее.
– Вроде или договорился? – медленно проговорил Сергей.
– Говорит, что договорился, – нехотя ответила Маша.
– Целую, – проворковала Катя и положила трубку. – Он говорит, чтобы ты перестала психовать. Все действительно в порядке. Саше уже ничего не грозит. И вообще, надо поскорее позабыть обо всем.
Маша провела рукой по спутавшимся волосам, выбившимся из хвостика:
– Кать, почему я должна верить, что теперь все будет в порядке? Кто такой, в конце концов, Гоша, чтобы решать такие вопросы! Он кто? Бандит? Уголовник? А может быть, он что-то от нас скрывает? Например, что он и есть крестный отец!
Катя с улыбкой, как на тяжело больную, посмотрела на Машу, усмехнулась:
– Он твой брат. Тебе этого недостаточно? – Она помолчала, глядя на нее все с той же скептической улыбкой опытного хирурга, рассматривающего прыщ. – Неужели ты думаешь, что можно иметь свой магазин и никого не знать в этом мире?
– О Господи! – испугалась Маша. – Он что, общается с уголовниками?
– Ну вот, тебе только не хватало еще и за Гошу волноваться. – Катя быстро подошла к ней, поцеловала. – За него я и сама поволнуюсь! – Она поцеловала и Сергея. – Все! Я побежала! Гоша с товарищем ждут меня на улице. – Она выскочила в коридор, там что-то с грохотом упало на пол. Держа в руке куртку, Катя выскочила из коридора: – Ну и темень у вас! Я сейчас чуть инвалидом не осталась! – Она натянула куртку. – Мы идем в казино! Не кисните! – И, послав им воздушный поцелуй, она выскочила из комнаты. Входная дверь хлопнула, и все стихло.
Маша и Сергей неподвижно сидели на противоположных сторонах дивана. Ни она, ни он не решались начать разговор, чувствуя, что им нелегко будет сегодня провести вдвоем вечер.
– Ты думаешь, обойдется? – наконец сказала Маша.
– Я верю Гоше – коротко ответил Сергей.
– Господи, Господи, Господи!.. – тяжело вздохнула Маша.
Опять тишину квартиры нарушил телефонный звонок.
Маша, сидящая рядом, вздрогнула так, что Сергей заметил это по диванным пружинам. Он удивленно посмотрел на жену, потом на телефон. Догадавшись, в чем дело, подошел:
–Да...
Игорь Андреевич вот уже пятнадцать минут тщетно пытался отвлечься от своих мыслей. Спустившись в зал, он вызвал двух манекенщиц, попросил их надеть новые модели. Попытался докричаться до светотехника, но тщетно. Послал на поиски Регину.
Сидя один в полутемном зале, пытался сконцентрироваться на работе, и это ему почти удалось, но как только в зале зажегся свет и на подиум вышли две девочки-близняшки, понял, что может только смотреть и создавать видимость работы. Ни одной стоящей мысли... Словно заноза сидит в мозгу. Нет, надо разобраться, надо выяснить, в чем дело. Эта неопределенность давила сильнее, чем обида. В конце концов, он не мальчик и вполне способен справляться со своими чувствами, если это потребуется. Посидев для вида еще минут двадцать, он прервал репетицию и, поблагодарив всех присутствующих, быстро вышел.
Регина многозначительно посмотрела ему вслед. Она, привыкшая видеть жизнь своего босса не только с внешней стороны, догадывалась, какая буря была сейчас в душе этого полуседого, странноватого, но несомненно очень талантливого человека... Прикрикнув на техника и отпустив девочек, она уверенной походкой хозяйки вышла из зала.
Едва зайдя в кабинет, Шведов без проволочек подошел к телефону, набрал номер. Долгие гудки отвлекали, мешали ему сочинять на ходу фразы, которые обязательно нужно было успеть сказать, прежде чем она бросит трубку. Вот наконец ответили... Шведов уже было открыл рот, но услышал мужской голос.
– Говорите. Вас слушают, – спокойно проговорил ее муж.
Шведов попытался представить себе того инженера, вспомнить его голос. Но у него ничего не получалось. Свободной ладонью он сжал лоб и быстро положил трубку.
Сергей без слов тоже положил трубку. Он постоял немного, подошел к Маше. Робко положил сначала руку на плечо, присел рядом. Она посмотрела на него с удивлением. Такое родное лицо... Он не выдержал, притянул Машу, прижал ее голову к себе. Она сидела холодная и неподвижная. Ему стало горько. Отпустив ее, Сергей встал, быстро оделся и, хлопнув дверью, выбежал на улицу...
Глава семнадцатая. СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ
В последнее время Анатолий Федорович все вечера просиживал перед телевизором. Раньше, насколько он помнил, его нельзя было удержать на одном месте больше часа. Деятельный характер не позволял засиживаться. Теперь это успокаивало. Вот и сейчас, сидя на диване, он почти не обращал внимания на происходящее на экране. Шел какой-то документальный фильм. Серые улицы сменялись темными сырыми подвалами, озлобленные лица в очередях – равнодушными физиономиями чиновников. Что-что, а такие программы он не любил.
Анатолий Федорович встал. Старые диванные пружины выпрямились со звуком, напоминающим вздох облегчения. Размял затекшие ноги, поморщился. Да, с каждым годом здоровье уходило все быстрее и быстрее. Теперь он уже с завистью вспоминал себя каких-нибудь полгода назад. Тогда у него еще не так болели ноги и не было этой раздражающей, колющей боли в пояснице, которая постоянно напоминала о старости.
Он пошел на кухню, поставил на плиту чайник. На улице начинало темнеть. Прямо напротив окна медленно зажегся фонарь. Надтреснутое стекло засветилось сначала бледнофиолетовым, а затем серебристо-розовым светом. Где-то во дворе надрывно залаяли собаки.
Двумя руками сняв с огня полный чайник, он наполнил чашку и медленно сделал глоток. «Вот и состарились мы с Аннушкой, – подумал Анатолий Федорович. – Опустел дом. Дети выросли, а скоро и внуки обзаведутся семьями. Того и гляди, положат в ящик и понесут на кладбище». Ему стало совсем грустно. Скорее бы пришла Аня. Она как-то легче все переносит. Правду говорят, что мужчине требуется гораздо большая поддержка, чем женщине, особенно в старости.
Тишина начала давить на него. Анатолий Федорович взял чашку и быстро пошел в комнату. На экране он увидел длинный коридор, стены которого были покрашены бледно-зеленой краской, облупившейся в некоторых местах. У стены стояла узкая лавка, вероятно предназначенная для посетителей. Несколько ироничный голос за кадром рассказывал:
«Вот здесь он и умер... На этой самой скамейке в районном собесе. Некогда могущественный начальник, хозяин нашего города, а ныне обыкновенный пенсионер обыкновенного значения. Что ж, такова судьба этого поколения людей, отдавших жизнь ложной идее».
Крупным планом показали фотографию. «Бог ты мой, да ведь это...» – Анатолий Федорович застыл в дверях. Изображение исчезло, побежали титры. Диктор что-то проговорила сквозь немного неестественную улыбку. На экране замелькали какие-то лица, картинки.
Анатолий Федорович прислонился к косяку. Вот это да... Умер... «Отдавших жизнь ложной идее»... Тоща этот человек думал, что его идея никак не может быть ложной. Наоборот, он полагал, что Анатолий Федорович встал на неправильный путь, и очень жестоко покарал его, выгнав из партии. Тоща это было очень страшно.
Только какая сейчас между ними разница? Никакой. Оба, оказывается, «отдали жизнь ложной идее». Одной и той же, только видели они ее по-разному.
Анатолий Федорович немного приглушил звук телевизора. Сделал несколько осторожных шагов, словно что-то обдумывая. Поставил чашку на телевизор. Потом опять взял, отнес на кухню. И, наконец решившись, снял трубку телефона и, мельком взглянув на листочек с цифрами, набрал номер:
– Алло, алло! Это милиция? Вас беспокоит Кузнецов... Анатолий Федорович. Попросите, пожалуйста, следователя Зубкова.
Уже открывая входную дверь, Анна Степановна услышала голоса, раздающиеся из комнаты. Она узнала Машу, Сергея и Катю. Быстро скинула сапоги, повесила пальто, торопливо поправила юбку. В комнате были еще Гоша, Зубков и Юлька. В центре стола сидел в своем лучшем костюме, при галстуке и даже при боевых орденах Анатолий Федорович.
– Аня, здравствуй. – Он проговорил это торжественно, словно на собрании. – Извини, что не предупредил, но у нас, как видишь, гости. Это я их пригласил.
Уставшая, немного бледная, Анна Степановна улыбнулась, засуетилась, поправляя выбившиеся из прически волосы.
– Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Толя, что же ты меня не предупредил? Я же с дежурства, совершенно не подготовилась. Даже угощения, наверное, никакого нет. Печенье хоть осталось?
– Ба, опять ты в своем репертуаре. Проще надо быть. К тому же с пустыми руками люди сейчас в гости не ходят, тем более такие интеллигентные, как мы, – протянула Юля, не отрываясь от какой-то потертой газеты.
Катя, какая-то немного грустная сегодня, улыбнулась, подошла к Анне Степановне, тронула за рукав:
– Мам, мы все купили. Юля, пойдем на кухню, похозяйничаем.
Заодно уступи место бабушке, а то смотри – мужчины делают вид, что это их не касается. Сергей поспешно встал:
– Садись, мама.
– Сиди, сиди, Сереженька. Я здесь пристроюсь, рядом с Михаилом Васильевичем. Мишенька, вы позволите?
Хотя Анна Степановна и пыталась скрыть беспокойство, но оно нет-нет да и проявлялось в напряженной улыбке, немного неестественной позе, в какой она опустилась рядом с Зубковым. А как иначе? Раньше они с мужем всегда вместе решали, когда пригласить детей, чем угостить. Но в последнее время встречи стали довольно редки: кто работает, кто учится. И вдруг такая неожиданность. Да еще Анатолий Федорович сидит такой серьезный, словно Рокфеллер, собравшийся оглашать завещание. Что он придумал?
Единственным человеком, который мог хоть как-то прояснить это темное дело, был Зубков. Ведь не зря Анатолий Федорович пригласил следователя на семейный вечер.
– Что случилось, Михаил Васильевич? – спросила она у замершего рядом следователя. Как-то сразу оживившись, Зубков развернулся к ней всем корпусом и зашептал:
– Все нормально, Анна Степановна. Не волнуйтесь. – Было видно, что он чувствует себя здесь лишним. Но, не имея возможности уйти, старается держаться как можно более непринужденно.
– Это все из-за папки? – сделала предположение Анна Степановна.
Зубков кивнул.
Наконец Анатолий Федорович, хранивший до сих пор молчание, выпрямился в своем кресле, обвел взглядом всех присутствующих. Такие родные, давно знакомые лица. Сейчас они смотрят на него с ожиданием и легким недоумением. Поймут ли?
– Давненько мы не собирались вот так вот, все вместе... Почему так редко стали общаться?
– Наверное, потому что жизнь сейчас нелегкая, Анатолий Федорович, – ответила за всех Маша.
– Согласен, Мария. Только когда она была легкая? В тридцатые годы? В войну? Во времена застоя, как теперь говорят? – Все смотрели на него с интересом, пытаясь понять, о чем дальше пойдет разговор. Только Сергей стоял у окна и, казалось, думал о чем-то своем.
Гоша зашевелился на своем стуле, заерзал:
– Отстаете, Анатолий Федорович. Теперь говорят не «застоя», а «застолья». Хорошее время было. Можно было не работать, а делать вид. Сейчас за это деньги уже не платят.
– И застолье, Гоша, было, все было... – Анатолий Федорович замолчал на мгновение и, словно прочитав мысли собравшихся, продолжил: – Вот вы на меня смотрите и думаете: что за блажь такая пришла старику созвать вас сегодня к себе да еще пригласить товарища из милиции? Кстати, кто с ним не знаком, представляю: Зубков Михаил Васильевич.
Зубков опять оживился, кивнул тем, кого не знал, и, не кстати порозовев, добавил:
– Можно просто Миша. Я ведь здесь неофициально.
– Пап, это прямо детектив какой-то. – Сергей отошел от окна, сунул руки в карманы брюк, прошелся по комнате. – Если ты сейчас не объяснишь, в чем дело, я подумаю, что какой-то негодяй свистнул фамильные драгоценности или оттяпал через суд родовое поместье.
– Какие уж тут драгоценности... Разве они когда-то у нас были? Недавно я передачу смотрел о человеке, который умер в собесе. И подумал, что ведь тоже могу вот так...
Все зашевелились. Стало ясно, какие невеселые мысли заставили старика собрать родственников.
– Что вы, Анатолий Федорович. Вы у нас еще... ого-го! – сказала Маша.
– Только прошу тебя, Мария, не надо сегодня никакой фальши даже от чистого сердца. Для меня это, может быть, последний шанс высказать все, что на сердце накипело за последние годы, а вы, хотите не хотите, будете слушать, потому что вам, как у Агаты Кристи, – Анатолий Федорович обернулся к Сергею, – интересно, чем все кончится и почему здесь Михаил Васильевич, или просто Миша. – На лице Анатолия Федоровича появилась хитрая улыбка.
Аромат начинавшего поджариваться мяса становился все более настойчивым. Гоша, встав со стула, сделал несколько шагов в сторону двери. Взял из шкафа первую попавшуюся на глаза книгу, перелистнул страницу и осторожно попытался выйти, но столкнулся в дверях с разрумянившимися Юлькой и Катей.
– Скоро все будет готово, – затараторила с порога Юля. – Дедунь, так на чем мы остановились? Можешь мне не пересказывать, на кухне прекрасно слышно.
Маша подошла к Сергею и, вяло взглянув в окно, прошептала:
– Господи, детектив какой-то затеял. А у меня завтра контрольная и три балбеса.
Сергей незаметно кивнул:
– У меня компьютер горит и на днях приезжают французы.
Юля порхала около стола, расставляя тарелки:
– Дед, продолжай, пожалуйста. Мне очень интересно. – Она поставила последнюю тарелку, поправила скатерть и уселась напротив Анатолия Федоровича.
– Спасибо, внучка. Тебе и буду говорить, а остальные хотят – прислушаются, хотят – нет... Так вот, я сейчас обыкновенный пенсионер, как сострил один журналист, обыкновенного значения. На Манеж не хожу, к «Белому дому» тоже. А митинг, он у меня здесь идет, – он положил руку на грудь, – непрекращающийся, бурный митинг. Одни ораторы во мне кричат: да здравствует демократия, реформы, племя младое и незнакомое, таких, как моя внучка, которые совсем в иные ценности будут верить, чем мы... А другие: караул, товарищи, что с нами сделали, с целым поколением? Я не беру сейчас левых или правых, замшелых догматиков или интеллигентов, а просто все тридцать пять миллионов граждан России, которых называют пенсионерами! Что с нами сделали?! – Анатолий Федорович, возбужденный от горячих слов, оглядел присутствующих, останавливаясь на каждом лице.
–Да, пенсионеров безумно жалко, – заговорила Маша. – Но ведь у вас сейчас неплохая пенсия, Анатолий Федорович. У нас учителя меньше получают. Или возьмите врачей, медсестер. Скажите, Анна Степановна.
– Да что там говорить...
– Прости, мама. А вы думаете, мы процветаем? – вступила в разговор молчавшая до сих пор Катя. – Как бы не так! Я все-таки мастер высшей категории, с дипломом гримера. Ко мне раньше клиенты за месяц вперед записывались, а теперь что? Жены мужей стригут, мужья – любовниц, все приватизировались, выручки хре...
– Катя! – одернула Анна Степановна.
– Извините. Ну а ты, братик, зазнался, как в фирму поступил? Кстати, по блату, наверное?
Маша, задетая резкими словами, исподлобья взглянула на Катю:
– Оставь этот тон. Ты все-таки из интеллигентной семьи. А фирма, что ж... У них сейчас одни только перспективы. Между прочим, надо иметь немалую смелость, чтобы в наше неопределенное время работать в частной фирме. Чуть что – останешься без работы.
– Да что вы в самом деле... – поморщился Сергей. – К чему все это...
Но тут вступил Зубков, слушавший до сих пор с профессиональным вниманием.
– По-моему, сейчас процветают одни банкиры и спекулянты, – сказал он, сухо кашлянув.
Катя пристально посмотрела на него, медленно перевела взгляд на Гошу и усмехнулась. Зубков опустил голову и опять порозовел.
– Наконец-то! – Гоша все еще держал в руках книгу и по-клоунски кланялся, откидывая далеко назад руки. – Все уставились на акулу капитализма, которая затесалась среди честных тружеников. Только, увы, братцы, я не банкир и не спекулянт, а простой трудяга бизнесмен, который вместе с трудягами фермерами и прочими частными собственниками пытается вытащить вас из болота. А вы...
– Ну давайте же деда слушать, он ведь о другом! – не выдержала Юля.
– Да, я о другом, не о материальном, – отозвался Анатолий Федорович. – В конце концов, к голоду, холоду и даже крови мы уже привыкли... Я сын репрессированного. Отца расстреляли, мать в ссылку, рос в детдоме. И что же: вырос нормальным советским человеком, гомо советикус, как сейчас говорят. В комсомол вступил с третьего раза, на стройке вкалывал, физкультурником был, «Марш энтузиастов» пел...
– А «Где так вольно дышит человек... » пели? – ехидно вставил Гоша.
– Пел, Гоша, пел... И между прочим, от души. Я этого не стыжусь, потому что моя это биография, и другой у меня не будет. Правда, по ночам в подушку по родителям плакал, но ведь они у меня были коммунистами и воспитали сына таким же энтузиастом, что и сами. Конечно, задумывался: а за что их? А других за что?
За столом воцарилась тишина. Гоша уже несколько раз бросал тревожные взгляды в сторону кухни, с тихим свистом втягивая носом воздух. Он уже давно бросил книгу и оставил надежду выйти из комнаты незамеченным. Нет, конечно, можно было выйти, может быть, сейчас никто ничего и не сказал бы, но потом придется вынести поток бесконечных упреков в черствости. Это он знал точно. И поэтому решил не рисковать.
– Ох Боже, сколько мы уже слышали этих исповедей, – нарушила молчание Маша. – Ну к чему липший раз мучить себя, Анатолий Федорович? Все ведь уже кончилось.
– Да, отец, ну к чему это? – обрадованно поддакнул Сергей, надеясь, что скоро все закончится. – Давай, знаешь...
– Нет, вы меня послушайте, – прервал Анатолий Федорович, – иначе не будет финала как у Агаты Кристи. Ага, испугались, любопытно все-таки, что там приберег старик на конец своей повести? А сыщик зачем здесь сидит? То-то.
– Сейчас он про войну начнет, – тихо простонал Гоша.
Анатолий Федорович негромко рассмеялся:
– Правильно, мальчик, угадал: про нее. Скучно, да? Но я тут коротко. Добровольцем пошел, был связистом, ранен, ну и так далее.
– А что же про ордена не говоришь, пап? – спросила Катя.
– Это которыми на Арбате торгуют? Нет, не буду. Главное, знал почему воюю, кто враг и за что умру, если не повезет. Нашим бы ребятам это сегодня знать...
– Мясо... – вяло сказал Гоша.
– Что-что? – не понял Анатолий Федорович.
– Ничего особенного. Просто, судя по всему, на кухне горит мясо.
Юля, вскрикнув, опрометью кинулась на кухню, откуда действительно начал доноситься запах гари. За ней побежала и Катя. Через секунду послышалась громкая возня, грохот сковороды.
– Ну вот, сейчас еще и сгорим все... вместе с мясом, орденами, воспоминаниями и прочей требухой. – В голосе Гоши чувствовалось торжество.
– Праздничный ужин отменяется, – грустно известила Юля, стоя на пороге комнаты. – К желающим отведать пустых салатов просьба поднять руки. Что, нет желающих? Баба с возу – коню легче.
Казалось, Анна Степановна, задумавшись, не обратила особого внимания на происшедшее. Она вздохнула и тихо заговорила:
– Иногда к нам в больницу привозят ребят из этих... «горячих точек». Мне один паренек раз и говорит: «В меня, бабушка, наш, русский, стрелял. За деньги, подлец, из меня инвалида сделал».
– Кстати, я с Аней, Анной Степановной, тоже в госпитале познакомился, – заулыбался Анатолий Федорович. – После войны, когда осколочек доставали. Она была, как сейчас, медсестрой. А ваш покорный слуга был студентом четвертого курса истфака областного пединститута, МОПИ сокращенно.
Зубков, воспользовавшись отсутствием Кати, смущавшей его не просто своим взглядом или словами, но даже и просто присутствием, достал неизвестно зачем блокнот и ручку, положил аккуратно на стол и вклинился в разговор:
– Вопрос по ходу дела можно, Анатолий Федорович? Папочки свои вы давно начали собирать?
– А-а... К делу перейти не терпится, Михаил Васильевич? Скоро дойдем, но сначала я про себя в конце пятидесятых – начале шестидесятых расскажу, потому что без них этих самых папочек не понять.
Гоша наклонился к Маше:
– Сейчас про Сталина начнет, спорим?
– Кузен, помолчи, – мягко улыбнулась она.
– Да, Сталин... – продолжил Анатолий Федорович. Гоша тихо прыснул. – Он для одной части моего поколения как крест, а для другой – до сих пор знамя. Хотя вообще-то и для них крест. Я иногда по ночам просыпаюсь и думаю, думаю: как же это могло случиться, что человек моего отца убил, мать в ссылке старухой сделал, а я все это знал и все равно ему верил и даже любил. Ей-богу, любил! – Он достал из кармана смятую бумажку. – Я это в день его смерти написал, между прочим в первый и последний раз в жизни в рифму. – Анатолий Федорович отнес бумажку подальше от глаз, прищурился. – «Умер Сталин, руке непослушно перо, кровью пишутся эти слова, а в залитых слезами глазах – лицо, дорогое лицо вождя. Кем он был нам: учителем, другом, отцом? Он был всем. Он как будто бы сам был сиянием жизни, ее творцом, идеалом всем честным сердцам. Помнишь, друг, его имя шептала тебе, над кроваткой склонившись, мать. Помнишь, имя его произнес твой отец перед тем, как ушел умирать. Шли года, ты учился, работал, любил твою родину, твой комсомол, ты... »
– Анатолий Федорович, миленький, ну не надо, – первой не выдержала Маша, зажимая ладонями уши. Гоша сотрясался в приступе бесшумного хохота.
– Хорошо, не надо. Скверные стихи, верно. – Он бережно спрятал бумажку в карман.
– А мне понравилось, – заступился Зубков. – Рифма, может, и так себе, а душа есть, и это самое главное. И про отца и мать – здорово. Я вот на митингах работаю, так там всякого про этого Сталина наслушался. Коммики – те все про порядок, а демроссы про лагеря. А что, разве не может быть порядка без лагерей? В Штатах может, в Люксембурге может, а у нас – нет?
– Мы все с вами согласны. – Маша уже устала и очень хотела домой.
– Вот Екатерина Анатольевна, по-моему, не согласна, – пробормотал Зубков.
– Я просто не понимаю, зачем ты... вы здесь. – Катя была вне себе: сначала это сгоревшее под ее чутким руководством мясо, а теперь – пытающийся заигрывать Зубков.
– Он пришел по моему приглашению, – в свою очередь заступился Анатолий Федорович. – И прошу моего гостя не обижать. А про Двадцатый съезд на митингах еще говорят Михаил Васильевич?
– Нет, забыли все давно.
– А я вот не забыл. Ведь он всю жизнь мою перевернул, Двадцатый. Я был рядовым членом партии: на фронте вступил. А после Двадцатого – я тогда уже в институте истории работал – мы все, кто помоложе, стали называть себя его детьми. Это время было самым счастливым в моей жизни. Аня, помнишь?
– А то нет. На крыльях тогда летал.
– Все летали. Ведь то, что произошло тогда со мной и с моими друзьями, было чудом! Мы себя вдруг... коммунистами почувствовали. Не рядовыми той сталинской гвардии, а мыслящими, умными, гуманными коммунистами. Евтушенку цитировали, Окуджаву пели.
Маша задумчиво продекламировала:
– «И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной...»
– Да-да, это была наша любимая, – подхватил Анатолий Федорович. – Такое настроение было. И не помню уже, у кого возникла эта идея: написать новую историю партии – объективную, честную, правдивую до мелочей. Чтобы ни одно, как говорится, достижение не пропало, – а я и сейчас считаю, что они были, – но и чтоб вся правда как на ладони. В общем, лозунг был такой: «ничего не охаивать, но и ничего не утаивать!»
Гоша только покачал головой, Сергей попытался скрыть улыбку. Анатолий Федорович встал, сделал несколько шагов, нервно потер руки:
– Но я же говорю, что мы в чудо верили. И пошли к начальству, и оно нас поддержало, хотя все было прежнее, сталинское. Но чего у них не отнимешь, так это то, что если был приказ верить в чудо, то они становились во фрунт и гаркали: «Есть!»
– М-да, а теперь становятся во фрунт и гаркают: «Нет!» – все засмеялись над Гошиной шуткой.
– Дед, ну все понятно: вас обманули, книгу вашу запретили, да еще, наверное, в антисоветчине обвинили, – сделала предположение Юля.
– Обвинили одного руководителя нашей группы Наума Пташникова, его тоща из партии выгнали.
– А его, – Анна Степановна кивнула на мужа, – в шестьдесят восьмом, за Чехословакию. У них тоща партсобрание было, я ему говорила, чтобы не ходил, а он не послушался и проголосовал там против.
– Не против, Аня. Не делай из меня героя. Я всего лишь воздержался. Но и этого было достаточно. Кстати, вот жизнь: человек, который тогда меня выгонял из партии и института, – это тот самый, что в собесе помер. А мне, представляете, его жалко.
– Ну и зря, – холодно проговорил Гоша.
– Сострадание, Гоша, не бывает зря или не зря.
Юля слушала Анатолия Федоровича с неподдельным интересом, положив голову на сложенные на столе руки.
– Дед, а что было потом? – спросила она.
– А потом началось застолье, которого у нас сегодня, увы, уже не будет, – опять влез Гоша.
Катя недовольно посмотрела на него:
– Сиди со своим застольем. – И добавила тихо, наклонившись к самому Гошиному уху: – Сегодня, наверное, он скажет, кто взял эту самую папку. Не зря же здесь Зубков.
– Так что же было потом, дед? – переспросила Юля. – Ты стал диссидентом?
– Я? – Анатолий Федорович покачал головой. – Нет, я в школу ушел и тянул там до пенсии. А диссиденты... Не собирался об этом вспоминать. Тяжело и стыдно. Но, наверное, придется. В начале семидесятых повадился я каждое пятое декабря в день сталинской конституции на площадь Пушкина ходить. Там собирались они, диссиденты во главе с Андреем Сахаровым и Петром Григоренко.
Юля приподняла брови:
– И что они делали?
– А ничего. Только ровно в шесть снимали шапки. Ну, это был как бы салют тем их товарищам, кто сидел в лагерях и тюрьмах, и еще протест против нарушений прав человека, записанных, кстати, в этой самой конституции.
– Ну и протест... Кепочку снял – и привет, – пожал плечами Гоша. – Мы в августе у «Белого дома» тоже собирались, так там не только кепки приподнимали.
– Ты не прав, Гоша, – возразил Анатолий Федорович, – та кепочка стоила ничуть не меньше. Представь: кругом гебисты, милиция и эти... с повязками.
– Дружинники, что ли? – подсказал Сергей.
– Черт их знает. Но от них исходила какая-то животная ненависть и злоба к этой кучке диссидентов. А Андрей Дмитриевич снимал шапку, и снег падал на его голову. Ну а я стоял поодаль и смотрел. Мне хотелось подойти к ним, встать рядом, но я не смел. Боялся. А Наум Пташников был среди них. У него тоже двое детей. И так продолжалось несколько лет. Я смотрел, а они стояли с непокрытыми головами под улюлюканье дружинников. Один раз я набрался смелости и подошел к Андрею Дмитриевичу. Он был окружен людьми. Я протиснулся, схватил его руку и пожал. Он сказал, не знаю, мне или кому-то еще: «Если вы хотите позвонить мне, то мой телефон такой-то». Я тогда записал, но так и не позвонил ни разу. – Анатолий Федорович умолк. Посидел как-то уже совсем по-стариковски ссутулившись. – Ну а потом пришел Горбачев, и я снова воспрянул. Конечно, уже не было прежней молодости, энергии, да и здоровье стало пошаливать. Но у меня ведь были мои папки, а в них документы, которые я скопил за долгие годы! И я решил, вот выйду на пенсию и осуществлю нашу старую идею: напишу правдивую, честную историю партии. Пусть на глобальную силенок уже не хватит, но хотя бы для таких, как моя внучка.
– А Наум Пташников? – поинтересовалась Юля.
– Он уехал... Да почти все из той нашей группы к тому времени или уехали, или умерли, а кое-кто сделал карьеру, в ЦК уже работал. В общем, я стал готовиться к этой книге, составил план, сделал черновые наброски, писал заявки. На это ушло два года. А потом начал ходить по издательствам. Прихожу в одно, другое, мне говорят: «Извините, но нас эта тема уже не интересует». Понимаете, не «нельзя», не «еще не время», как раньше, а просто «не интересует» – и все. «Как же так, – говорю, ведь молодежь должна это знать!» «А молодежь, – отвечают, – сейчас другими вещами интересуется. Да и бумага стала дорожать». А одна дама прочитала мою заявку и сказала: «Знаете, все лагеря и расстрелы нам уже надоели. Хочется чего-то свеженького». Да что эта дама... Я своему сыну хотел кое-что почитать, а он: «Прости, отец, но меня уже не волнует, что сказал Бухарин Сталину и что ответил Ленин Троцкому, у меня свои проблемы».
Катя одобрительно рассмеялась. Анна Степановна дернула ее за рукав. Сергей стушевался, развел руками:
– Отец, я...
– Не оправдывайся, Сергей. Я никого не обвиняю. Я просто констатирую: все, чем я жил все эти годы, во что верил, за что страдал, если угодно, все это оказалось никому не нужно. Финиш. Как у Чехова в «Дяде Ване»: у меня пропала жизнь. И если бы только я один – тридцать пять миллионов ваших дедов и отцов, бабушек и матерей из-за этого мучаются. Да, вы жалеете нас, повышаете нам пенсии, походя гладите нас по головке, спеша по своим делам, но. вы не понимаете и никогда не поймете, что у нас творится на душе.
Все притихли. Теперь даже Гоше было не до смеха. Зубков не поднимая глаз теребил блокнот. Катя задумалась, опустив голову. Маша и Сергей посмотрели друг на друга, и в глазах у них были одни и те же мысли. Ведь действительно привыкли, что где-то там живут старики. Тихо живут, спокойно. Иногда позванивают, тревожат глупыми расспросами о здоровье, о делах. Изредка просят помочь, но чаще все делают сами. Ничтожной пенсии едва хватает на продукты. Но кто же против, если надо помочь деньгами? А вот выслушать, понять так, как хотелось бы, чтобы поняли тебя самого, – это уж увольте. Но и с этим мирятся добрые старички. Но до поры. Пока не закипит в душе отчаяние.
– А папка, которую у меня якобы украли, вот она. – Анатолий Федорович взобрался на стул, достал со шкафа пыльную синюю папку. Спустился, с трудом сгибая ноги. Зубков даже на месте застыл с открытым ртом, выпустил из рук блокнот. Гоша легонько присвистнул. – В один из дней, когда кошки скребли на душе, как сейчас, я взял первую попавшуюся и спрятал, а Анне Степановне сказал, что она пропала. Сам не знаю почему. Ну а Анна Степановна сразу в милицию звонить, и все такое. Хотел остановить, а потом махнул рукой... Не могу это объяснить. Могу только извиниться перед милицией и лично перед вами, товарищ следователь. Если мало, оштрафуйте, или что там еще полагается в тех случаях, когда душа у человека не на месте.
Анатолий Федорович в полном молчании подошел к окну, постоял.








