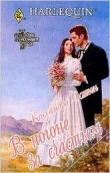Текст книги "Хороший немец"
Автор книги: Джозеф Кэнон
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц)
– Вы настоящий доктор?
– Какой вы правильный, спрашиваете о дипломе, – заметил Розен, затем вздохнул и сделал еще один глоток кофе. – Я учился в медицинском институте в Лейпциге, но меня, конечно, выкинули. Я стал доктором в лагере. Там о дипломе никто не спрашивал. Не волнуйтесь, я знаю, что делаю.
– И теперь работаете на Дэнни.
– Нужно на что-то жить. Этому тоже в лагере учишься. – Он поставил чашку кофе на стол и собрался уходить. – В общем, не забудьте про таблетки, – сказал он, вставая. – Я приду завтра. Как с деньгами?
Джейк протянул ему несколько банкнот.
– Этого достаточно?
Он кивнул.
– Надо будет еще на пенициллин.
– Сколько угодно. Только достаньте. Но она поправится?
– Если не будете гонять ее на панель. По крайней мере, к русским. Они все больны.
– Она не проститутка.
– А я не доктор. Что за тонкости. – Он встал, чтобы уйти.
– Во сколько завтра?
– После наступления темноты. Но, пожалуйста, не так поздно, как сегодня. Даже ради Дэнни.
– У меня нет слов для благодарности.
– Вам и не надо меня благодарить. Заплатите и все.
– А насчет нее вы ошибаетесь, – сказал Джейк, удивляясь, к чему он это говорит. – Она порядочная женщина. Я люблю ее.
Лицо Розена смягчилось. Он удивился словам, взятым из забытого языка.
– Да? – Он снова отвел уставшие глаза в сторону. – Тогда не спрашивайте об аборте. Просто давайте ей таблетки.
Джейк подождал, пока на лестнице не затихли его шаги, и закрыл дверь. Не спрашивать. А как он может не спросить? Все равно что рисковать своей жизнью. Вопрос гигиены. Он поставил чашку в раковину. Выключил свет и, обессиленный, пошел по коридору.
Она спала. Умиротворенное лицо в мягком свете лампы. Именно так он всегда и представлял себе. Они оба в постели, в его постели, слились в объятиях, как будто нет никакой войны. Но пока все было не так. Он опустился в кресло и снял ботинки. Подождет здесь до рассвета, потом разбудит Ханнелору, чтобы дальше дежурила она. Но пружины в кресле не давали ему покоя, как и мысли. Он встал, подошел и, не снимая формы, лег с другой стороны кровати. Поверх простыни, чтобы не будить ее. Когда он протянул руку, чтобы выключить свет, она беспокойно пошевелилась во сне. А потом, когда он уже лежал, уставившись в темноту, взяла его руку и сжала.
– Якоб, – прошептала она.
– Ш-ш. Все нормально, я здесь.
Она беспокойно метнулась, медленно помотав головой из стороны в сторону, и он понял, что она спит, а он – часть ее сна.
– Не говори Эмилю, – сказала она, словно голос ее был где-то не здесь. – О ребенке. Обещай мне.
– Обещаю, – сказал он. Тело ее расслабилось, рука мирно покоилась в его руке, а он, широко раскрыв глаза, лежал, уставившись в потолок.
Лина проспала почти весь следующий день, словно одно присутствие Джейка рядом дало ей наконец поболеть, отменило необходимость вставать. Он же тем временем занялся делами: джип, как ни странно, был на месте; снял деньги со своего армейского счета; закупил продукты в гарнизонной лавке, уставил ими все полки, завалил весь пол; взял смену одежды на Гельферштрассе. Мелочи быта. Бросил старенькую портативную машинку в мешок с одеждой. Сказал старикам, что отлучится на день-два, и спросил, если у них еда, которую он может забрать? Еще банки. Старик вручил ему что-то завернутое в бумагу, размером с кусок мыла.
– В Германии давно уже никто не ел масла, – сказал он, и Джейк кивнул, как конспиратор.
В пресс-центре, куда он заглянул, чтобы забрать почту, были сэндвичи и пончики. Он наполнил ими еще один пакет.
– О, кому-то везет, как я посмотрю, – сказал Рон, вручая ему пресс-релиз. – Сегодняшняя программа, если тебе интересно. И подробности ужина, организованного американской делегацией, – отлично повеселились. Нет, правда. Я слышал, Черчилль здорово нажрался. Возьми сэндвичи с окороком, они это любят. У самих фройляйнтеперь окорочка худоваты. Резинки нужны?
– Слушай, ты дождешься.
Рон усмехнулся:
– Потом сам спасибо скажешь. Ты же не хочешь вернуться домой с гнойником между ногами. Кстати, в кинохронике ты всем понравился. Материал, наверное, пойдет.
Джейк озадаченно посмотрел на него и просто пожал плечами, не желая продолжать разговор.
– Не исчезай, – сказал Рон вслед торопливо уходившему Джейку.
Но он уже исчез. Потсдам вместе с алкашом Черчиллем был уже за миллионы милей от него. Проезжая мимо флагов перед штаб-квартирой, он вдруг почувствовал, что покидает чужую страну, салютующую сама себе – поставщику жратвы в консервах. Он оглядел полные рюкзаки на соседнем сиденье. Будут есть из банок, но зато будут сыты. При ярком солнечном свете виллы и деревья Грюневальда были прекрасны, как всегда. И как он не видел этого раньше? Мчась по Курфюрстендамм, он не замечал руин – только радостное утро. На мгновение ему показалось, что улица, как и прежде, вся в магазинах. Важно, чтобы Лина как можно больше пила, – не будет обезвоживания. Суп – лекарство каждой мамочки.
Как и предсказывал Рон, Ханнелора налегла на сэндвичи.
– Боже мой, ветчина. И белый хлеб. Неудивительно, что вы выиграли войну, если так питались. А мы голодали.
– Один хоть оставь, а? – сказал он, видя, как она поглощает сэндвичи. – Как Лина?
– Спит. Так может спать только она, отключилась. А это что?
– Суп, – сказал он, ставя кастрюлю на газовую плиту.
– Суп, – повторила она, как ребенок в рождественскую ночь. – Еще банка найдется? Моя подруга Анна-Мария будет так благодарна.
При мысли о том, что она уберется из квартиры, он, расщедрившись, вручил ей две банки и пачку сигарет в придачу:
– Это тебе.
– «Лаки-Страйки», – произнесла она по-английски. – Вы – неплохой парень.
Когда он принес суп, Лина уже проснулась и смотрела в окно. Все еще бледная. Он пощупал ей лоб. Уже лучше, чем вчера, но температура еще держится. Он стал кормить ее супом, но она, сев прямо, забрала у него ложку.
– Я сама.
– Мне нравится тебя кормить.
– Ты из меня инвалида сделаешь. Я и так обленилась.
– Не бери в голову. Для меня нет ничего приятнее.
– Тебе надо работать, – сказала она, и он засмеялся – признак жизни: именно так она всегда его гнала за пишущую машинку.
– Хочешь чего-нибудь еще?
– Принять ванну, только горячей воды нет. Это ужас, как мы воняем.
– Я не заметил, – сказал он, целуя ее в лоб. – Давай посмотрим, что можно сделать.
Это заняло целую вечность. Кипяток, казалось, моментально остывал, едва касался фаянса. Он, как медленный конвейер, таскал кастрюли с газовой плиты, пока наконец в ванне не набралось немного воды, не слишком горячей, но уже достаточно теплой. Он вспомнил Гельферштрассе и окутанную паром ванну.
– Мыло, – удивилась она. – Ты где его достал?
– Армейское. Давай, прыгай.
Но она замешкалась, застенчивая, как и прежде.
– Ты не против? – спросила она, показав на дверь.
– Раньше ты не была такой скромной.
В той же ванне, вся в пузырьках на груди, она посмеивалась над ним, когда он, похлопывая полотенцем, вытирал ее насухо, сам промокнув до нитки.
– Прошу тебя. Я такая худая.
Он кивнул, закрыл за собой дверь и прошел в спальню. Здесь было сыро, несмотря на открытые окна. Смятые простыни, которые Ханнелора не меняла, очевидно, неделями. Ну а как ей было стирать их? Самая мелкая домашняя работа превращалась в пытку.
В шкафу он нашел другой комплект и сменил постель, прислушиваясь к плеску за стенкой. Больничные штампы в углах, плотные швы.
Он мыл на кухне посуду, когда она, вытирая голову, вышла из ванной. Она стала такой чистенькой, как будто темные круги под глазами были просто грязью.
– Я помою посуду, – сказала она.
– Нет, ты ляжешь в постель. Несколько дней я тебя побалую.
– Твоя машинка. – Она подошла к столу и коснулась клавиш.
– Другая. Та где-то в Африке. Эту я доставал чертовски долго.
Она снова коснулась клавиш. Он увидел, как задрожали ее плечи. Подошел к ней и повернул к себе лицом.
– Так глупо, – сказала она, плача. – Пишущая машинка. – И, припав к его плечу, обняла его, чистые волосы коснулись его лица, и он окунулся в них.
– Лина, – сказал он, чувствуя, как она, плача, вздрагивает. Вот такое бы проявление чувств тогда на вокзале.
Она уткнулась в него головой. С минуту они постояли так, держа друг друга в объятиях, пока он не почувствовал, что от ее волос начинает исходить жар. Он отодвинулся и кончиками пальцем смахнул слезы с уголков ее глаз.
– Может, отдохнешь, а?
Она снова кивнула.
– Это все температура. – Вытерла глаза и взяла себя в руки. – Так глупо.
– Так и есть, – сказал он.
– Обними меня, – попросила она, – как всегда делал.
И через мгновение он уже больше ни о чем не думал – такое счастье, что все вокруг словно испарилось. Но ее волосы снова взмокли от пота, и он почувствовал, как она, ослабев, наваливается на него.
– Пошли, я уложу тебя в постель, – сказал он и, обхватив ее рукой, повел по коридору. – Простыни чистые, – сказал он, довольный собой, но она, кажется, даже не обратила внимания. Скользнув в постель, она закрыла глаза. – Поспи.
– Нет, поговори со мной. Это же как лекарство. Расскажи мне об Африке. Не о войне. Как там?
– В Египте?
– Да, в Египте.
Он сел на постель и убрал ей волосы назад.
– У реки очень красиво. Представляешь, лодки под парусами.
Она нахмурилась, пытаясь представить себе.
– Лодки? В пустыне?
– Храмы. Огромные. Я тебя туда обязательно свожу, – сказал он, и поскольку она не ответила, стал описывать Каир, старый сук, [56]56
Базар в мусульманских странах.
[Закрыть]пирамиды специй, пока не увидел, что она наконец задремала, уносимая сном, как лодочка под парусом.
Он закончил мыть посуду и привычно сел за пишущую машинку. Лина была права: ему надо работать. Через день-два от него ждали статью, а здесь был тот же старый стол, где он, бывало, печатал материалы для радиопередач, посматривая на полную жизни площадь. Сейчас улица была практически пустынной. Только обычный жидкий поток армейских грузовиков и беженцев, но в такой знакомой обстановке к нему вернулось вдохновение. Он начал печатать, и комната заполнилась треском, как от старой граммофонной пластинки, вытащенной с самого низа стопки.
«Потсдам крупным планом» – такую статью можно было написать и на основании слухов и фотографий. Но ему подвернулась возможность оказаться там самому, лицом к лицу с Большой Тройкой, чуть ли не посидеть с ними за покрытым сукном столом переговоров, – единственный журналист, побывавший там, «Колльерс» это понравится. Может, даже на обложку вынесут. Приправить деталями от очевидца – звезда из красных гераней, печные трубы, русские патрули. Затем по контрасту написать о центре Берлина, о своей поездке в первый день, о Черчилле на ступеньках Рейхсканцелярии, поставить себя на место Брайана Стэнли, который не будет возражать, да и, скорее всего, никогда не прочтет. Наш человек в Берлине. Не о том, что произошло в действительности – подлое убийство, вернувшее его жизнь в прошлое, – а о том, что устраивает «Колльерс», этого будет достаточно для продления контракта. И в завершение – футбольный матч, реальное укрепление мира, пока Большая Тройка заседает. Когда он закончил, оказалось, что статья получилась на тысячу слов длиннее, но это уже проблема «Колльерс». Он был опять в деле. Пусть режут Квента Рейнолдса.
Розен пришел перед ужином, уже не крадучись и даже извиняясь.
– Мистер Элфорд объяснил ситуацию. Простите, если я…
– Ладно, забыли. Вы здесь, и это самое главное. Она спит.
– Да, хорошо. Вы ничего ей не сказали – о том, что я вам говорил? Иногда это как-то ранит, даже после всего. Их возлюбленные возвращаются, считая, что их тут все ждут. Это непросто.
– Мне плевать.
– Да? Редкий случай.
Еще одна берлинская история, которая никуда не вписывается, ни споров, ни слез. Он подумал о солдатах, переплавлявшихся через Ландверканал в тот день. Они были уже почти дома.
На этот раз Розен принес градусник.
– Немного лучше, – сказал он у постели, измерив температуру. – Пенициллин сработал. Чудо-лекарство. Из плесени. Представляете?
– Сколько еще?
– Пока не станет лучше, – ответил он неопределенно. – Одним уколом инфекцию не убьешь. Даже чудо-лекарством. А теперь, гнэдиге фрау,пейте, спите и все – никаких магазинов. – Дружеское пожелание больному, как будто где-то еще есть магазины. – Думайте о хорошем. Иногда это помогает лучше всего.
– Он обо мне заботится, – сказала Лина. – Простыни поменял. – Заметила наконец.
– Неужели, – удивился Розен, оставаясь немецким мужчиной.
Выйдя из спальни, Джейк вручил ему деньги.
– Вам нужны продукты? – спросил он, показывая на банки. – Из армейской лавки.
– Пожалуй, немного тушенки, если поделитесь.
Джейк протянул ему банку.
– А, помню, – сказал Розен, посмотрев на нее. – Когда мы вышли, американцы давали такую. Мы не могли есть слишком жирная. Нас бы пронесло. И мы все выбросили – прямо у них на глазах. Они, наверно, обиделись. Ну откуда им знать. Извините меня за прошлую ночь. Иногда тошнит не только от трупов. От морали тоже.
– Не надо объяснений. Я видел Бухенвальд.
Розен кивнул и повернулся к двери:
– Продолжайте давать таблетки, не забывайте.
Лина настояла, что встанет к ужину. Поэтому за столом они сидели втроем. Ханнелора пузырилась от счастья, как будто укололась, а не съела сэндвич с ветчиной.
– Подожди, сейчас увидишь, что я раздобыла на станции «Зоопарк», Лина. За десять сигарет. Она просила пачку, а я ей говорю: кто же отдаст пачку за платье? Даже десять много, но я не смогла устоять. К тому же почти новое. Я тебе покажу. – Она встала и приложила платье к телу. – Видишь, как хорошо скроено? Шила явно по знакомству. Ты только посмотри, как сидит. И даже здесь не слишком узко.
Она без тени смущения сняла платье и натянула новое на комбинацию.
– Видишь? Ну, может, убрать чуть здесь, а в остальном прекрасно, как ты считаешь?
– Прекрасно, – сказал Лина, глотая суп. Щеки немного порозовели.
– Не могу поверить, что мне так повезло. Сегодня же вечером надену.
– Куда-то собираешься? – спросил Джейк. Неожиданный бонус к походу за покупками. Квартира в их распоряжении.
– Конечно, пойду. Почему бы и нет? Представляете, на Александерплац открылся новый кинотеатр.
– Русские, – сказала Лина угрюмо.
– Ну, некоторые очень даже ничего. И деньги у них есть. Кто там еще может быть?
– Больше никого, полагаю, – сказала Лина безразлично.
– Правильно. Конечно, американцы лучше, но никто из них не говорит по-немецки, за исключением евреев. Вы это будете доедать?
Джейк отдал ей свой кусок хлеба.
– Белый хлеб, – сказала она, ребенок с конфеткой. – Ну, надо одеваться. Представляешь, они живут по московскому времени. Все начинается так рано. Ну не психи ли – у всех же есть часы. Оставьте посуду, я сама потом помою.
– Сам справлюсь, – сказал Джейк, зная, что ничего она не помоет.
Через минуту он услышал журчание воды в ванной, потом запахло духами. Лина закончила есть и откинулась на спинку стула, глядя в окно.
– Я приготовлю кофе, – сказал Джейк. – У меня для тебя гостинец.
Улыбнувшись ему, она снова посмотрела в окно.
– На Виттенбергплац никого. А раньше столько народу было.
– Вот, попробуй. – Он поставил кофе и протянул ей пончик. – Если макать, вкуснее.
– Это некультурно, – засмеялась она, однако изящно макнула и откусила.
– Ну, как? Нипочем не догадаешься, что черствые.
– Как я выгляжу? – сказала, входя, Ханнелора. Волосы снова уложены, как у Бетти Грэйбл. – Хорошо сидит? Вот тут нужно будет убрать. – Она ущипнула себя за бок. Затем собрала сумочку. – Поправляйся, Лина, – сказала она беззаботно.
– Только смотри, никого не приводи, – сказал Джейк. – Я совершенно серьезно.
Ханнелора скорчила ему рожицу – ну вылитый непокорный подросток, и выдохнула:
– Ха! – Слишком занята собой, чтобы сердиться. – На себя посмотрите, старичье. Не ждите меня, ложитесь спать, – заявила она и закрыла за собой дверь.
– Старичье, – сказала Лина, помешивая кофе. – Мне еще и тридцати нет.
– Тридцать – это ерунда. Мне тридцать три.
– Мне было шестнадцать, когда Гитлер пришел к власти. Подумать только, всю мою жизнь – одни нацисты и больше ничего. – Она посмотрела на руины. – Они отняли все, правда? – сказала она задумчиво. – Все эти годы.
– Не надо себя изводить, – сказал Джейк, и, когда она вымученно улыбнулась, он, потянувшись через стол, взял ее руку. – Мы все начнем сначала.
Она кивнула:
– Иногда это не так легко. Все бывает.
Он отвел глаза. Стоит ли спрашивать? Но это, кажется, удобный случай.
– Лина, – сказал он, не глядя на нее, – Розен сказал, ты делала аборт. Это был ребенок Эмиля?
– Эмиля? – Она чуть ли не рассмеялась. – Нет. Меня изнасиловали, – ответила она просто.
– О, – только и сумел он сказать.
– Тебе это неприятно?
– Нет. – Быстро, не раздумывая, солгал он. – Как…
– Как? Как обычно. Русский. Когда они захватили больницу, насиловали всех подряд. Даже беременных.
– Боже.
– Ничего особенного. Тогда, в конце, это было обычным делом. Посмотри, как тебя перекосило. Мужчины любят насиловать, но не любят говорить об этом. Одни женщины. Только и разговоров было – сколько раз? Ты не заболела? Я после этого долго боялась, что заразилась. Но нет, вместо этого маленький русский. И тогда я от него избавилась, но заработала другую инфекцию.
– Розен сказал, это не венерическое.
– Нет, но и детей больше не будет, думаю.
– А где тебе его сделали? – спросил он, представляя темный переулок, клише его юности.
– В больнице. Нас было столько, что русские организовали больницу. «Эксцессы войны». Сначала тебя насилуют, а потом они…
– А врача нельзя было найти?
– В Берлине? Ничего не было. Мои родители были в Гамбурге – одному богу известно, живы ли они. Идти некуда. Мне об этом сказала подруга. Бесплатно, сказала она. Так что еще один подарочек от русских.
– А где был Эмиль?
– Не знаю. Убит. Во всяком случае, не здесь. Его отец еще жив, но они не общаются. Я не могла пойти к нему. Он винит во всем Эмиля, можешь себе представить.
– Потому что вступил в партию?
Она кивнула:
– За его работу. За все, что произошло. Но его отец… – Она взглянула на него. – Ты знал?
– Ты никогда не говорила.
– Нет. А что б ты сказал?
– Думаешь, для меня бы это что-то значило?
– Может, для меня, не знаю. И эта комната, когда мы приходили сюда, и все остальное – где-то там. Эмиль, прочее. Где-то далеко. Ты понимаешь, о чем я?
– Да.
– В любом случае, он не был одним из них.Он не политик. Его интересовал только институт. Его цифры.
– Что он делал во время войны?
– Он никогда не рассказывал. О таких вещах было запрещено говорить. Но, конечно, это было оружие. Они все этим занимались, все ученые – создавали оружие. Даже Эмиль, вечно с головой в книгах. А что еще они могли делать? – Она посмотрела на него. – Я не оправдываю его. Это была война.
– Знаю.
– Он сказал: оставайся в Берлине, тут лучше. Он не хотел, чтобы я становилась частью всего этого. Но когда бомбардировки превратились в кошмар, женам было разрешено поехать вместе с ними. Чтобы мужья не беспокоились. Но как я могла тогда уехать? – сказала она, уставившись в чашку. На глаза наворачивались слезы. – Какое это имело значение? Я не могла уехать из Берлина. После того, как Петер… – Она замолчала, уйдя в воспоминания.
– Кто такой Петер?
Она подняла на него взгляд:
– Забыла сказать. Ты же не знаешь. Петер был нашим сыном.
– Твой сын? – Его невольно кольнуло. Семья – но чужая. – И где он?
Она опять уставилась в чашку.
– Убит, – сказала она безжизненно. – Во время налета. Ему было почти три. – Ее глаза опять наполнились слезами.
Он накрыл рукой ее руки.
– Не надо, не рассказывай.
Но она его не слышала, заговорила быстро, изгоняя из себя слова:
– Я его оставила в детском саду. И зачем я это сделала? По ночам он был со мной в убежище. Спал у меня на коленях, не плакал как другие. И я подумала: ну, все закончилось, еще одна ночь. Но затем пришли американцы. И тогда они стали делать так: англичане ночью, американцы днем. Беспрерывно. Помню, было одиннадцать утра. Я пошла в магазин, когда раздался вой сирены, и я, конечно, бросилась назад, но меня схватил патруль – всем в бомбоубежище. Ну, я и подумала, детский сад – безопасное место, у них глубокий подвал. – Она смолкла на мгновение и посмотрела в окно. – После налета я пошла туда, а он исчез. Исчез. Всех завалило. Нам пришлось откапывать их. Целый день, но вдруг они живы. А затем, когда их стали вытаскивать, одного за другим, женщины завыли. Нам пришлось их опознавать, понимаешь. Вой стоял стеной. Я чуть с ума не сошла. «Успокойтесь, успокойтесь, вы их напугаете». Представь, что тебе такое говорят. Но самым безумным было то, что у Петера – ни царапинки, ни капельки крови, как он мог умереть? Но он был мертв. Весь синий. Позже мне сказали, это от асфиксии, просто перестаешь дышать, никакой боли. Но откуда они знают? Я просто просидела с ним на улице весь день. Не могла двинуться, даже патрульные ничего не могли сделать. Зачем? Знаешь, что такое потерять ребенка? Вы оба умираете. После этого все иначе.
– Лина, – сказал он, останавливая ее.
– Можешь думать только об одном: зачем я его там оставила? Зачем я это сделала?
Он поднялся, встал у нее за спиной и стал, успокаивая, поглаживать ей плечи.
– Это пройдет, – сказал он тихо.
Она вынула носовой платок и высморкалась.
– Да, знаю. Сначала я не верила. Но он мертв, я знаю, с этим ничего не поделаешь. Иногда я совсем об этом забываю. Это ужасно?
– Нет.
– Я вообще ни о чем не думаю. Вот так и сейчас. Знаешь, о чем я мечтала во время войны? Что ты приедешь и спасешь меня – от бомб, от всего, что тут происходит. Как? Не знаю. С неба спустишься, может, еще как-нибудь безумно. Появишься у двери, как вчера, и заберешь меня. Как в сказке. Как принцессу из замка. И вот ты здесь, но уже поздно.
– Не говори так, – сказал он, развернул ее стул и, нагнувшись, посмотрел на нее. – Еще не поздно.
– Да? Ты все еще хочешь спасти меня? – Она провела пальцами по его волосам.
– Я люблю тебя.
Она замерла.
– Снова услышать это. После всего, что произошло.
– Все закончилось. Я здесь.
– Да, ты здесь, – сказала она, обхватив его лицо руками. – Я считала, что ничего хорошего меня уже не ждет. Как мне поверить? Ты все еще любишь меня?
– И не переставал. И ты меня любишь.
– Но после такого ужаса. И я так постарела.
Он коснулся ее волос.
– Мы оба – старичье.
Этой ночью они спали, прижавшись друг к другу. Его рука обнимала ее, как щит, через который не проникнут даже дурные сны.